Текст книги "Опасные советские вещи"
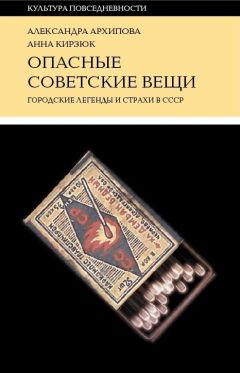
Автор книги: Александра Архипова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Самое «невинное» подозрение по поводу незнакомого торговца касалось соблюдения им санитарных норм. Так, один наш информант в детстве «не покупал самодельные сладости типа петушков из‐за преувеличенных представлений об антисанитарии – бабка в туалет сходит, руки не помоет и ими же туда лезет»[389]389
М. Т., м., 1969 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть]. Чтобы уж наверняка отбить у детей желание купить на рынке леденец или пирожок, родители рассказывали им об отвратительных добавках, которые встречаются в этих лакомствах:
Гораздо серьезнее были подозрения в использовании человеческого мяса, о которых дети последнего советского поколения могли слышать от бабушек:
В 1970‐е годы бабушка говорила, что мясо надо покупать только в магазине, а если на рынке, то у «своего» мясника. Я спросила «почему?». Она сказала, что запросто могут продать собачье мясо или даже человеческое. Помню, что испытала жуткий шок[391]391
В. Д., ж., 1960 г. р., Москва (личное сообщение на Facebook).
[Закрыть].
Не случайно частым персонажем детских страшилок становится частная торговка – «старуха с рынка»: именно она продает пирожки или котлеты, в которых покупатель затем обнаруживает жуткие находки в виде человеческого пальца, колечка или ноготка пропавшей девочки.
Важно понимать, что причина «опасности» таких покупок заключалась совсем не в самом продукте, а, во-первых, в кустарном способе его производства, а во-вторых, в том, что покупатель не был лично знаком с продавцом. Если те же самые петушки на палочках продавались в булочной (так бывало, но редко), они не вызывали никаких подозрений. Если продавцом петушков была частная, но лично знакомая торговка, ни у кого из покупателей не возникало мысли о том, что леденцы могут содержать отвратительные и опасные субстанции:
Вокруг нашего двора [в Кривом Роге] был частный сектор, в одном из домов жила баба Люба. Летом, каждый день она вытаскивала к калитке огромную алюминиевую миску с жареными семечками и пучок петушков разных цветов (красные, желтые, зеленые). Петушки были насажены на самодельные лучины и стоили пять копеек. Бабу Любу знали все в округе, дети покупали у нее петушки без проблем, никто ни разу не отравился, поэтому и запретов на петушки в нашем дворе не было[392]392
Д. Д., ж., 1964 г. р., Кривой Рог, сейчас – Рига (личное сообщение на Facebook).
[Закрыть].
Советский и американский Голиаф: недоверие или принуждение
Очень часто в появлении еды с чужеродными добавками (contaminated food stories) в американском случае обвиняли не владельцев мексиканских ресторанов, а огромные промышленные корпорации. Социолог Гэри Алан Файн считает, что такое обвинение совершенно не случайно. Такой эффект, по его мнению, происходит из свойственного американцам страха перед большими структурами (fear of bigness)[393]393
Fine 1985a.
[Закрыть], и поэтому Файн назвал его «эффектом Голиафа». В СССР не было больших корпораций, а производителем практически всех товаров было государство. Но слухи и легенды о еде, приготовленной промышленным образом, показывают, что этот производитель вполне мог претендовать на роль социалистического «Голиафа».
При этом у советского Голиафа была одна черта, отличающая его от капиталистического собрата. Эта черта появилась в советской стране, пережившей военный и послевоенный голод в 1960–1980‐е годы. Назовем ее «принуждение к потреблению». В известном фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 1964 года (режиссер Элем Климов) показан образцовый пионерский лагерь. Многие вспомнят знаменитую сцену: дети едят свои котлетки, а после обеда их в обязательном порядке взвешивают медработники и выясняют, кто сколько прибавил в весе, причем не только индивидуально, но и по отрядам. Эта сцена отражает важную особенность советского питания: вне зависимости от того, нравилась тебе еда, предлагаемая государством, или нет, избежать ее потребления было почти невозможно.
Взрослые с таким принуждением почти не сталкивались (если не считать армии и больниц), однако выбор продуктов в магазине был слишком скуден для того, чтобы можно было легко объявить бойкот не нравящимся товарам, а альтернативы походу в столовую во время рабочего перерыва (при неразвитой системе городского общепита), как правило, не было. Но советского ребенка в 1970–1980‐е годы принуждение к еде сопровождало почти повсюду: сложно было отказаться от завтраков в школьной столовой, обедов на продленке, ужинов в пионерском лагере.
Принуждение к еде, процветавшее во многих детских учреждениях, мотивировалось фактом голода, пережитым предыдущими поколениями. Одна наша собеседница помнит, как в детском саду в Пушкине в середине 1970‐х годов воспитатели говорили детям, которые капризничали и отказывались от еды: «Вам должно быть стыдно, потому что наши родители во время войны голодали и умирали от голода»[394]394
И. С., ж., 1967 г. р., Пушкин Ленинградской области (личное сообщение на Facebook).
[Закрыть].
Отдельные попытки избежать этой еды вызывали ответные санкции – и со стороны учителей, а часто и со стороны родителей. Многие помнят, как за отказ пить молоко с пенками или есть манную кашу с комками воспитатели и учителя ругали и наказывали детей. Одному из авторов этой книги воспитатели в детском саду (Москва, 1982) вылили несъеденную манную кашу с комками в передник и так заставили проходить весь день.
В обычном режиме детского сада воспитатели и нянечки строго следили за тем, чтобы блюда разных категорий не смешивались. Люди, прошедшие через советские детские сады в 1970–1980‐е годы, часто рассказывают о том, как им запрещали есть второе перед первым или запивать второе компотом. Соответственно, наказание, о котором вспомнили многие наши собеседники из самых разных городов, представляет собой демонстративное нарушение правильного порядка вещей:
В недоеденный суп вывалили макароны с котлетой, а потом туда же еще и компот намеревались плеснуть, если бы я не схватилась за ложку. Не помню уже, доела ли я эту бурду до конца, все было как в тумане. Очень вскоре узнала, что такие наказания – обычное дело. И не только в детсаду – в санатории проделывали то же самое. Кого-то от такого «воспитания» рвало – а вот это уже было серьезно, за это и в изолятор могли отвести (мало ли с чего блеванул, лучше перебдеть), мы этого очень боялись[395]395
А. Е., ж., 1970 г. р., Санкт-Петербург (личное сообщение на Facebook).
[Закрыть].
Воспитатели действовали так, как будто они прочитали Мэри Дуглас (с. 213). Маленького ребенка не просто заставляли съесть то, что он не желал есть, а создавали отвратительную смесь, соединяя воедино то, что обычно было «первым», «вторым» и компотом. Такой смесью в реальности кормят – только вот не детей и вообще не людей, а свиней. Именно свинье в корыто выбрасываются перемешанные остатки человеческой еды. Воспитатели, подвергая ребенка такому наказанию, показывали, что отказ от правильного приема пищи столь ужасен, что делает человека не человеком, а презренным существом вроде свиньи.
Советский и американский Голиаф: алчность или бардак
Существенное отличие американских версий от советских заключается в том, как персонажи городских легенд и сам рассказчик объясняли причины появления неприятных фрагментов в еде. В американских потребительских слухах неприятные находки в продукции больших корпораций чаще всего объяснялись их алчностью и желанием сэкономить[396]396
Fine 1985a.
[Закрыть].
В советском случае дело обстояло по-другому. Только в очень немногих вариантах неприятные находки объяснялись корыстными соображениями работников комбината – например, говорилось, будто бумага и крысиное мясо в колбасу добавляются намеренно для экономии сырья: «на заводах народ ворует мясо и добавляет бумагу»[397]397
Ф. Л., м., 1973 г. р., Тула, Бердянск (опрос).
[Закрыть]. А в подавляющем большинстве случаев наличие крысиных останков (равно как и прочих непригодных в пищу предметов) в колбасе объяснялось отсутствием порядка на производстве. По этой же причине, как иногда утверждалось, в колбасе можно найти палец или ноготь сотрудника мясокомбината: «Крысиные лапки, куски пальцев работников, ногти… Антисанитария и небезопасность на производстве»[398]398
Н. Б., ж., 1979 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть].
Поскольку любое советское производство можно было заподозрить в таких грехах, как халатность, нарушение санитарных норм и пьянство на рабочем месте, слухи и легенды говорили о разнообразных неприятных находках не только в колбасе, но и в булках или шоколадных конфетах:
Мой отец рассказывал, примерно в конце восьмидесятых, историю про моего дядю, который однажды купил батон, намазал его маслом, отправил в рот и чуть не подавился огромным крысиным хвостом. Отмечалось, что крыса попала в батон на хлебозаводе, потому что там их множество[399]399
И. П., м., 1980 г. р., Тюмень (опрос).
[Закрыть].
Нашей киевской собеседнице бабушка очень живо рассказывала историю о пьяном работнике кондитерской фабрики, который упал в чан с шоколадом, после чего кто-то нашел в конфете его палец: «самое страшное было про палец, причем бабушка рассказывала это очень подробно, будто была сама свидетелем трагического события. Все боялись этой истории»[400]400
С. О., ж., 1987 г. р., Киев (опрос).
[Закрыть]. Популярный в 1970–1980‐е годы «садистский стишок» описывал ту же ситуацию еще более ярко:
Двое влюбленных лежали во ржи,
Рядом комбайн стоял у межи.
Тихо завелся, тихо пошел.
Кто-то в батоне пальцы нашел.
Кроме пальцев, в батоне или буханке из этого стишка находили самые разные части тела (ухо, ноготь, сиську, полпопы) или предметы одежды (лифчик, трусы, ботинки, галстук и даже портянки).
Но все-таки, при том что разных версий было очень много, больше всего слухов (и довольно неприятных) ходило вокруг советской колбасы. Именно в ней, в главном советском дефиците, находили крысиный хвост. И дело было не в количестве реальных злоупотреблений в пищевой промышленности, а в том, что такая легенда удачно соединила две плохо совместимые вещи – дефицитный и желанный продукт и отвратительного и опасного грызуна.
Возможно, из‐за обильной циркуляции таких рассказов некоторые советские дети были убеждены, что последствия употребления колбасы могут быть тяжелыми и необратимыми. Ученик 4-го класса ленинградской школы в 1987 году записал историю, в которой пациент («больной цвета жирной колбасы»!) умирает по непонятной причине, но председатель комиссии находит удачное объяснение его болезни, которое кажется всем присутствующим неоспоримым – «поел колбасы нашего мясокомбината»:
Покупатель или инсайдер – кто открывает правду?
Важное различие между советскими историями и их американскими аналогами заключается еще и в изображении того, кто первым обнаруживает страшную правду. В американских аналогах таких слухов неприятное «открытие» всегда делает потребитель, который с помощью полицейских и врачей проводит дальнейшее расследование и выводит производителей на чистую воду. В советских сюжетах «страшная правда» о промышленной еде может быть обнаружена двумя разными персонажами с двумя разными функциями.
Иногда правда открывается, как и в американских историях, потребителем, который самостоятельно обнаруживает несъедобный фрагмент в батоне или колбасе. В некоторых случаях сюжеты превращаются в целые «народные детективы», построенные вокруг пивзавода или мясокомбината. В одной истории преступник утопил жертву в чане с пивом, поэтому так «долго не могли найти. [Труп] был покрыт слоем сусла»[402]402
И. М., м., г. р. и город неизвестны (комментарий на Facebook).
[Закрыть]. Московские школьники в 1970‐е годы пересказывали друг другу более развернутый «производственный детектив» такого рода:
…работал мужик на мясокомбинате, с кем-то поссорился-подрался. Тот его убил, а потом бросил в машину-мясорубку. Или даже еще живого в ярости схватил и бросил. И так бы преступление осталось нераскрытым, но из мяса сделали фарш, из него котлеты, и за ужином кому-то попались там ногти. И тогда дело раскрутили и нашли преступника[403]403
К. К., м., 1959 г. р., Москва (письменное сообщение).
[Закрыть].
Но гораздо чаще «правда» о продуктах пищевой промышленности исходила от «инсайдера», который включен в производственный процесс, знает его неприглядные стороны, а потому продукцию сам не ест и не советует есть своим знакомым:
В случае со слухами о колбасе это был «знакомый с мясокомбината», который якобы наблюдал отвратительную картину падения крыс в фарш собственными глазами. Именно «знакомый инсайдер» посвящает потребителей в тайны производственного процесса, открывая перед ними крайне отталкивающие детали – например, писк грызунов, попадающих в мясорубку:
В колбасе можно найти останки мышей. Потому что ингредиенты для колбасы смешиваются в огромных баках, которые очень сложно мыть и вообще туда не попадешь. Но туда залезают мыши, а потом не могут выбраться (высоко). И когда мясорубки начинают работать, в цехе стоит страшный писк, потому что разрубает этих мышей и они попадают в «фарш»[405]405
Е. И., ж., 1980 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть].
Кто-то мог слышать другие подробности, переданные со слов «знакомого с мясокомбината»: «на мясокомбинате в начале смены мясорубки специально прокручивают „вхолостую“, чтобы порубить мышей»[406]406
Л. О., м., 1987 г. р., Москва (личное сообщение).
[Закрыть].
Но так или иначе, фигура «знакомого инсайдера», включенного в недоступный взгляду рядового потребителя процесс производства нужных товаров, оказалась очень важна для советских потребительских слухов: именно она оказывалась своего рода «гарантом качества» товара.
Между молотом и наковальней, между частником и мясокомбинатом
Мы видим, что в одних советских историях опасными оказывались продукты с мясокомбината, в то время как в других – купленные у частного торговца. Но во всех этих сюжетах на самом деле содержится одно и то же послание. Сформулировать его можно следующим образом: опасна еда, приготовленная без участия и контроля лично знакомых потребителю людей. Только лично знакомые мне (моему дяде, другу, соседу) продавец и производитель заслуживают доверия: они не будут халатно относиться к санитарно-гигиеническим нормам; они не будут намеренно отравлять еду, а если не смогут повлиять на «опасный» способ ее производства, то хотя бы расскажут о нем «правду».
Причина такого настойчивого желания найти знакомых везде (на мясокомбинате, рынке, среди продавцов кваса) кроется в особенностях советского потребления: в условиях постоянного дефицита и отсутствия частного бизнеса залогом получения нужных товаров и услуг оказывались личные связи[407]407
Подробнее об этом см.: Леденева 1999.
[Закрыть]. Например, стоматолог не имел прямого доступа к продуктовому дефициту. Но если среди его пациентов была семья директора магазина, то стоматолог мог питаться очень неплохо. Такая система взаимовыгодных обменов товарами и услугами (где хорошо выполненная медицинская процедура с использованием дефицитных импортных медикаментов обменивалась на дефицитные продукты или импортную одежду) в просторечии называлась блатом. Иметь блат (то есть знакомых) в самых разнообразных сферах – в системе образования, здравоохранения, коммунальных услуг, торговли – означало получать доступ к дефицитным товарам и качественным услугам. В картине мира, нарисованной советскими потребительскими слухами, избежать покупки опасных продуктов можно, только покупая продукты у знакомых или через знакомых. Так городские легенды и слухи по сути поддерживали систему блата, то есть экономические обмены среди «своих».
Некоторые читатели, возможно, задаются вопросом о том, насколько такие легенды отражали реальное положение дел. Наш собеседник, работавший в конце 1970‐х – начале 1980‐х годов технологом на предприятии пищевой промышленности – наш собственный «знакомый с мясокомбината»[408]408
Д. Ф., м., 1951 г. р., Санкт-Петербург (интервью).
[Закрыть], – категорически отрицает как такие случаи на производстве, так и то, что сотрудники «изнутри» рассказывали истории о крысе в колбасе. Что, конечно, не исключает того факта, что на других предприятиях что-то подобное могло иметь место. Наша собеседница слышала историю о крысах, бегающих по конвейеру и попадающих под пресс, от брата, работавшего на мясокомбинате в Красноярске в конце 1980‐х[409]409
Н. Р., ж., 1983 г. р., от брата 1970 г. р., Красноярский край (личное сообщение).
[Закрыть]. Как бы там ни было, крыса могла упасть в чан с полуфабрикатом, санитарные нормы, действительно, не всегда соблюдались, а воровство на производстве в советское время было так распространено, что о нем снимали детективные фильмы и писали фельетоны.
Одна история, в основе которой лежал перевернутый сюжет о неприятных находках в пищевых продуктах, произошла на самом деле. Речь идет о так называемом «рыбном деле» конца 1970‐х годов, по которому осудили большое количество высокопоставленных советских чиновников. Зимой 1978/79 года москвичи (и не только) были взбудоражены слухами: покупаешь банку с килькой (которая в СССР была самыми дешевыми рыбными консервами), а там – деликатес, черная икра. Согласно воспоминаниям современников, в рыбные магазины, особенно в магазин «Океан», образовались гигантские очереди за килькой в томате. Обратим внимание, как эта легенда переворачивает историю о крысином хвосте в колбасе: в самом дешевом рыбном продукте, который только можно вообразить, обнаруживается не отвратительная и несъедобная субстанция, а самый дорогой деликатес. И что самое удивительное, это было правдой (по крайней мере, частичной).
Как выяснило следствие, директора магазинов и продуктовых баз отбраковывали хорошую рыбу и успешно продавали ее «налево», советским подпольным предпринимателям и зарубежным фирмам. Для этого был придуман гениальный ход, достойный сериала: во-первых, магазины и рыбные базы получали холодильные установки из‐за границы, выбраковывали их и отправляли обратно, но наполненные ценной красной рыбой и икрой[410]410
Левицкий 2006: дневниковая запись от 14 марта 1979 года.
[Закрыть], а во-вторых, дорогая черная икра закатывалась в банки для дешевых рыбных консервов. Все схема накрылась, согласно слухам, благодаря любви одного гражданина к килькам (или селедкам, по другой версии). Купив любимые консервы и открыв их, он обнаружил там черную игру, стоящую во много раз дороже копеечной кильки (или селедки), но вместо того чтобы тихо порадоваться, пошел разбираться – и это было началом «рыбного дела»[411]411
Там же.
[Закрыть]. Неожиданная находка – пусть и приятная – открыла масштабные злоупотребления в советской торговле и пищевой промышленности.
«Сифилизатор»: городская ипохондрия и опасные общественные места
Любой большой город состоит из множества мест общего пользования. Эти места наполнены не подлежащими «одомашниванию» объектами, которые мы невольно делим с сотнями и тысячами других людей, не знакомых нам лично. Именно поэтому городское пространство часто представляется нам источником разнообразных угроз. Анонимность сотен и тысяч «со-пользователей» городских пространств вызывает у нас тревожный вопрос: «А кто же те другие, которые наравне со мной едят в этих кафе, ходят по этим улицам и держатся за поручни в этом метро?» Когда мы касаемся поручней в метро, мы начинаем думать: а не касался ли их больной желтухой, туберкулезом, СПИДом, наконец? Ведь любые незнакомые люди, прикасающиеся к тем же поручням или пьющие воду из того же стаканчика, что и мы, могут оказаться носителями опасных инфекций. Поэтому не удивительно, что советские дети постоянно слышали советы и наставления следующего содержания:
Все поверхности, к которым прикасалось много людей (поручни в транспорте, перила лестницы, деньги), считались очень грязными, и после них нужно было мыть руки. Отдельно подчеркивалось, например, «мы были на улице, трогали то или это – значит нужно дома вымыть руки»[412]412
Д. Ш., ж., 1986 г. р., Санкт-Петербург (опрос).
[Закрыть].У мамы всегда с собой был стаканчик (складной) или эмалированная кружка. Из чужих стаканов [в автоматах с газировкой] категорически пить нельзя – туберкулез и сифилис[413]413
С. Б., ж., 1968 г. р., Иваново (сообщение на Facebook).
[Закрыть].
В этих родительских наставлениях (многие из нас сами слышали что-то подобное в детстве) звучит довольно типичное для жителей советских городов беспокойство на тему публичного пространства. В этом разделе мы расскажем о том, как такие истории возникали и что в них было специфически советского.
Как город становится ипохондриком
Страх перед эпидемией какой-либо болезни был важной чертой городской жизни XIX века. Да, конечно, заразные болезни и эпидемии были и раньше, но именно в XIX веке количество жителей городов выросло многократно, а система коммуникаций и внутри города, и между городами развивалась стремительно, что позволило болезням беспрепятственно и довольно быстро находить себе новых жертв. В то же время среди образованных горожан распространялось представление об инфекционной природе заболеваний. Понимание того, что заразиться опасной болезнью можно через прямой или опосредованный контакт с инфицированным человеком, увеличивало страх перед общественными пространствами, где избежать контактов было невозможно. Пример четкого понимания опасности, исходящей от контактов во время эпидемии, можно найти в дневнике княгини Марии Гагариной. В 1831 году княгиня находилась в Петербурге, где «в полном разгаре [была] холера. Позавчера сообщали о пятистах умерших. Да плюс к тому небылицы, гуляющие в народе, от которых кровь стынет в жилах, как будто у всех лавошников продукты заражены злоумышленниками»[414]414
Гагарина 2007: дневниковая запись от 24 апреля 1831 года.
[Закрыть]. Однако княгине удалось выжить. Единственный способ спасения, доступный в ту эпоху, – изоляция, которая достигалась усилиями дворника, не пускающего во двор бедноту:
…Мой старый привратник сторожит по-прежнему ворота и не пропускает попрошаек и городскую бедноту, от которых дурно пахнет и которые разносят инфекцию: поскольку разговоров много, то я верю в возможность заражения. В доказательство приведу пример жителей колонии Сарепта, которые из‐за своего уединения остались живы и здоровы[415]415
Там же.
[Закрыть].
Но чем многолюднее становились европейские города и чем сильнее стирались социальные границы между классами, тем реже удавалось спастись от эпидемий с помощью дворника, который защищал частное пространство. Вместе с ростом городов развивалась система общественного транспорта, для пользователей которого прямой или опосредованный контакт с множеством незнакомцев был неизбежен. Образованные лондонцы в 1860‐х годах (время эпидемий оспы и других не менее опасных болезней) панически боялись пользоваться кэбами, не без оснований полагая, что публичные экипажи перевозят не только здоровых горожан, но и развозят по больницам заразных больных, а также отвозят на кладбище трупы[416]416
Kerr 2010.
[Закрыть]. Этот тип беспокойства историк Мэтью Керр называет «городской ипохондрией». Такие слухи вспыхивают каждый раз, когда появляется новая эпидемиологическая опасность. 120 с лишним лет спустя распространение ВИЧ и массовая пропаганда его профилактики породили и в Канаде[417]417
Goldshtein 2004.
[Закрыть], и в США, и в СССР[418]418
Карпунина 2018.
[Закрыть], и в постсоветской России огромное количество слухов о злоумышленниках, которые специально стремятся заразить других людей, оставляя в публичном пространстве зараженные иглы.
Советская городская ипохондрия
Советские дети воспитывались в стойком убеждении, что другие, не знакомые им пользователи публичного пространства могут оказаться носителями разнообразных инфекций. Жительница Петербурга 1986 года рождения вспоминает, что ее школьная учительница «запрещала своему внуку подбирать на улице все – палки, игрушки, камешки… Говорила, что, может, на них плюнул человек, больной туберкулезом, а значит, можно, заразиться»[419]419
Д. Ш., ж., 1986 г. р., Санкт-Петербург (опрос).
[Закрыть]. Поскольку места общего пользования становятся «нечистыми» из‐за постоянного соприкосновения с незнакомыми людьми, контакт с ними требует некоторых «ритуалов очищения»:
Многие наши соотечественники, прочитав эти строки, могут сказать: «А что тут такого – это нормальные требования к гигиене, они продиктованы медицинскими соображениями и есть везде». Нам кажется, что мыть руки после прихода домой, надевать тапочки и переодеваться в домашнюю одежду – это совершенно нормально. Почти каждый помнит, как в детстве его учили мыть руки после улицы (а многие учат делать то же самое своих детей), переодеваться в специальную домашнюю одежду и обувь (тапочки), никогда не ставить сумки на стол или на стул. Однако все эти действия далеко не так естественны и универсальны, как нам кажется.
«У меня русская жена, а тут еще приехала ее мама. И когда мы приходим с улицы домой, они все время заставляют нашего ребенка мыть руки», – сказал нам один знакомый француз. Он хотел объяснения этого странного русского обычая, который нередко удивляет иностранных гостей. Стремление помыть руки после контакта с предметами, побывавшими в общественном пользовании, или каким-то иным образом провести символическую границу между «грязным» публичным и чистым «своим» пространством совершенно чуждо представителям многих других культур. Читатели, когда-либо принимавшие у себя дома жителей Западной Европы, Северной Америки или Израиля или, наоборот, бывшие у них в гостях, наверняка замечали, что они не имеют привычки мыть руки или менять обувь, приходя домой с улицы. Наш коллега, живущий в небольшом канадском городе Сиднее, рассказал нам, что ни он сам, ни его знакомые не учат своих детей мыть руки после улицы[421]421
И. Б., м., 1973 г. р., Сидней, Канада (личное сообщение).
[Закрыть]. Точно так же не учат этому детей в детских садах в Германии. Что важно, противоположным образом поступают в немецких садах дети из мусульманских семей, которые всегда после улицы переодеваются сразу и «снимают все, даже носки»[422]422
А. Ж., ж., 1972 г. р., воспитатель детского сада в городе Бремен, Германия (интервью).
[Закрыть].
Многие жители Северной Германии[423]423
По наблюдениям одного из авторов этой книги Александры Архиповой, так делали немецкие коллеги и друзья в городе Бремен, в то время, когда она там жила (2008–2011).
[Закрыть], Канады и США не снимают уличную обувь ни дома, ни в гостях (хотя климат в этих местах не очень отличается от климата центральной России) или делают это только по особым случаям[424]424
Pocius 1991: 221.
[Закрыть]. Также им не знакомы фразы, которые многие наши соотечественники слышали в детстве от бабушек и мам: «не сиди на газоне/бордюре», «не трогай поручни», «не трогай здесь вообще ничего, хватит всякую грязь собирать». В 2006 году украинский коллега, живущий в фламандском городе Генте, постоянно обращал внимание одного из авторов этих строк на то, что бельгийские студенты совершенно спокойно сидят на газонах и мостовых, и сравнивал такое поведение с инструкциями, которые он получал в детстве от бабушек: «не сиди на земле – там грязно и ты простудишься».
Причина советской тревожности по поводу публичных пространств кроется в «санитарной истории» советских городов. Советская урбанизация, как мы уже говорили, шла невиданно быстрыми темпами. В 1930–1950‐е годы города не успевали «переваривать» огромные массы людей, приезжающих из голодной, разоренной колхозным строительством деревни. Городская инфраструктура была совсем не готова к такому наплыву новых жителей. Сотни тысяч горожан жили в ужасающей тесноте бараков и рабочих общежитий, где отсутствовали элементарные бытовые удобства типа канализации и водопровода. Городские улицы (особенно – новые рабочие окраины) утопали в нечистотах. Во время войны ситуация, естественно, только ухудшилась. Люди страдали от паразитов, поскольку, например, в конце войны житель крупного тылового города имел возможность помыться в среднем один раз в четыре недели. Все это создавало крайне опасную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, которая, по утверждению Давида Фильцера, в британских городах была в 1890‐х годах[425]425
Фильцер 2018: 161–200.
[Закрыть].
Чтобы улучшить санитарную обстановку в советских городах (которая во время и после войны была невыносимо ужасной), нужно было вкладывать большие средства в развитие городской инфраструктуры: проводить водопровод и канализацию, строить жилье с ваннами и смывными туалетами и общественные бани. Однако советское правительство пошло другим, гораздо менее затратным путем. Вместо проведения санитарной модернизации оно придумало и воплотило в жизнь меры по поиску и изоляции зараженных людей[426]426
Там же: 184.
[Закрыть], а также развернуло масштабную кампанию по санитарно-гигиеническому воспитанию советских граждан. О необходимости мыть руки, снимать уличную обувь в помещении и с подозрением относиться к еде, купленной с рук, постоянно говорили по радио и писали газеты по всей стране. Так, например, в 1944 году речные причалы должны были транслировать санитарные правила безопасности каждые 5–7 минут (!) в течение дня[427]427
Там же: сноска 92.
[Закрыть], а газета «Дзержинец» Ивановской ткацко-прядильной фабрики в 1946 году в мельчайших деталях наставляла работников по поводу правил гигиены:
Мойте руки с мылом перед каждым приемом пищи, после посещения туалета, после работы… ‹…› Если вы готовите из продуктов, купленных с рук, их необходимо варить, жарить или печь. ‹…› Перед входом в любые помещения вытирайте ноги, чтобы стереть грязь, которая могла прилипнуть к обуви, и особенно нечистоты[428]428
Цит. по: Фильцер 2018: 82.
[Закрыть].
Помните послевоенное детское стихотворение Агнии Барто: «Мы с Тамарой / Ходим парой, / Санитары / Мы с Тамарой»? Этот стишок отражал реальную практику: государство буквально призвало школьников на борьбу за гигиену. Во время войны 5,5 миллиона советских детей стали юными санитарами и вступили в ряды обществ ГСО («Готов к санитарной обороне СССР») или БГСО («Будь готов к санитарной обороне СССР»), а три миллиона школьников – в организацию Красного Креста[429]429
Фильцер 2018: 377.
[Закрыть]. Школьники должны были не только соблюдать правила личной гигиены, но и пропагандировать эти правила среди старших родственников и даже следить за их соблюдением. Дети должны были, например, убеждать родителей в том, что нужно менять обувь и мыть руки, придя с улицы. А иногда – и вести «полевой дневник», в котором необходимо было отмечать, выполняют ли взрослые санитарные нормы. Кроме того, школьники должны были следить друг за другом – и сообщать медработникам о паразитах и о признаках опасных болезней (например, тифа) у товарищей. При весьма плачевном состоянии санитарной инфраструктуры умение «держать оборону» от грязи (выполняя множество гигиенических правил) было для горожан жизненно важным навыком.
В конце 1940‐х годов, когда улицы действительно были буквально завалены нечистотами, наставления мыть руки после улицы и вытирать уличную обувь имели практический смысл. Однако подобные предписания – особенно если они были услышаны в детстве – усваиваются накрепко и часто передаются дальше. Антрополог Джордж Фостер утверждал, что члены каждого общества разделяют общую когнитивную ориентацию (common cognitive orientation). Это, по сути, не выраженное в словах понимание «правил игры». Она управляет нашим поведением так же, как грамматические формы, не осознаваемые большинством носителей языка, направляют и структурируют речевое поведение[430]430
Foster 1965.
[Закрыть]. Именно эта невыраженная когнитивная ориентация и заставляет нас передать дальше набор представлений, как надо правильно себя вести в публичном пространстве, вне зависимости от того, насколько историческая ситуация изменилась, и такое поведение остается практически востребованным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































