Текст книги "Опасные советские вещи"
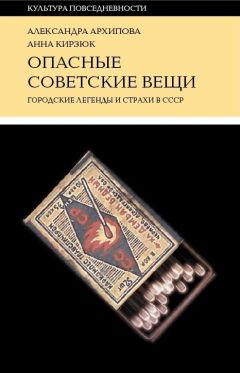
Автор книги: Александра Архипова
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
В таком виде эти свидетельства вошли в историю, хотя постепенно у исследователей накапливались возражения по поводу их достоверности. Так, например, в 1990 году исследователи Мемориального института Холокоста в Вашингтоне показали, что рецепт Шпаннера, предъявленный Мазуром, вообще не содержит указания на человеческий жир, а также опасен для человеческой кожи[506]506
Neander 2006: 69.
[Закрыть]. Кроме того, этот рецепт приготовления мыла крайне примитивен – так его изготавливали еще в XVII веке. Совершенно непонятно, зачем немцам в середине ХХ века было готовить мыло по такой старой технологии.
С этого момента и до сего дня вокруг Анатомического института кипят страсти: то в кусках мыла находят человеческий жир в незначительных количествах, то всплывают доказательства, что свидетельство Мазура было подготовлено польскими спецслужбами.
В 2006 году историк Иоахим Неандер решает поставить точку в этой дискуссии и снова подробно разбирает свидетельства за и против «фабрики мыла доктора Шпаннера».
Во-первых, он убедительно показывает, что найденные в Анатомическом институте части тел и цистерны с «белой массой» свидетельствуют о том, что Шпаннер очищал человеческие кости для производства пособий для обучения хирургов, а также делал «муляжи» из настоящих человеческих органов, наполненных специальными смесями, в которые он добавлял и человеческий жир[507]507
Ibid.: 76.
[Закрыть]. Надо сказать, что Шпаннер не был признан военным преступником: его два раза задерживали для допроса в 1946 году в Германии американские власти и оба раза отпускали, получив от него это объяснение. Причем среди тел казненных, которые ему привозили, не было трупов из концлагерей: Шпаннеру не нужны были тела дистрофиков без нормальной мышечной массы.
Во-вторых, Неадер пересмотрел показания трех свидетелей: и двух военнопленных, которые давали их на Нюрнбергском процессе, и поляка Мазура, который три раза дал показания советской прокуратуре в тюрьме Данцига. Это свидетельство Мазура через несколько месяцев будет предъявлено советской стороной во время Нюрнбергского трибунала, а сам Мазур умрет от тифа в тюрьме, не дожив до него. Все трое выполняли только подсобную работу по доставке и разделке тел, смысл которой они плохо понимали. Но самое главное – все они давали показания несколько раз. И с каждым новым рассказом свидетели все решительнее склонялись к версии про изготовление мыла из людей[508]508
Ibid.: 74.
[Закрыть]. Если сначала Мазур вообще ничего не сказал про «мыло из евреев», то во второй раз признался, что фабрика делала именно его, а на третий – предъявил рецепт мыла, который ему якобы дал Шпаннер, и само мыло. Тут возникает много вопросов – например, почему не задержали и даже не расспросили его мать, которая, по его словам, тоже пользовалось этим мылом? Почему рецепт мыла был таким устаревшим и описывал технологию XVII века, которой уже давно не пользовались? Почему Мазур признался во всем этом только на третьем допросе?
Иоахим Неандер склоняется к объяснению, что «мыло Мазура» (которое фигурировало на Нюрнбергском процессе под номером 196) является подделкой, изготовленной советской или польской стороной, причем людьми, не очень сведущими в химии даже на школьном уровне. Видимо, поляк Мазур, работавший на немцев во время войны, понимал, что его песенка спета и просто пытался купить себе жизнь, изо всех сил стараясь быть ценным источником информации. Неандер приводит три основных аргумента:
Во-первых, странен сам рецепт, предлагающий устаревшую технологию, которой немцы уже давно не пользовались при изготовлении мыла.
Во-вторых, подробные показания Мазура об изготовлении мыла не соответствуют этому рецепту.
В-третьих, в «мыле Мазура», если его приготовить по представленному рецепту, будет переизбыток ненейтрализованного гидроксида натрия, и мыться им будет невозможно (и кстати, это ставит под вопрос утверждение Мазура, будто он сам мылся этим мылом).
Но есть и еще один аргумент, который не учитывает Неандер. Как показывает психолог Элизабет Лофтус, очевидцы самых разных преступлений нередко дают ложные свидетельские показания, даже искренне пытаясь помочь следствию и не имея намерений что-то утаить или исказить. Дело здесь не только в том, что мы в состоянии запомнить гораздо меньше информации, чем нам кажется, но и в том, что тактика ведения допроса, а также освещение преступления в СМИ, могут сформировать у очевидца ложные воспоминания о событии[509]509
Лофтус, Кетчем 2018; Murphy, Loftus et al. 2019.
[Закрыть]. В итоге свидетель начинает «помнить» о преступлении именно так, как о нем говорят в СМИ, и «вспоминает» именно такие детали, о которых хотят услышать следователи, судьи и присяжные. А в нашем случае следователи и прокуроры советско-польской стороны уже очень хорошо знали сюжет о мыле из евреев – поскольку они о нем целенаправленно расспрашивали с самого начала. Видимо, поэтому Мазур в своих показаниях и подтвердил факт изготовления мыла и таким образом оговорил себя. Он начал постепенно «вспоминать» о нем, потому что именно это хотели от него услышать все вокруг.
Таким образом, легенда могла оформиться в своем окончательном виде в процессе дачи показаний на допросах.
В результате всего этого обвинение в изготовлении мыла прозвучало на Нюрнбергском процессе с советской стороны, однако не произвело такого эффекта, который был задуман. Мазур умер, Шпаннера к ответственности не привлекли, а делали ли мыло в Анатомическом институте, осталось непонятным. Но легенда продолжала жить и привела к распространению такой практики, как похороны мыла.
Почему советская власть не разрешила хоронить мыло в 1946 году?
В конце войны люди, выжившие в концлагерях, стали возвращаться домой, а кто-то уехал в Палестину, Швецию и США. И информация об уничтожении миллионов евреев стала постепенно распространяться – в рассказах выживших и свидетелей. Во многих странах уцелевшие евреи начали проводить похороны мыла. Этот странный ритуал стал символической заменой реальных похорон, которые уже нельзя было провести. Попытки предать земле частички тел тех, кто по мнению многих, послужил материалом для изготовления мыла, были в Софии, потом в Кишиневе и Бухаресте, и в некоторых других городах Восточной Европы. В ноябре 1946 года Главный ашкеназский раввин подмандатной Палестины Ицхак-Леви Герцог требовал от ООН доставить в Палестину все экземпляры мыла RIF, которое раздавали в лагерях еврейских беженцев – для последующего захоронения[510]510
German Soap 1946: 5.
[Закрыть]. В 1947 году похороны мыла прошли в Бразилии[511]511
Neander 2016: 23–40.
[Закрыть]. Кроме больших похоронных акций, под влиянием слухов о мыле, сделанном из людей, в послевоенные годы постоянно происходили маленькие частные захоронения. Власти перечисленных стран особых препятствий похоронам мыла не чинили, в отличие от СССР (Кишинев оказался единственным исключением).
И здесь мы снова должны вернуться к истории в Черновцах. Возможно, читателям этих строк не очень понятно, что означали в 1945–1946 годах публичные выступления раввина Шибера и главврача поликлиники Шрайдмана, их конфронтация с могущественными представителями советской власти и стремление похоронить мыло, несмотря на прямой запрет делать это. Органы надзора немедленно охарактеризовали эту историю не более и не менее как «попытку сионистского подполья организовать антисоветское выступление», и документальная история черновцовских «похорон мыла» обрывается на сообщении о том, что «будировавшие вопрос» Шрайдман и Шибер «взяты в дальнейшую разработку». В конце 1940‐х годов это означало, что ничего хорошего в будущем их не ожидает. Как минимум пристальное наблюдение надзорных органов, и с большой вероятностью – обвинение по статье 58-10 («антисоветская агитация и пропаганда»), арест и большой лагерный срок.
Почему попытка провести такой ритуал в СССР наткнулась на яростное сопротивление советской власти? Дело, видимо, в том, что такой публичный акт поминовения – это не только и не столько похороны частицы человеческого тела, но и политическое высказывание: оно напоминает окружающим о чудовищном акте насилия и о его бесчисленных и часто безымянных жертвах[512]512
Santino 2004.
[Закрыть].
Что характерно, когда в городе Черновцы горком, НКГБ и Совет по делам религий не давали разрешения на захоронение мыла и вообще совершенно спокойно отнеслись к тому, что советское население пользуется немецким мылом с подобной «репутацией», советская сторона Нюрнбергского трибунала в лице прокурора Руденко настаивала на том, что производство мыла из евреев имело место. Возможно, дело в том, что советская власть всячески старалась не выделять евреев среди прочих жертв войны. Согласно официальной точке зрения, евреи пострадали от фашизма не больше, чем другие народы Советского Союза. В своем стремлении не замечать Холокост советская власть была тверда и последовательна. Борьба с нежелательной памятью о геноциде евреев шла с послевоенных лет и всю советскую эпоху[513]513
Zeltser 2018.
[Закрыть].
Во время войны писатели Илья Эренбург и Василий Гроссман начинают собирать материал для «Черной книги» – это сборник свидетельств самого разного толка о геноциде советских евреев. Ровно в тот момент, когда Шибер и Шрайман пытаются уговорить Совет по делам религий и горком в Черновцах позволить им похоронить мыло, содержание «Черной книги» активно обсуждают в Еврейском антифашистском комитете и на самом высоком партийном уровне. Литературные чиновники недовольны тем, что в ней много говорится о советских гражданах, сотрудничающих с нацистами и участвующих в убийстве евреев. Но особенно высокопоставленным читателям «Черной книги» не нравится то, что евреи якобы показаны там единственными настоящими жертвами войны. Несколько месяцев спустя заведующий управлением пропаганды ЦК Георгий Александров пишет докладную члену Политбюро Андрею Жданову с просьбой не допустить издания этой книги:
Однако чтение этой книги, особенно ее первого раздела, касающегося Украины, создает ложное представление об истинном характере фашизма и его организаций. Красной нитью по всей книге проводится мысль, что немцы грабили и уничтожали только евреев. У читателя невольно создается впечатление, что немцы воевали против СССР только с целью уничтожения евреев. По отношению же к русским, украинцам, белорусам, литовцам, латышам и другим национальностям Советского Союза немцы якобы относились снисходительно[514]514
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 438. Л. 216–218.
[Закрыть].
В результате книга никогда не была издана в СССР, но зато в том же 1946 году она была переведена и опубликована в США и в некоторых других странах.
Возможно, что желание похоронить мыло в Черновцах было расценено как «антисоветское выступление» именно потому, что за этим стояло твердое убеждение, что такая группа, как «евреи», не достойна высокого статуса «главных жертв» войны. И только верховная власть может решать, как использовать информацию о геноциде – для внешнего или только для внутреннего употребления. Низовая инициатива, не получившая одобрения сверху, в такой ситуации всегда расценивается как серьезная политическая крамола.
Почему «мыло из евреев» стало символом нацистских преступлений
Казалось бы, ответ на этот вопрос очень прост. Мыло, сделанное из евреев, стало наглядным доказательством чудовищности нацистских преступлений. Можно показать аудитории мыло со словами «Это наши братья» (именно так сделал председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс), и ей без лишних слов будет понятен масштаб злодеяний, совершенных нацистами. Но тут возникает уже другой вопрос: реальные преступления нацистов были не менее чудовищными, чем изготовление мыла из евреев. Газовые камеры и массовые расстрелы были абсолютно реальны, равно как и медицинские эксперименты доктора Менгеле над узниками концлагерей. Зачем же тогда понадобилась вымышленная история, если реальные истории не менее ужасающи и масштабны?
Мы предполагаем, что она оказалась такой живучей благодаря своей способности в «сжатом» виде передавать два значимых месседжа.
Во-первых, история о «мыле из евреев» стала отражением довольно типичного страха военного и послевоенного периода – стать не только жертвой, но и невольным соучастником преступлений, исполнителем чудовищного замысла палачей. Об этом же страхе говорили слухи, появившиеся во время и после войны в нескольких советских городах – о подпольных цехах, где из людей делают мясные полуфабрикаты. Не случайно слухи, жившие в послевоенном Тарту, утверждали, что на подпольной «колбасной фабрике» из людей делают не только колбасу, но и мыло[515]515
Kalmre 2013.
[Закрыть]. Ведь пользуясь мылом, которое может быть сделанным из тел убитых людей (так же как и покупая колбасу), жители послевоенного города рисковали нарушить одно из базовых культурных табу, практически стать каннибалами. Эта легенда говорила: оказавшись в глобальной мясорубке, невозможно стоять в стороне, избежать роли жертвы или убийцы – ты так или иначе станешь или тем или другим.
Во-вторых, существенно, что именно мыло стало прототипическим изображением жертв, а не абажуры или перчатки из человеческой кожи, которые также, согласно слухам, массово изготовлялись в лагерях уничтожения. Мыло – это предмет гигиены, которым мы очень хотим обладать, особенно в условиях военного и послевоенного дефицита. Мыло ежедневно контактирует с нашим телом, в отличие от перчаток или абажуров. Однако вместо того чтобы делать нас чистыми, оно нас символически загрязняет, превращая в пособников убийц (помните легенды о том, как таким мылом с воодушевлением мылись жители города Аушвица, жившие возле лагеря смерти?). Поэтому именно история о «мыле из евреев» становится способом выразить весь ужас нарушения базовых культурных норм, через который во время войны вынуждены были пройти многие.
Откуда пошел «джинсовый дерматит», или Опасное обаяние западной вещи
Однажды в середине 1980‐х годов с одним из авторов этой книги произошла следующая история:
В квартиру позвонил незнакомый человек. Он принес посылку из Анголы (их часто посылали не почтой, а передавали «из рук в руки»), где в то время работала моя мама. Подарок был очень необычным и шикарным – в коробке были детские джинсы (на самом деле бриджи) нежного салатового цвета. Я совершенно не могла от них оторваться. Однако через два дня в дверь позвонил тот же самый человек, крайне сконфуженный. Оказалось, при передаче посылки были перепутаны и джинсы предназначались другой девочке. То, что случилось дальше, я помню до сих пор (и до сих пор мне за это стыдно) – это была первая в моей жизни акция протеста. Я села на пол (в джинсах), рыдала и билась об пол, отказываясь расстаться с джинсами. Надо сказать, что своего я добилась: каким-то образом джинсы остались со мной[516]516
А. А., ж., 1976 г. р., Москва (самозапись).
[Закрыть].
Эта история хорошо иллюстрирует те чувства, с которыми было связано обладание яркими и необыкновенными заграничными вещами. В 1970‐е годы самым желанным и модным предметом одежды становятся западные джинсы, что активно, хотя и безрезультатно, высмеивается советской прессой. «Настоящие», то есть американские, джинсы стоят на черном рынке около 200 рублей (при том что средняя месячная зарплата инженера равняется 120–150 рублям). О дороговизне и желанности джинс даже появляется анекдот:
Однако в то же самое время про джинсы, как и про другие модные импортные вещи, рассказывают большое количество неприятных слухов и городских легенд. Так, одному нашему информанту «подруга сказала, что джинсы, купленные у иностранцев, могут быть заражены инфекцией. В контексте рассказа про новую болезнь – СПИД»[518]518
А. Ю., м., 1953 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть]. Другие наши собеседники слышали, что «люди находили вшей или еще что-то в этом роде в швах импортных джинсов, купленных с рук у иностранцев»[519]519
Н. Р., ж., 1963 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть], а в некоторых джинсах «микроиголка с ядом зашита»[520]520
Ф. Л., м., 1973 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть].
Рассказы о джинсах, зараженных специфической болезнью или с лезвиями внутри, о западных нейлоновых рубашках с червями представляют собой разновидность потребительских слухов об опасных иностранных вещах. При этом определение «иностранные» (если судить по набору опасных вещей, фигурирующих в слухах) относится в полной мере лишь к товарам из капиталистических стран (Европа, Северная Америка, Япония). Одежда, произведенная в соцстранах, ценилась выше, чем советская, но по сравнению с вещами «капиталистического» происхождения ее статус был ниже[521]521
Тихомирова 2004.
[Закрыть]. При этом польские джинсы могли быть объектом недовольства (обсуждалось их не всегда отличное качество), но практически никогда – темой пугающих рассказов. Степень потенциальной опасности вещи была напрямую связана с ее символической ценностью в советской «системе вещей». Поэтому, чтобы понять, как выстраивалось представление об опасных западных вещах, надо понять, какое место они занимали в символической классификации советских вещей.
Вещи прирученные vs опасные
Надо понимать, что советский потребитель довольно сильно зависел от системы государственного снабжения, и при скромных доходах и отсутствии блата выбор товаров был очень невелик, и в результате многие советские люди постоянно испытывали трудности с приобретением тех или иных товаров. Такую ситуацию советские граждане научились преодолевать: например, самостоятельно изготавливали вещи или переделывали готовые стандартизированные, которые часто были неудобными, «под себя»[522]522
О разных формах такого взаимодействия с вещью см.: Утехин 2004; Смоляк 2011.
[Закрыть]. Такая переработка (вспомним журнальные рубрики с «полезными советами» по усовершенствованию и максимальному продлению жизни вещей), по сути, представляла собой «практики по приручению вещи»[523]523
Орлова 2004.
[Закрыть]. Объекты, прошедшие через такие практики, – коврики, сделанные из старых колготок, радиоприемник, настроенный исключительно на «Голос Америки», – Екатерина Деготь называет «вещами-товарищами»[524]524
Деготь 2000.
[Закрыть]. В результате подобных практик советская вещь, часто обреченная на долгую жизнь и полифункциональное использование, становилась «гиперосвоенной». Так, из дешевых покупных карамельных конфет можно было сделать игрушку на елку или карамельную глазурь на праздничный торт. А вот дефицитные западные вещи долго расставались со статусом чужого и гиперосвоенными становились с трудом, уже под конец своей жизни. Примером освоения иностранной вещи были изношенные нейлоновые колготки, которые после их прямого употребления никогда не выкидывали. Из них вязали крючком коврики в ванную или прихожую, а также авоськи, в которых носили продукты. Но это еще далеко не полный список того, что можно было сделать с такой гиперосвоенной вещью. Старые колготки могли превращаться в мочалки, если положить внутрь мыло, или губку для мытья посуды.
Те дефицитные западные вещи, которые не прошли через практики приручения и тем самым оказались за пределами «своей» зоны, советские люди регулярно противопоставляли «своим вещам»:
– А были какие-то истории про то, что конфеты, например, есть опасно?
– Конфеты – они же в магазинах продавались. Про конфеты речь не шла. Именно про жвачки говорили ‹…› что иностранцы подзывали детей к себе и дарили жвачки, в которых внутри были отравленные иголки[525]525
И. К., м., 1971 г. р., Москва (интервью).
[Закрыть].
Как мы видим, для нашего собеседника конфеты не представляют опасности, потому что продаются в наших магазинах, на другом, опасном полюсе находится жевательная резинка, которую можно было получить только от иностранцев. Еще один наш информант по такому же принципу противопоставлял косметику из обычного магазина и из комиссионного, куда сдавали импортные товары: «Косметика также бывала отравлена, особенно купленная в комиссионке, а не в обычном универмаге»[526]526
Ю. Ч., ж., 1975 г. р., Москва (опрос).
[Закрыть].
Это не просто два случайных примера. Судя по данным опросов и многочисленным интервью, в основе символической классификации вещей советского мира лежит противопоставление «свои безопасные vs чужие опасные вещи».
Но почему западная вещь такая опасная?
Вещь как вещь и как знак, или «Принцип Молотова»
В 1955 году произошло невиданное событие – нескольких писателей и журналистов, среди которых был молодой зять Хрущева Алексей Аджубей, отправили на стажировку в США. Дело было ответственное, поэтому на инструктаж перед поездкой делегацию отправили прямо к бывшему министру иностранных дел Вячеславу Молотову. Верный соратник Сталина предложил оробевшим журналистам задавать любые вопросы о будущем пребывании в США, и после неловкой паузы был задан вопрос: «Пить или не пить пепси и кока-колу?» Согласно воспоминаниям Аджубея, Молотов, помолчав, ответил, что лично он этот напиток не употребляет, и дело даже не в качестве или вкусе: «кока-кола – олицетворение американского империализма и экспансии. Так надлежит понимать вопрос»[527]527
Аджубей 1989.
[Закрыть].
Ответ Молотова весьма показателен. Для него кока-кола не является обычным напитком – это прежде всего знак неприемлемой идеологии. И обращается он с ней не как с напитком, а как со знаком.
Отвлечемся ненадолго от советских реалий. В монгольской юрте, как и в любом жилище, например, есть чашка (пиала). Она старая, щербатая, ее может взять кто угодно. Другими словами, она не обладает никаким особым статусом. Но вот монгол берет эту чашку, кладет в нее кусочек сухого сыра или конфету и ставит к алтарю, чтобы накормить духов. Статус чашки тут же меняется: ее нельзя использовать для нужд повседневной жизни, а женщине – даже прикоснуться (хотя до этого именно женщина бесконечно мыла эти самые чашки). Что произошло? Чашка переместилась из одного класса (повседневные предметы) в другой – «вещи, связанные с ритуалом». Она перестала быть чашкой, из которой люди пьют каждый день, и стала знаком кормления духов и вечного уважения к ним. Не надо думать, что это какой-то исключительный пример. Антропологи знают много подобных случаев из традиционной культуры. Любой предмет повседневности может быть в разные моменты времени и в разных ситуациях и вещью, и знаком. Этот принцип, описанный Альбертом Байбуриным, можно было бы сформулировать как: статус предмета тем выше, чем больше вещь является знаком и чем меньше она остается вещью[528]528
Байбурин 1981: 216.
[Закрыть]. Высказывание Молотова, о котором шла речь в начале раздела, является частным вариантом этого принципа.
«Принцип Молотова» работал и в жизни обычных людей. Западная вещь, даже попадая в дом, часто оказывалась значимым символом и поэтому не выполняла свою прямую утилитарную функцию:
Все детство я мечтала об импортном школьном пенале – с отделениями на молнии, c карандашами и ластиками, в котором было все. И вот, наконец, мне его привезли из Португалии. Счастью не было предела, однако я не смогла им пользоваться: я боялась лишний раз тронуть все те прекрасные вещи, которые в нем находились. Так я и носила с собой два пенала, один простой советский и второй импортный. А потом и носить перестала. Боялась, что украдут[529]529
А. С., ж., 1976 г. р., Москва (самозапись).
[Закрыть].
В этой истории импортный пенал довольно быстро перестал выполнять прямую функцию – быть хранилищем ручек и карандашей, – а стал знаком принадлежности к некоторой особой реальности. Такой переход импортного пенала из состояния «просто вещи» в состояние «знака» не был единичным случаем. В 1960–1980‐е годы такой была участь многих вещей, сделанных на Западе и оказавшихся в СССР.
Советские люди (как правило, жители больших городов) нередко стремились окружить себя западными вещами-знаками. За этим стремлением стояло, как считает антрополог Алексей Юрчак, желание создать вокруг себя пространство «воображаемого Запада». Это пространство создавалось разными способами, самым доступным из которых был лингвистический. Жители советских городов активно придумывали слова-экзонимы для самых обычных объектов советской действительности. Спальный район провинциального советского города мог именоваться Парижем, анонимное кафе – Сайгоном, а друг Миша – Майком. Словом «американка» могли называть вид блузы, оригинальные джинсы, тип спора, игру на бильярде, СИЗО КГБ в Минске, закусочную с высокими табуретами и вариант дворового футбола[530]530
Опрос авторов статьи 2016 года о внесловарных значениях слов.
[Закрыть]. В 1960‐е годы советская молодежь с упоением исполняла дворовые баллады («Джон Грей, красавец…») о чужих странах, пиратских кораблях и нездешних красавцах[531]531
Неклюдов 2008.
[Закрыть]. Приобретение западных вещей было более действенным, но и гораздо менее доступным способом приобщения к «воображаемому Западу». Тем не менее некоторые могли сделать у себя дома «западный» интерьер – оклеить стены комнаты фотографиями «Битлз» или портретами Хемингуэя, а типовую кухню хрущевки украсить банками из-под иностранного пива. Отдельные счастливчики могли достать западные вещи, которые можно продемонстрировать в общественных местах, – одежду, обувь или сумки. Большой удачей, например, было приобрести полиэтиленовый пакет с надписью на иностранном языке (например, «прачечная Нью-Йорка»)[532]532
Юрчак 2014: 383–385.
[Закрыть]. С таким пакетом гордо ходили по улице, ежедневно используя его вместо сумки, пока надпись не стиралась. Пакеты с иностранными надписями пользовались бешеным спросом в специализированных магазинах «Березка», где очень немногие советские граждане могли покупать заграничные товары за инвалютные чеки. Спрос на эти пакеты был таким высоким, что сотрудники «Березки» могли с большой выгодой для себя продавать их «налево»[533]533
Иванова 2017: 151.
[Закрыть].
Так западные вещи-знаки лишались своей утилитарной функции и становились индексами (см. c. 108), отсылающими к Западу как таковому. Надписи, лейблы и вообще внешнее соответствие предмета одежды стандартам «фирмы́» (этим словом в позднесоветское время называли любую вещь западного происхождения) были гораздо важнее утилитарных качеств вещи. Моряки, бывающие в загранплаваниях и нередко промышляющие перепродажей импортной одежды, прикладывали много усилий для того, чтобы купить именно настоящую «фирму́», а не ее малоинтересные аналоги, изготовленные в Польше или Индии. Наш собеседник, ходивший в «загранку», описывает, как долго и тщательно советские моряки проверяли покупаемую вещь на предмет ее «фирменности»:
Проверяли главную пуговицу и соответствие лейблу. Потом проверяли молнию и зиппер (и лейбл и на нем). Потом проверяли заклепки. И символику. А потом проверялись все швы. Так с лицевой, так и изнаночной, и нитка должна быть желтой, с обеих сторон, швы кое-где должны были двойными. И рисунок швов был у каждого кармана. Выбор каждой пары шел минут 40–45[534]534
Д. Ф., м., 1951 г. р., Санкт-Петербург (интервью).
[Закрыть].
Поскольку импортная одежда часто пребывала в статусе знака, а не вещи, то настоящие американские джинсы носили и в том случае, если они были очевидно велики или малы их обладателю, – их функция заключалась не только в том, чтобы быть удобной одеждой для своего владельца, но и в том, чтобы отсылать к воображаемому Западу. Поэтому западное происхождение вещи иногда имитировалось: молодые люди, не имеющие возможности приобрести настоящую «фирмý», пришивали западные лейблы на вещи, изготовленные кустарным образом или привезенные из соцстран.
Зелен виноград, или Когда западная вещь (не) становилась опасной
Представим себе ситуацию: теоретически достать американские джинсы можно и обладать ими очень хочется (они – больше чем вещь), но есть препятствия – дороговизна, необходимость вступать в сомнительные контакты, страх перед неприятностями, которые можно получить за участие в подпольной торговле, боязнь осуждения. В такой ситуации рассказ о том, что американские джинсы покупать не стоит, ибо они заражены сифилисом или в их швах спрятаны вши, давал удобное компенсаторное объяснение по принципу «зелен виноград». Помните басню Эзопа, где лиса, которая не смогла допрыгнуть до винограда, говорит, что он ей вообще не нужен, ибо он незрелый? Городские легенды об отравленных джинсах, подобно лицемерной лисе из античной басни, говорили примерно следующее: импортная вещь вовсе не такая уж прекрасная – на самом деле она опасна, и потому приобретать ее не стоит, она нам не нужна. В результате желанные западные вещи, которые легко становились символически нагруженными «вещами-знаками», изображались опасными в слухах и легендах. Наша коллега рассказала нам такую историю, услышанную в 1960‐е годы:
Когда в моду вошли нейлоновые рубашки, все их носили с большим удовольствием – красиво, легко стираются. Но ходили такие слухи, что якобы нейлоновые «нитки» проникали сквозь поры кожи в тело человека и начинали там передвигаться, вели себя как живые. Особо неприятно было, когда при попытке помочиться эта нитка (а они были очень длинные) начинала выходить наружу[535]535
О. Б., ж., 1950 г. р., Москва (интервью).
[Закрыть].
Из этого следует, что для тех людей, которые не нуждались в такой психологической компенсации, истории об опасных импортных вещах не были актуальными. И действительно, были социальные группы, где подобные истории появлялись редко.
Во-первых, западная вещь имела очень мало шансов стать темой страшных рассказов в среде, где люди вообще не были знакомы с этим желанным благом. Если использовать метафору «зелен виноград», то речь идет о ситуации, когда винограда рядом вообще нет, хотя люди знают, что где-то это экзотическое растение произрастает. Для многих советских людей западные товары относились к разряду абсолютно недоступных. Как сказал один наш собеседник, который в 1970‐е годы жил в маленьком подмосковном городе Реутове: «есть вещи, о которых даже не мечтают»[536]536
А. Т., м., 1969 г. р., Реутов (интервью).
[Закрыть]. Например, в городах, закрытых для иностранцев, шанс получить в подарок от иностранца жвачку равнялся нулю, а черный рынок по продаже импортной одежды имел гораздо меньший масштаб, чем в Москве или Ленинграде. Наши информанты, безвыездно жившие в таких городах, как, например, Свердловск (ныне Екатеринбург), имели гораздо меньше возможностей приобрести западную вещь. И именно поэтому они почти не знают историй про отравленные джинсы.
Во-вторых, западная вещь не становилась темой пугающих слухов тогда, когда западные вещи были слишком доступны. Это ситуация, когда виноград (используем снова нашу любимую метафору) растет в изобилии, и его гроздья висят так низко, что их легко можно сорвать. В первую очередь так было в семьях партийной или творческой элиты, которая в позднесоветское время имела регулярные каналы получения импортных товаров. Так, например, наша собеседница, москвичка 1968 года рождения, учившаяся в школе на Старом Арбате, куда, по ее словам, ходили дети «МИДовских работников», видела и постоянно обсуждала реальные заграничные вещи, которыми ее одноклассники делились или не делились. В ее рассказах фигурировали настоящие «французские кофточки», джинсы и жвачка, причем без всяких признаков опасности. Во вторую очередь относительно легкий доступ к западным товарам имели жители тех городов, где были налажены контакты с «заграницей» просто в силу их географического расположения или экономической специализации (это несколько прибалтийских городов, портовые Одесса, Владивосток и отчасти Ленинград). Наш собеседник из Одессы рассказывал нам, что он в семье, в школе и во дворе постоянно имел дело с заграничными вещами, поскольку его отец-моряк привозил их в больших количествах для перепродажи, и поскольку моряками, ходившими в «загранку», были отцы многих его друзей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































