Текст книги "Вольер (сборник)"
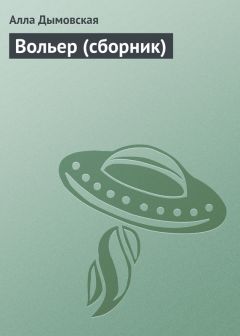
Автор книги: Алла Дымовская
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
– Выходит, он был его сыном. Тогда все понятно, – как-то обреченно ответил ему Фавн и пояснил: – Твой новый братишка, Нил, он был родным сыном тому мертвому человеку.
– А-а-а! – только и смог выдавить из себя Тим, не найдя никаких иных слов и звуков. Прочие книжки ему брать сразу же расхотелось, он на мгновение пожалел, что взял прежнюю, но не возвращать ведь ее, в самом-то деле? Это что ж? Он совершил убийство отца того самого мальчика, которого обязался любить и жалеть, особенно от других детей. Плохо ему было уже и оттого, что совершил он, Тим, это убийство, но еще хуже сделалось потому, что оказался погубленный им человек чьим-то отцом. Да не чьим-то, а малыша, которого он знал и даже успел записаться ему в близкие родичи. Хоть нарочно топись теперь в той же «бассейне»! И все равно ничего не поделаешь и ничего не поправишь. Ему вдруг стало больно-пребольно в груди.
– Пойдем, некогда здесь стоять. Поспешать нам надобно, – позвал его за собой старик, и ничего другого Тиму не оставалось, как подчиниться. – После душой намаешься, будет еще тебе время, – сказал он будто в напутствие, будто догадался, где у Тима болело и от чего.
Ушли они недалеко. И комната эта была совсем некрасивая. Как если внутри сарайчика, где «домовой» держит всякое подсобное барахлишко. Железные блестящие ящики, целая уйма, и зажимы вдоль стен, какие делаются для одежды. Однако висели на них не защитные плащи и не зимние короткополые кацавейки, а несколько загадочного вида пузырей, чем-то смахивавших на мыльные. Только однообразного тускло-бутылочного цвета и вовсе не прозрачных снаружи.
– Ага, вас-то нам и надо! – торжествующе воскликнул Фавн, и сразу стало понятно – старик нашел то, что искал. – Вот и транспорт. Иначе, средство передвижения по воздуху.
– Как это? – недоумевающе спросил Тим. Глупо было и предположить, что на таких-то штуках можно куда-то перемещаться. Разве что верхом. Он представил себе мысленную картинку и невольно неуместно прыснул со смеху. Будто кузнечик, прыг-скок! Ну это уж Фавн загнул, на своих ногах куда быстрее выйдет. – Я, пожалуй, отправлюсь пешком. Не полезу на этот твой пузырь, и не проси. Еще свалюсь, – брюзгливо и пренебрежительно возразил он Фавну.
– Да не верхом, дурила! – старик тем временем отсоединил один из железных зажимов. – Это же «квантокомб», иначе квантовый комбинезон, правда, сильно устаревшей модели. Даже для моей памяти. В нем и прибыл в поселок здешний Радетель… Когда еще был жив. Поди-ка сюда, – и поманил исхудалым, согнутым пальцем.
Тим опасливо подошел. Все же успел он догадаться, что пузырь этот – вовсе не пузырь, а нечто иное, чем на первый взгляд кажется. Если на убиенном им Радетеле был некогда подобный, значит, и он, Тим, вполне сможет справиться.
– Что делать-то? – решившись на все, спросил он. Как ни гнал сомнение прочь, но не слишком ему верилось в то, что зеленоватый и липкий на ощупь пузырь поможет хоть как его удачному побегу.
– Смотри и слушай. Очень внимательно. Повторять мне некогда, так что трудись и запоминай, – старый Фавн ловко вывернул пузырь словно бы наизнанку. – Видишь эту плоскую черную железяку? Называется – панель управления. Она будет у тебя на груди. На ней только два символа – правый «скорость полета» и левый – «состояние системы». Ну, первый, понятно для чего. Короткое нажатие – убыстрение. Долгое – замедление. А второй используешь, когда захочешь свернуть «кванто-комб»: один раз надавишь – состояние готовности, вот как сейчас, если дважды – на груди останется лишь панель управления, на этом самом крючке-креплении. – Фавн тронул загнутую присоску, неприятно чмокнувшую под его указательным пальцем. – То же самое, если захочешь развернуть, но в обратном порядке. Направление вверх, вниз или в любую сторону можешь менять сам запросто, как если бы ты плавал в речке. После ты на лету разберешься. И накрепко усвой – находясь внутри этой модели, ни к чему и ни к кому живому прикасаться не смей! Почему, долго объяснять. Но ты можешь невольно причинить вред или даже убить! Это чуть было не случилось с тобой, помнишь? Когда Радетель дотронулся до тебя самого.
Еще бы Тим мог забыть! Ну уж, дудки! Ни к кому он прикасаться не станет, хоть режь его на части, хватит с него и одного греха! Только что же это? И он, Тим, благодаря этому пузырю полетит по воздуху, что твоя птица? Да ведь Радетель-то внутри него летал, и как ловко у него выходило. Это не пузырь, это невиданного рода одежа, понял он, наконец. Всего-то одежа! Вроде ряженых на Рождество Мира! В нем поднялось вдруг неслыханной силы возмущение и на мертвого человечка, покинутого ими в дальней комнате, тоже. Вот обман, так обман! Чтоб таково-то дурачить целый поселок! И как же посмел он? Так же, как посмел и ты, – ответил за него внутренний голос. В здешнем мире все по-иному. Если сходит с рук убийство и никакого тебе грома небесного, сойдет с рук и обман. Он ли, Тим, не собирается нынче сделать нечто подобное? Выдавать себя не за того, кто он есть на самом деле? Губы его невольно зашептали хорошо и давно знакомую молитву, но скоро замерли в беспомощности. Молиться отныне было некому. Здешний Бог его оставил – и надо же, умер! Других он пока не знал. В голове его завертелся, закружился вьюгой бездонный хаос мыслей – хладно и муторно, он невозможным усилием заставил себя не думать из чувства самосохранения тоже. Что же, один бог сгинул, так, может, иные найдутся. Он сам себе найдет. На этом и порешил до поры до времени.
– Как его надевать? – хмуро и самую малость неприязненно спросил он у старого Фавна.
– Очень просто. Хотя для начала нам надо выйти наружу, – Фавн подхватил в охапку пузырь и без дальнейших слов направился из чуланчика прочь. Ничего более не объясняя за отсутствием лишнего времени и явной нужды. Они вышли из того же места, где вошли. Мимо разодранного окошка. Мимо двери с «ракобросом». Остановились у березовой рощицы.
– Застегни наглухо защитный плащ. Сума должна быть посередине спины… Вот так, – удовлетворенно хмыкнул старик, когда Тим исполнил все требуемое. – Теперь можешь проститься.
Тим не стал мешкать и раздумывать, обнял Анику. Словно бы прощание сделалось для него самой обыденной вещью на свете. Она не ответила ему, но жалобно посмотрела.
– Ничего, ничего… я скоро вернусь. Обещаю. Ведь не было такого, чтоб обещал я, да не исполнил, – мягко прошептал он девушке на ухо. Не было, да. А ныне вполне может и быть. Только Анике об этом знать ни к чему. Однако оставался еще и Фавн: – Как по-здешнему прощаться-то нужно? – спросил он у старика. Обниматься с Фавном показалось ему неподходящим способом изъявления чувств перед разлукой.
– А вот так, – Фавн протянул ему руку морщинистой старческой ладонью вверх. – Взамен давай навстречу свою и крепко жми.
Тим вложил в это нехитрое движение всю свою порывистую благодарность, и как будто ощущение дружественной близости перешло, перелилось от него к старику, и потом обратно, но уже с удвоенной силой. Хорошее вышло прощание.
– Куда лететь-то мне? – вдруг опомнился он. Об этом Фавн ничего не сказал ему, а пора уж в путь.
– Сейчас начнет вставать солнце, так ты лети прямо на него к той линии, что между небом и землей. И скоро по правую руку увидишь город, – как можно короче попытался объяснить ему дорогу Фавн.
– Город? Что это такое? – не понял совершенно Тим.
– Это большой поселок. Только для Радетелей и ни для кого кроме. Ты его узнаешь. По облику и по величине. И по тому, что вокруг него совсем нет пограничных столбов. Там ты должен найти себе кров и пищу, и все, что понадобится. Но как именно это сделать, тебе придется соображать самому. Так ты докажешь свое право, – вроде бы и не совсем понятно сказал старик, однако Тим ощутил тем самым, тайным и неназванным чувством, что знает, о чем Фавн вел свою речь. – Ничего не бойся или хотя бы не подавай виду. И помни – надо, чтобы каждый из Радетелей думал, будто ты один из них. До тех пор, пока ты действительно таковым не станешь.
– Я постараюсь, – пообещал старику Тим. Разве сейчас был у него иной выбор?
Фавн надел мутно-зеленый пузырь прямо ему на голову, коснулся слегка черной железяки. И чудное дело. Немедленно тугая вязкая плотность одежи растянулась вдоль, облекая Тима будто бы в новую, воздушной легкости кожу, он весь засиял переливами, заблистал зеркальными сгустками света. Он обнаружил себя снаружи и изнутри в одно и то же время – плоская черная железяка на груди с двумя символами, которые для управления, и плащ, и собственные ноги, обутые в открытые сандалии, – во всем ни единой привычной линии. Будто бы он был не он, а то самое светящееся существо, которое некогда стояло на Колокольне Времени и ослепляло резкими угловатыми гранями своего естества склоненную перед ним толпу. Он видел, как довольно улыбнулся Фавн. И как испуганная Аника упала на колени. Но прийти на помощь к ней Тим уже не мог. Пришлось старику поднимать ее самому.
– Прощайте! – он замахал им тем, что виделось ему рукой, а снаружи казалось неуловимо сверкающим зеркальным отростком.
Он уже знал, что делать. Плавная невесомость в его теле подсказала нужные движения. Толчок, другой. Ого-го-го! Едва заметный взмах руки, и вот он взмыл ввысь над рощей. Стремительно закружилась голова, дыхание перехватило до невозможности набрать новую порцию воздуха в грудь, только бы не упасть! Страшно, страшно. Ой ли? Никуда он не упадет, ха! В том-то вся и штука. Тим сделал круг над холмом и домом, потом еще один. Быстрее, медленней, еще быстрее! Свет ты мой! Вот так да! Сказка ли это или наяву? Все, что происходит с ним? Он птица, птица! Вот она, настоящая воля! Какова?! И как необъятен мир! Кувырок, еще и еще! Давай! Теперь вперед! Где линия неба сходится с линией земли. Вслед за солнцем, которое одно на всех. Неожиданно он поверил и в это.
Он летел и не помнил сейчас ничего. Позади на некоторое время остались и мертвый смешной человечек, отец мальчика Нила, погибший от его руки. И сам мальчик Нил, и поселок «Яблочный чиж», и старый Фавн, и даже Аника. Он был почти безумен. И он летел. Ощущение этого неизведанного никогда прежде состояния заставляло его петь внутри зеркального облачения, спасая и сохраняя его от тьмы рухнувшего навеки в небытие привычного прежде мироздания. Но на краю бездны познания нового и неведомого Тим как бы возвращал себя звуками собственного голоса, он уверен был – его песню слышно и снаружи. Хорошо бы еще сыскались охотники послушать.
Они вскоре и нашлись. Наверное, наступил уже ранний голубой час его полета, когда попались первые встреченные им люди. Или Радетели, понимай как хочешь – сказал бы ему Фавн. Одна парочка выскочила из-за наливающихся дневным светом облаков – направлялись в другую сторону, противоположную Тиму, помахали ему приветственно, он бессознательно ответил тем же. Не раздумывая ни единого мгновения, но испугался сильно. Вдруг не признают за своего. На встреченных людях были совсем иные одежды, прозрачные и текучие, как дождевая вода, так что в них не терялось их собственное тело, даже и лица были хорошо видны. Это потому, что на нем древняя модель, то есть старая одёжа, припомнил он слова Фавна и сложил один да один, получился правильный вывод. Другой летун обогнал его сверху, Тим не успел его толком рассмотреть, но заметил – тот словно бы извинялся перед ним за свою неучтивость. Тим на всякий случай приветственно помахал и ему. Нельзя забывать – теперь он в мире, который пока ему враг. Пока он не разберется, как спрятаться в нем или, что лучше всего, одолеть. Иначе никак не вернуться ему к Анике. Да заодно и к Фавну тоже. А под ним был уже город. Тим понял это, едва очнулся от раздумий и поглядел вниз. Свет ты мой, ну и громадина! Тут затеряться, что горошине в густом малиннике. Он вздохнул довольно и глубоко, затем, вытянув руки перед собой, нырнул в перистое, клубящееся взбитой молочной пеной облако и устремился к земле.
Гортензий, Амалия Павловна и?..Ноги их легко и бесшумно коснулись травы. Пригласительный постуларий, возвышавшийся впереди, осведомил их о месте прибытия. «МОНАДА» – гласила налитая глубокой синевой, словно бы парящая в жарком воздухе графическая вокабула.
– Дальше стоит идти пешком. Мало того что мы самозванцами, да еще пришвартоваться прямо перед чужой дверью – дерзость выйдет неудобоваримая, – предупредил свою спутницу Гортензий, хотя Амалия об том знала и без его подсказки. Затем отключил «квантокомб».
Дерзость неудобоваримая, слабо сказано. Хмыкнул он про себя. Ладно, огнеглазая красавица, рядом с ним выступающая изящно по дорожке, – она, конечно, заслуженный старый гость сего дома. А он-то кто? В жизни здесь не был. Не удостаивался приглашения как новопоселившийся выскочка (это за добрые десять лет!) и сомнительного качества потенциальный ученик и поклонник. Агностик в этом смысле слыл человеком разборчивым. Хотя многие считали Паламида Оберштейна зазнайкой, сущим проклятием любых общественных сборищ, где он мало кому давал раскрыть рот, и вообще излишне о себе воображающим типом, которому не помешала бы толика скромности. И в то же время признавали – есть от чего. И воображать и зазнаваться. Человек, обитавший на вилле «Монада», подобно древнеримскому гению места, имел на это право. Поэтому плюхнуться прямиком на лужайку перед порталом в сии врата учености, иначе porta antiquae философской мысли, вышло бы откровенным нахальством со стороны столь молодой и столь беспечной особы, каким являлся Гортензиус-Йоханус-Астуриус Лонгин. То есть он, Гортензий. Но ничего, прогуляться в знойный полдень по тенистой березовой аллее, да еще с женщиной своей нынешней мечты – о, это вовсе не потеря драгоценных минут, а, напротив, дорогое приобретение.
– Как вы думаете, Амалия Павловна, меня выпрут сразу или все-таки позволят постоять рядом, пока вы будете объясняться о цели нашего с вами прихода? Точнее, прилета, – он ерничал нарочно, а у самого ощутимо тряслись поджилки. Это прежде он про колобка румяного загибал, рисовался перед дамой, а в действительности! Ну как за шкирку его и вон за порог? Или Амалия скажет: «Вам, милый мой Гортензий, вообще для начала лучше подождать снаружи». И то «милый мой Гортензий» – это он для утешения выдумал. Не милый, и не ее, а просто назойливый влюбленный, который зарится на Амалино прекрасное тело и уж только потом на не менее прекрасную душу.
– Вы зря беспокоитесь, – против ожидания успокоительно-мягко ответила ему Амалия Павловна, – Паламид всегда считался человеком воспитанным, хотя и вспыльчивым крайне. Резкие слова, конечно, будут. Ничего не поделаешь! – Амалия вздохнула не без сокрушения. – Но чтобы, как вы выражаетесь, вас «выперли», этого просто не может произойти. Вот увидите, еще не захочет отпускать. Поэтому приготовьтесь к беседе долгой. И ради бога, не противоречьте ему! А только неявно сочувствуйте и увещевайте.
Ага! И так неплохо. Однако по поводу «беседы долгой» Гортензий насторожился. Уж Агностик любит поговорить при удобном случае, и кто ж этого не знает? Хорошо бы по делу, или, скажем, услышать ученое наставление, несущее слушателю значительную познавательную пользу. Только согласно пересудам людей осведомленных, не всегда такое счастье выпадает, а даже довольно редко по отношению к визитерам залетным. Всего более славный и мудрый Паламид Оберштейн норовит морочить головы изложением собственной кафедральной биографии, щедро разбавляя ее перечислением всевозможных ослепительных побед над тупицами-оппонентами, выпавших на долю рассказчика. Так что никакого благоговения под конец уже не хватает, даже элементарное поддакивание не спасет. Единственно бы ноги подобру-поздорову унести. А ведь они с Амалией прибыли как раз для такого задушевного общения! Ну и придется потерпеть. Лишь бы вышел толк, а там – пусть ест волк, как говорится.
– Интересно, удастся ли нам вернуть без потерь сие несчастное существо, я имею в виду особь из Вольера, на надлежащее ей место? – спросил он, дабы направить неспешный попутный разговор в иное насущное русло.
– Не знаю, что вам сказать на это. Лично в моей практике похожих случаев не было, потому ведь, что ничего подобного в нашей округе не происходило ранее. Но в крайности можно будет попросить для консультации другого специалиста. Говорят, Артабан Андреев-Галикарнасский, между прочим, великолепный профильный педагог, сталкивался у себя в Анкаре с аналогичной проблемой. Много лет назад один досужий соседский отпрыск, как и вы, влюбчивый чрезмерно, – будто бы и с упреком заметила Амалия (Неужели, ревнует к прошлому? У Гортензия перехватило дух), – так вот, этот отпрыск произвел изъятие из Вольера женской особи. Добром не кончилось, но и без жертв обошлось. И все благодаря Артабану.
– Вы полагаете, в случае Агностика тоже имело место сексуальное домогательство? Или даже насилие? – Гортензий невзначай нахмурился. Худо, если так.
– Вряд ли. Очень, очень вряд ли. Разве из ряда вон выходящее болезненное состояние. Вы поймите, хотя Игнаша и считает своего соседа этически неуравновешенным, но не до такой степени. Впрочем, в данном случае его поведение уже не экстравагантность, иначе стали бы мы беспокоиться. Тем не менее Паламиду отвратителен и ненавистен Вольер, как и все, с ним непосредственно связанное. Я думаю, он даже не прикасался к этому существу. Из чувства брезгливости и от нежелания считаться с его человекоподобностью. Здесь имеет место внешний протест, а не внутренняя потребность. Вот, к примеру, стали бы вы, Гортензий, сексуально домогаться, скажем, лягушки? – спросила его Амалия Павловна, и Гортензию показалось, что испугалась на секунду: вдруг он ответит «да». Вдруг с него станется?
– Не то чтобы лягушки, но и самой Ниночки Аристовой. Для меня сейчас что лягушки, что прочие женщины – одно. И вы знаете, почему! – переходя на патетический тон, ответил Гортензий. Если примет в шутку, пусть – с фигляра какой спрос? А если нет, еще лучше. Ее грудной, почти басящий голос всегда сводил его с ума, то и дело заставлял забывать о приличиях.
– Вы обещали мне. Или забыли? – жалобно произнесла в обычном для себя низком регистре Амалия Павловна, будто пощады просила. (Нет, в шутку не приняла. Гортензий едва не припустил вдоль аллеи вскачь.)
– Простите, – как можно скромнее и виноватей ответил он.
Тем временем березы и тропинка кончились. Они наконец-то подошли к дому, к цели своего пути. Гортензий с недоумением стал озираться. Этак-то строили без малого века четыре назад. Выходит, владельцы поместья, и прошлые и нынешние, отличались крайним и застарелым консерватизмом. Да ведь «Монада» никогда не переходила из рук в руки, оставаясь всегда местом пребывания одной семьи! Фамильное гнездо – редкость по нынешним временам. От Аграновских к Оберштейнам, а вот от них-то к кому? Единственный сын – в Вольере, и судя по характеру стойкого однолюба, у Агностика других уже не предвидится. Печально, но фактически верно. Тут поневоле взбеситься можно. Не то чтобы какую отдельную особь, весь Вольер с горя уморишь запросто. Однако скорбь скорбью, а не смог не отметить Гортензий некий занятный казус. Шут царя Гороха, шут он сам и есть, таковым родился, таковым, видно, и помрет. В свое время, конечно.
– Скажите, Амалия Павловна, отчего это у Агностика вместо настенных растительных рельефов таблица Лозинского-Майерса для определения степеней неадекватности душевнобольных? – не сумел он воздержаться от смешинки и прыснул в кулак. Но тут всякий бы пустобрехом расхохотался. Переводной цветущий плющ, живописно увивавший наружные склоны Агностикова дома, являл его недоуменному взору ехидную картину. Здесь тебе и утка в песчаной заводи, и классический заяц с двумя лишними лапами, и индейская пирога с рострами позади и спереди. Все прочее, в таком же духе, для клинического тестирования состояний психических отклонений. Чистый дурдом, как говорится в обыденном просторечье.
Амалия улыбнулась украдкой, однако он успел заметить. Но остановилась, видно, решившись на объяснение. И правильно. Лучше сейчас, не то, о ужас, вдруг осведомится у самого хозяина!
– Понимаете, это вышло недоразумение. Паламид любит все естественное. Он и лекции в свое время читал, расхаживая взад и вперед в этой самой роще, подражал перипатетикам. Целая школа у него была, пока… Ну, одним словом, пока не выяснилось с Нафанаилом. Стыдился он при учениках, наверное, и оттого всех разогнал. И дом у него, вы видите – будто бы из кельтской легенды, где ночные эльфы спят в полых холмах, хотя это еще бабушка Светланы захотела, давняя мода такая была, но Паламид семейную традицию почитал. Вообще, ни одной новой вещи, он не терпит необжитого. Но пару месяцев назад…
Ох, и была же история. Анекдотическая, иначе не скажешь. Гортензий бы непременно оказался в курсе случившегося, если бы не блажил, шастая добровольцем по всяким сомнительным экспериментам. Теперь уж поговорили и забыли. А тогда смеху вышло на всю округу. Что вышло-то? А вот что. То ли с нового горя, то ли со старого, но затеял Паламид у себя на вилле преобразование. Замшелые натуральными лишайниками аквамариновые родимые стены неожиданно показались ему несколько непрезентабельными. Естественными как-то слишком. Как-то чересчур. Вот если бы все то же самое, но со смыслом. Все же обитель современного философа, почти «ультра», а не дикаря-друида. Поэтому отправился как-то Паламид в ближайший населенный пункт Большое Ковно. Заметьте, с недавних пор отданный на поток и разграбление мастерам именно, художественного изображения и слова. Долго выбирал и перебирал, кого бы удостоить неслыханной чести. Всем порядком надоел. Наконец остановил свой выбор на вольной младостудии «Тахютис», что в переводе с греческого древнего языка означает «скорость». Это-то в основном и прельстило. Долгих переделок он не желал. Но и выразил требование – пусть творят, что хотят, лишь бы выглядело впечатляюще и непременно природно-естественно. А надо сказать, что лукавые младостудийные ребята не так уж чтобы слишком высоко оценили оказанную им честь. У них и без Паламида хватало. И забав, и поклонников их талантов. Потому отчаянные сорвиголовы отважились на рискованный розыгрыш. В считаные дни нарастили и плющ, и разноцветные мхи, Паламид как глянул, тут же сомлел. Чудно и прелестно – так ребятишкам и сообщил в виде похвалы. Те ничего – откланялись: в любой момент будем рады, если еще чего пожелаете, столь известной персоне внимание без очереди. Оставили хозяина наслаждаться в одиночестве.
До той поры, пока она, Амалия, и один ее знакомый исследователь-психокинетик не заявились к философу с визитом. Да что говорить! Едва увидали они предъявленное чудо, дар речи потеряли и надолго. Все то время, пока Паламид горделиво распинался про живописную обновленную красоту, они пребывали в столбняке. Потом психокинетик осторожно намекнул. Хозяин ему не поверил, прямо в крик. И немудрено. Пришлось идти в дом, открывать нужную книгу на нужной странице и, что называется, доказывать наглядно. Получился форменный скандал. Младостудийцы, однако, держались молодцами. Выстояли бурю и наотрез отказались снять безобразие с наружной стены. Дескать – чего просили, то и получили. Природная естественность вот она, на месте. А уж о впечатлении на знатоков и говорить не приходится. Ни у кого больше, может, в целом мире ничего подобного нет и будет вряд ли. Паламид чего только с этим плющом не делал! И обдирал его, и вырывал с корнем, и велел смотрителю брызгать кислотой, куда там! Это же окультуренный генетически Тысячелетний Венерианский Переводной, его и плазменным ожогом не возьмешь. Теперь так и будет десять веков держать заданную форму, пока сам не завянет, если, конечно, не разобрать по аквамариновому камешку всю виллу вплоть до основания. Однако теперь лучше при Паламиде ни о студийцах Большого Ковно, ни тем более о «Тахютисе» и намеком не упоминать, и ненароком не обмолвиться. В его доме ныне это слова ругательные.
– Что же, так и живет? – давясь от затаенного хохота, переспросил Гортензий. Вот уж анекдот, действительно.
– Как видите, – вздохнула Амалия Павловна, но и опять не смогла воздержаться от улыбки. Кокетливым жестом оправила темные капризно-рыхлые косы. – Но давайте, наконец, и войдем. Ведь не за развлечением мы сюда прибыли.
Дверь была слегка приоткрыта. Никого из них это нимало не удивило. Агностик славился своей рассеянностью, вплоть до удручающей небрежности. Поэтому со спокойной вполне душой Гортензий переступил чужой порог вперед Амалии Павловны – как наименее знакомый гость. И как положено то правилами приличного воспитания, остановился в ожидании. Теперь здешний смотритель, иль лаборант, или еще какой Викарий-голубчик должен подать о себе весть и, поприветствовав гостей, осведомиться о цели их прихода – дело обычное. Хотя у Карлуши он проходил сразу куда хотел, вот это друг называется, да! В своей берлоге Гортензий тоже не держался за церемонии, наверное, и впрямь по молодости. Но людям с заслуженным славным именем без сего не обойтись, мало ли ротозеев с пустяковым интересом, на всех времени не напасешься! Тем более Агностику, сторонних визитеров не жаловавшему вообще.
Никто их не поприветствовал и ни о чем не осведомился. Гортензий уже и удивиться успел – неужто у зазнайки-философа все вот так, запросто? Быть того не может, хотя это разочарование в ожиданиях из разряда приятных. Но тут Амалия Павловна дернула его за полу летной куртки-безрукавки. Он обернулся сначала к ней: будто плетью, нет, обухом по голове, – такое было выражение на нимфоподобном ее лице, и глазища вдруг черные-пречерные, это зрачки расширились от изумленного испуга, только чего же пугаться в залитой сиреневато-солнечным светом приемной? Он перевел свой еще непонимающий взгляд туда же, куда смотрела она. Ба, тысяча демонов разгильдяйства его побери! Окошко смотрителя доисторических кондовых времен, с распахнутым и растерзанным мертвым нутром зияло равнодушным безмолвием и бесцветной пустотой. Взбалмошная очередная затея реконструктора-самоучки, говорят, Агностик слаб по части технологических знаний? Или же? С чего бы Амалии так-то страшиться? Нет, дело не в этом. Но в чем? В том, что стряслась какая-то непредсказуемая оплошность, или гадючая гадость, или попросту беда. С Агностиком, с кем же еще! Может, существо из Вольера, не выдержав психопатической перемены, напало на него, да и сбежало? Чушь на гравитационной смазке, – все неслись вихрем разноплеменные мысли в его плохо соображавшей сей миг голове, – сил на то не хватит ни у какой особи хоть женского, хоть мужского пола. Во-первых, у них у всех гормональная блокада половых инстинктов, что отнюдь не способствует чрезвычайной озверелости. А во-вторых, невозможно никакому зверю, разве кроме саблезубого ископаемого тигра, ни тем более вольерному обитателю сладить с много и функционально тренированным современным психокинетиком-сапиенсом.
– Гортензий, мальчик мой, что же делать? – гулко и против обыкновения в колоратурном ключе вопросила его Амалия Павловна, прижалась к нему сбоку и со спины, будто пряталась за несокрушимый утес.
Вот он уже и «мальчик мой»! Пусть от непроизвольного, смутившего дух волнения, все равно. Лишь бы прижималась. Да и бояться, скорее всего, нечего. Сейчас ситуация разъяснится. Зато у него в нынешней пьесе ведущее соло, и Амалия того не забудет. Ни его крепкое опорное плечо, ни решительную руководящую мужественность. Все это – верный первый шаг к последующему триумфальному сближению. А говорила – нет у нее нынче расположения в настроении, само собой, до флирта тут далеко, зато до всего остального близко. Что же, он вовсе не против выступить в роли защитника нежных и огнеглазых профильных педагогинь, как и безответственных истеричных философов.
– Надо пойти и посмотреть самим. И первым делом сыскать хозяина сего гостеприимного дома. Еще можно покричать а-у-у! Вдруг отзовется, – попытался он разрядить нехорошо сгустившуюся атмосферу убогой шуткой. Но теперь любая сойдет.
– Не надо кричать, – прошептала Амалия Павловна и прижалась к его боку еще тесней.
А вот это скверно. Она лучше моего знает. Ты ли сам последнюю минуту не ощущал разве? Куда подевалась твоя собственная сверхчувственная интуиция? Не ей ли ты хвастал всегда, а перед дамами особенно? Никуда не подевалась, тут как тут, пихает тебя, как бес в ребро, а ты все о грезах любви. Возьми себя в руки, Гортензий! Он и взял.
– Как угодно. Я пойду впереди, а вы уж – за мной. Но если хотите, можете остаться тут. Даже лучше вам будет остаться, – предложил он своей побледневшей до истонченной синевы спутнице. Не кривил душой, а в самом деле думал, что лучше ей остаться. Его личные, идущие из глубины ощущения остерегали его. Мерзкий, лапчатый холодок прошлепал по безнадежно вспотевшей вдруг спине, а на закаменевшую шею уже уселся нагло маленький и жуткий зверек по прозвищу «ей-ей, паника!». Гортензий с трудом его согнал с захваченной позиции.
– Нет, я с вами. Не оставляйте меня, пожалуйста! – плаксиво попросила Амалия Павловна, и не хотела раскисать, но очень уж скверно сжало ей сердце. Не предчувствием даже, а какой-то постфактум катастрофой, что только свершилась и дала о себе первое знамение.
– Тогда вот что, – прямолинейно и строго указал ей Гортензий. – За мной держаться неукоснительно. Ни вздохов, ни ахов. Чуть что – вы в тот же миг вплотную за моей спиной и не высовываться. Пока не разберемся в произошедшем.
Так и пошли, больше ни о чем не сговариваясь. Гортензий на ходу перебирал в уме возможные версии случившегося. Кроме прежней, о недисциплинированных экспериментах с системой домашнего жизнеобеспечения, их было ровным счетом ноль. Это не принимая во внимание фантастического предположения о начавшейся войне параллельных или нижестоящих субатомных миров. Или еще более неправдоподобного – вдруг студиозусы из пресловутого «Тахютиса» рехнулись совсем на почве всевозможных каверз и сшутили другую шутку с бывшим заказчиком. Кстати сказать, вторая вероятность была куда ниже первой. Городских студийцев он неплохо знал, как и то, что это все, в общем, невинные хохмачи: ладно таблицы, но чтобы чужих смотрителей ломать? Нет, не годится.
Очень старый дом – исключительная приватность. И в плане упрощенно-примитивный. Иначе изба. На курьих ножках, или на твердофундаментной основе. Такой и вправду не перестроишь, такой подчистую сносить надо, коли надоест в нем жить. Раритет, и не говори. Зато ориентироваться можно с закрытыми чакрами, ха-ха! Это в его, Гортензия, норе сам архигений-архитектор Кито-Буланвилье не разберется, а ногу сломит. Сегодня гостиная, а завтра, глядишь, псевдоглетчерный ледник. И все в свободном полете. Ага, фамильный зал для приемов, наверное, если здесь таковые бывают. Два полных в рост портрета, один напротив другого. Очень похожих между собой женщин, не красавиц, но что-то такое неуловимое присутствует. Суровая непреклонность и жертвенная готовность, противоречия сходятся. Скорее всего, мать и дочь… Не скорее всего, а так оно и есть. Старшая Аграновская, пропавшая без вести или… и дочь ее, Светлана, тут уж «или» без всяких, ибо нет ее среди живых. И среди мертвых тоже нет, подумалось Гортензию. Он слышал и не раз историю гибели Светланы, неповторимой подруги Агностика – называли друг друга мужем и женой, это ли не верх преданности? Так вот, в подобных случаях никакого тела даже для оплакивания не остается, не поминая о возможных видах долгосрочного погребения. Но не надо об этом сейчас, момент неподходящий.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































