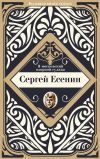Текст книги "Есенин. Путь и беспутье"

Автор книги: Алла Марченко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Я хочу, чтобы сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.
Под ту же музыку и тем же летом он попытался вырастить себя еще и прозаиком. Проводив Леонида, которому, как мы уже знаем, понравились его маленькие рассказы («У белой воды» и «Бобыль и Дружок»), за восемнадцать ночей написал «Яр». Писал под почти верный заказ. Каннегисер, вернувшись в Петроград, рассказал С. И. Чацкиной, издательнице «Северных записок», про Сережины опыты в прозе. Энергичная Софья Исааковна, не мешкая, сообщила дорогому Сергею Александровичу, что ее журнал прямо-таки сгорает от нетерпения заполучить повесть из народной жизни. Есенин обрадовался: в случае успеха у критики «Яр» можно будет издать отдельной книгой, а это на какое-то время решило бы его денежные проблемы. Чацкина, как и обещала, повесть опубликовала, но ее никто не заметил: ни критики, ни издатели, ни читатели «Северных записок». Впрочем, неуспех «Яра» если и огорчит автора, то не слишком. Восхищаясь Пушкиным, боготворя гений Гоголя, Есенин в юности чаще собеседовал с Лермонтовым. «К чему ищу так славы я? Известно: в славе нет блаженства. Но хочет все душа моя Во всем дойти до совершенства…» Вот и его ненасытная, жадная до всяческой жизни душа жаждала не просто славы, а совершенства. В стихах до совершенства – рукой подать. Говоря вроде бы о другом, стихи говорили про самое то, «что не высказать сердцу словом и не знает назвать человек». Проза – иное дело. Чтобы и тут достигнуть, на худой конец хотя бы приблизиться к совершенству, потребуются годы усидчивого труда и мало-мальски обеспеченной оседлой жизни, то есть таких обстоятельств, какие судьба ему явно не обещала.
Это открытие так его взбудоражило, что в последнюю из ночей, отданных «Яру», не смог заснуть. А утром, пролистав рукопись, догадался: повесть вышла такой несвободной еще и потому, что и сам он во все эти восемнадцать дней был несвободен – стиснут-повязан неблагообразием внезапно открывшейся семейной тайны. Краем уха прислушиваясь к разговорам отца с матерью, Есенин, конечно, догадывался, что жена старшего ее брата сбежала с любовником и что дядька вроде бы снова женился. Знали об этом и в деревне, да помалкивали. Но когда Иван Федорович Титов на Пасху вдруг объявился и с новой городской женой, направляясь к церкви, прошелся по Константинову, языки развязались. И завертелось… Всем досталось: и гордецу Федору, первому греховоднику, и беглой титовской снохе, а пуще всего доченьке его ненаглядной. Иванова шлюха хоть пришлой была, из дальней деревни засватанная, а Танька – здешняя. И чем ей Сашка Монах нехорош? Нагуляла выблядка! Не семейка – вертеп; то-то Наталья, покойница, святая душа, богомольничала, грех семейный замаливала.
Вот так, ненароком, Есенин и проведал, что у матери есть внебрачный сын, которого она нагуляла на стороне, и что замуж ее выдали чуть не силком – за красивого, да немилого. Узнав про утаенного от него братца, Сергей впервые в жизни, придравшись к пустякам, нахамил матери и на гулянке «при проводах призывников» напился (и тоже впервые) так, что чуть не умер. И умер бы, если бы не мать. Екатерина Есенина, которой в ту пору было уже десять, запомнила, что когда Сережка «отравился вином», Татьяна Федоровна воскресила сына, отняла у верной смерти старым народным средством: «…Стала бить бутылкой по пятке, потом стала бить обе пятки и била до тех пор, пока изо рта Сергея не полилось что-то черное, но он еще не шевелился. Железной ложкой ей удалось раскрыть стиснутые зубы, и она влила в рот молоко. Ни единого звука не сорвалось с ее уст, пока Сергей лежал без движения, и только когда у Сергея началась рвота, она перекрестилась и заплакала».
Теперь, вернувшись из почти небытия, Есенин, заходя в Матово, придирчиво вглядывался в обрамленную фотографию на теневой стене дедовской горницы – «черной тенью тиснутый портрет» шестнадцатилетней Танюши Титовой. А когда по ночам писал «Яр», девушка с портрета оживала, и он, обманутый сын, вместо того чтобы ненавидеть изменщицу, любовался ею. И тогда любовался, когда звалась Анной и изменяла Кареву, и тогда, когда по гроб жизни влюблялась в него, преобразившись в Лимпиаду…
Через год Сергей вернется к своим переживаниям лета 1915 года, попробовав выплеснуть их в стихи. Стихи получились странные, к «совершенству» не приближающие, и все-таки замечательные. В этих странных стихах, сам того, кажется, не подозревая, Есенин вступает в спор с Пушкиным, с пушкинским, слишком простым для «детей страшных лет России» пониманием отношения искусства к действительности. Для Пушкина искусство выше жизни: «Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботы суетные света Он малодушно погружен…» Для Есенина, который от рожденья «болен чувством жизни», искусство – болезненный отрыв от естества, добровольная сдача себя, живого, в плен некоей не аполлонической, светлой, а черной силе. Ведь человек без тени – не совсем человек!
С каждым днем я становлюсь чужим
И себе, и жизнь кому велела.
Где-то в поле чистом, у межи,
Оторвал я тень свою от тела.
Неодетая она ушла,
Взяв мои изогнутые плечи.
Где-нибудь она теперь далече
И другого нежно обняла.
Может быть, склоняяся к нему,
Про меня она совсем забыла
И, вперившись в призрачную тьму,
Складки губ и рта переменила.
Но живет по звуку прежних лет,
Что, как эхо, бродит за горами.
Я целую синими губами
Черной тенью тиснутый портрет.
Но до этих стихов, «потайственной» тропой уводящей к «Черному человеку», – еще год, и какой! «В терновом венке революций грядет шестнадцатый год!» А пока, летом 1915-го, Есенин еще весь здесь, в Константинове, и его тень при нем, и ничто человеческое ему не чуждо. Возвращенный матерью с того света, он подобрел к ней и даже вспомнил сочувственно свое давнее полудетское письмо к Грише Панфилову: «Да, Гриша, люби и жалей людей – и преступников, и подлецов, и лжецов, и страдальцев, и праведников: ты мог и можешь быть одним из них. Люби и угнетателей и не клейми позором, а обнаруживай ласкою жизненные болезни людей. Не избегай сойти с высоты, ибо не почувствуешь низа и не будешь иметь о нем представления. Только можно понимать человека, разбирая его жизнь и входя в его положение». Ребячество, конечно, и все-таки не совсем ребячество, ведь в «Яре» он фактически сделал то, что обещал первому и бесценному другу. Попытался понять близких ему людей, не клеймя позором мать, не краснея за отцово безволие и мягкосердие, а спокойно, без гнева и личного пристрастия разбирая их жизнь и входя в их положение. Другое дело, что в стихах входить в положение было легче, быстрее, ухватистей.
В то самое утро, на рассвете, когда, окончив первой рукой «Яр», не смог, как обычно, засунуть голову под подушку и проспать до обеда, решил не валяться в постели, а сбегать к Оке искупаться. Снял с веревки отбеленную и починенную матерью свою старую любимую рубаху, подпоясался каким-то красным женским платком и дунул к реке. Выскочил за огороды и обомлел – по грядкам дружно, за одну теплую ночь зарделся маковый самосев! И дальше, по тропке, петляющей по обрыву, сбегал к студеной еще воде уже не он, Сергей, а его двадцатилетний отец. (Приезжая домой, Александр Никитич, давал жене и матери роздых: брал на себя уход за скотиной и, проводив корову и телку в стадо, по-тихому, крадучись, шигал на Оку. Не рыбачить, как здешние мужики, только умыться, но хорошенько, по-городскому, не экономя воду: колодцы в Константинове и глубокие, и ненадежные, каждый ковш на счету.)
Бежал, а стихи сами, споро и ладно, приспосабливались к его походке, легкой, отцовской:
Белая свитка и алый кушак,
Рву я по грядкам зардевшийся мак.
Громко звенит за селом хоровод,
Там она, там она песни поет.
Помню, как крикнула, шигая в сруб:
«Что же, красив ты, да сердцу не люб.
Кольца кудрей твоих ветрами жжет,
Гребень мой вострый другой бережет».
Знаю, чем чужд ей и чем я не мил:
Меньше плясал я и меньше всех пил.
Кротко я с грустью стоял у стены:
Все они пели и были пьяны.
Счастье его, что в нем меньше стыда,
В шею ей лезла его борода.
В то щедрое и тревожное лето ему почему-то было невыносимо жалко всех-всех. И сына, и Анну Романовну, и константиновских черных старух, и прозрачную от недоеда девочку-побирушку, и старую их корову, и титовскую рыжую суку, у которой утопили таких же, как она, огненно-рыжих щенят, и сестренок, заглядывающихся на соседские сады – своего-то у них не было. И деда. Деда особенно. Похоронив жену, Федор Андреич как-то разом усох, сгорбился, стал меньше ростом. А тут еще младший из его сыновей, Петр, – то ли нечаянно, то ли припадок случился, – опрокинул на себя кипящий двухведерный самовар и умер в страшных мучениях. Даже позорное бегство красавицы-снохи принял как должное и к новой женитьбе Ивана ни воли, ни разума уже не прикладывал. Делайте что хотите, живите как можете.
Заметив, что Катерина роется в его книгах, тех, что надарили в Питере, Сергей осердился и решил отнести их к деду. Деда дома не оказалось, он отыскал его на гумне; от картины, которая ему открылась, захолонуло на сердце:
Старый дед, согнувши спину,
Чистит вытоптанный ток
И подонную мякину
Загребает в уголок.
Щурясь к облачному глазу,
Подсекает он лопух,
Роет скрябкою по пазу
От дождей обходный круг.
Схоронясь за угол, Есенин сдвинул державшуюся на соплях доску, солнечный луч протиснулся в щелку, но картинка, вместо того чтобы проясниться, утратила четкость:
Черепки в огне червонца.
Дед – как в жамковой слюде,
И играет зайчик солнца
В рыжеватой бороде.
Тыльной стороной ладони Сергей вытер предательски заслезившиеся глаза и, осторожно раздвигая репейник, гусиной тропкой ушел в луга… В детстве он брезговал этой загаженной птичьим пометом тропой – по ней соседи выгоняли к плохонькому прудику своих толстомясых гусынь. Гусиные яйца десятками скупала полюбовница константиновского буржуина… Пруд тот давно пересох, прохиндей и сквалыга Кулаков помер от удара, теперь его дочка корчит из себя знатную барыню. Привезла из Москвы садовника, с детьми разговаривает по-французски, а детки, Тимоша Данилин рассказывал – он с ними занимается, – таблицу умножения никак не осилят. Скучает бабенка, розы нюхает, соседи наследницей нувориша манкируют, в гости не зовут, московские знакомцы тоже почему-то не приезжают, и мужа никто не видел…
«В каком-то журнале про тебя, Серега, вычитала, приведите его к нам, Тимоша…»
А Сереге и эту богатейку жалко, не она на нищих копейках миллионы наживала…
Гусиная тропа, пропетляв по задам, вывела к дому Поповых. Узнав громкий, радостный, высокий голос Тимошки, Есенин хотел было пройти мимо (опять пристанет: я-де Лидии Ивановне обещался тебя привести), но, вслушавшись, угадал, отчего радость: Анюта! Приехала!
С Анютой Сергей пересекся недели три назад, когда пехом возвращался вместе с Каннегисером из Рязани. Увидел издали, в монастырской церкви, хотел подойти, познакомить со столичным гостем – не подошел, не познакомил: уж очень простенькой она ему показалась и даже жалкой – в белой поминальной косынке, в каком-то старушечьем темном платье. Платок ей не шел. Константиновским девкам личил, ей – нет. Анна знала это и до самых холодов ходила простоволосой, накидывая на ветру белый шарф-самовязку. Но сейчас была без платка, хотя все в том же некрасивом бедном платье. Сидели в саду, тетя Капа разливала чай, Тимофей, как всегда, грыз баранки, а Анюта рассказывала:
«…Я из Лесков еще весной уволилась – в Дединове, у мамы, место открылось. Уволилась и решила съездить на родину, в Мощены. Сима тоже хотела, но у нее не получилось. Думала, все помню, все узнаю – и дом, и деревья. И ничего не вспомнила. Могилки – и те не сама нашла, и папину, и дедушки. Пошла в школу, учитель лопату дал и мальчишек послал, сам не мог, весь в ревматизмах. А панихиду так и не заказала, в церкви дверь заколочена: прежний священник умер, а нового никак не пришлют. Расстроилась я и к Ивану Богослову пошла. Потом в Рязани была, перевод в Дединово оформляла и к вам вот заехала, когда еще увидимся…»
Рассказывая, Анна не смотрела на Сергея, обращая лицо то к Тимошке, то к тете Капе, и все наматывала-наматывала на палец конец короткой, пушистой, слишком густой косы. А Есенин думал: какие странные у нее волосы! Темно-русые, за лето они сильно выцветали, но только на поверхности, а в глубине, наоборот, темнели. Наверное, по контрасту с выбеленными солнцем завитками на лбу, на висках. Темнели к концу июля и ресницы, и даже брови – блестящие, правильные и тоже с отливом в тусклое золото. В старину про такие говорили: «соболиные»…
Тимофей хотел было вынести гитару, Анюта его остановила: завтра они с тетей Капой чуть свет уезжают в Дединово. И Коля обещался, из Москвы, и Сима, может, на Казанскую и сюда заедем.
На Казанскую Николай приехал в Константиново один. И они втроем – Тимошка из кожи вон лез, уговаривая, – пошли к Кулачихе. У себя дома, вблизи, дочка сквалыги оказалась вполне симпатичной и выглядела моложе своих тридцати. Призналась, не чинясь, как стыдно, что отец, при его-то капиталах, перестал субсидировать Константиновское училище. Подумать только, сначала построил школу, получил Благодарственное письмо от Рязанского земства, и на тебе! Дескать, «прослужив десять лет попечителем и приходо-расходчиком, кроме неприятностей ничего не имел и посему слагаю взятые на себя обязательства». А что он хотел с училища поиметь? Ей в уездной управе показывали пренеприятное батюшкино заявление, не знала, куда глаза спрятать. А потом история с братом… Да вы, наверное, и сами знаете.
Они знали. Первым по смерти толстосума в усадьбу заявился его сынок и сразу же принялся окультуривать плодовый сад. Год выдался яблочный, к середине августа яблоки налились, и рачительный хозяин заманчивого для константиновских яблококрадов сада решил сам поработать караульщиком, подсобить старому сторожу. Кончилась затея плачевно. В статье, опубликованной в октябре 1911 года в газете «Рязанский вестник», происшествие под Александров день изложено было так: «В этот злополучный вечер был праздник… На улице было особенно шумно. Около 10 час. вечера он (Борис Иванович Кулаков. – А. М.), услышав выстрел сторожа, вышел в сад… Четыре фигуры, размахивая мешками, пробежали мимо него, ответив на его окрик молчанием. Кулаков выстрелил вверх, без намерения попасть в кого-нибудь, затем выстрелил второй раз и уже хотел уходить, когда услышал голос раненого Филатова. Вызванный фельдшер успокоил его, что рана не опасна. Остальные свидетели в общем подтверждают показания Филатова. Эксперты-врачи Любимов и Хрущев признали рану тяжелую, но в настоящее время никаких последствий нет… Тов. прокурора называет поступок Кулакова самосудом интеллигентного человека. Конечно, то, что делали крестьяне, нельзя назвать иначе как хулиганством. Но если против этого зла розга признана неподходящим средством, то револьвер и подавно. Все происшествие, по его мнению, вытекает из отношения помещика к крестьянам».
Лидия Ивановна пересказывала статейку довольно точно…
– Борю конечно же оправдали, ну какой мой братик помещик? Мальчик, студент, даже не дворянин. А как перемучился! Меня в то лето в России не было, мы с мужем детей к морю увезли. Раньше средств не было, дачу под Москвой снимали. В Серебряном Бору, у дальних родственников. Хотели в Ниццу, врачи отсоветовали, выбирали-выбирали, выбрали: Аберврак. Это, думаю, лучшее место в Бретани. Богатых русских нету, поэтому дешево, просто, еда отличная. Море, правда, холодное, а я мерзлячка, но дети купались. Англичане тоже. Там, кстати, в то лето и Блок был, с женой. Мы их на полуострове встретили. Прочитали в местной газете, что там дешево продается старый дом, и захотели взглянуть. У меня до войны мечта была тайная: продать имение, очень уж тут «крепостным правом» разит, и купить что-нибудь этакое, старинное-старинное, с романтическим прошлым. Приехали и ахнули: XVII век! Разрушенные подъемные мосты, старинная казарма, остатки крепостных укреплений… И вдруг кто-то за нашей спиной говорит по-русски: «Среди валов можно развести хороший сад». Оглянулась – Блок! Я его сразу узнала, у моей подруги весь кабинетик в портретах, прямо музей Блока. Она на Бестужевских курсах в Петербурге училась, сейчас в гимназии, женской, английский язык ведет, в той же, где муж преподает. Он у меня учитель словесности. Брату уроки давал, еще студентом, так мы с ним и познакомились, Боря из-за него на филологический поступил. Я в ту пору стихов Блока почти не знала, у нас дома другие кумиры. У мужа – Островский, Боря – античник. После встречи в Бретани стала читать. Не все понимаю, конечно. Подруга советует: выучи наизусть и читай про себя, но я стихи почему-то не запоминаю. Языки даются, стихи – нет.
Согласившись на Тимошкины уговоры, Есенин дал себе слово: стихов мадаме не читать, о петербургских успехах не распространяться, а уж про то, что был у Блока, и Александр Александрович успехам поспособствовал и только что вышедший том сочинений подарил, – тем паче. Но когда Кулачиха вдруг встала из-за чайного стола, ушла куда-то наверх, а вернулась с книжкой Блока в руках – точь-в-точь такой, какая у него заперта в дедовом сундуке, не выдержал: похвастал. Дескать, и у меня такая, только с дарственной. Николай с Тимошкой иронически улыбались, да и Кашина, хотя и ахала, а по всему видно – не верит.
– Да я хоть сейчас принесу! Только не враз получится, книги-то у меня не дома, у деда. А это на дальнем конце, в Матово…
Тимошка и Николай заулыбались еще ехиднее, но барыня взглянула внимательней, даже голос у нее повзрослел: из старшей сестрички, привыкшей к общению со сверстниками младшего братика, вдруг выглянула важная дама, охочая до умных разговоров, выглянула и тут же спряталась:
– Нет, нет, сегодня не надо, деревня третий день гуляет, перепились, озоруют, задираются, лучше завтра… Приходите к обеду, мы здесь по-деревенски, в три обедаем, потом Тимофей Васильевич с детьми займется, а мы с Вами, Сережа, – Блоком. Очень мне почерк его любопытен, я в гимназии графологией увлекалась.
Так и пошло: с утра он работал, а к вечеру уходил к Кулаковым, если, конечно, Лидия Ивановна не уезжала в Москву.
Екатерина Есенина вспоминает: «Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужем, у нее дети.
– Ты нынче опять у барыни был? – спрашивала она.
– Да, – отвечал Сергей.
– Чего ж вы там делаете?
– Читаем, играем, – отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: – Какое тебе дело, где я бываю?
– Мне, конечно, нет дела. Но вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, – продолжала мать, – нашла с кем играть.
Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом».
Татьяну Федоровну понять можно. Она всерьез боялась, что Сергей влюбится в чужую и, как ей казалось, опытную в постельных делах женщину. Влюбится и пропадет. Но барыня если и крутила тайный роман, то не с ее сыном, и Есенин об этом догадывался, потому что возвращалась Лидия из Москвы иной, чем уезжала, – «с загадкой движений и глаз». Иногда они и вправду играли, вернее, играл Сергей и дети, а мать и учитель, примостившись в тени, просматривали свежие газеты, спорили о политике. Но когда перемена кончалась и Тимошка приступал к своим непосредственным обязанностям, Есенин и в самом деле читал – нет, не стихи, стихи мадам Кашина, в девичестве Кулакова, не воспринимала, особенно на слух, терялась, как школьница на экзамене. Зато «Яр» прослушала с интересом, записывала в блокнотик значение непонятных слов, некоторые главки просила прочитать еще раз. Особенно поразила ее сцена убийства крестьянами помещика, в имени которого – Борис Петрович – Есенин соединил имя ее брата – Борис и отчество отца – Петрович.
– Но как же так? (Лидия Ивановна была в растерянности, румянец – пятнами, глаза беспомощные, словно у близорукой) Из-за голубя, которого сцапала голодная кошка, – переполох, а тут? Человек! Да, плохой, грубый, жадный, неуважительный, но человек! Не дикари же они, не папуасы, чтобы не понимать: отвечать-то перед законом придется, хорошо еще этот ваш живописный старикан взял на себя вину, решив пострадать за общество, а если бы не взял? Закон есть закон, это еще при Некрасове мужики понимали. Помните: «Суд приехал, допросы, тошнехонько…» Так ведь там, у Некрасова, застрелился чужой, а здесь забили. А из-за чего? Не земля пахотная, своя, а пустошь, к тому же общинная. За мешок диких орехов? Не понимаю, и все тут! Ну, были бы изверги, воры, разбойники, душегубы…
Есенин попытался разъяснить «идею» повести, но запутался. Текст не вмещался в объясняющие слова, уходил в глубину. Да Лидия Ивановна уже и не слушала: приехали ветеринары – в уезде новая вспышка ящура…
Ушел он не прощаясь, ночевал у Титовых, застал там Ивановых корешей, охотников, и увязался за ними. А когда через неделю вернулся, нашел на комоде целую стопку писем. Самое толстое было от Клюева, с него и начал.
В открытке, отправленной еще перед отъездом из столицы, Есенин просил Николая Алексеевича высказать свое мнение о его стихах, если наткнется на них в периодике. Стихи Есенина Клюев прочел, они ему «не показались», о чем и сообщил В. С. Миролюбову, издателю опубликовавшего их «Ежемесячного журнала»: «Какие простые неискусные песенки Есенина в июньской книжке – в них робость художника перед самим собой и детская, ребяческая скупость на игрушки-слова, которые обладателю кажутся очень серьезной вещью». Что-то вроде этого, хотя и поделикатней, написал он, видимо, и в Константиново. Есенин обиделся и не ответил. Новое письмо было посерьезней, снисходительных поучений в нем не было. Николай Алексеевич наконец-то разговорился, приоткрыл сокровенное:
«… Мы с тобой козлы в литературном огороде, и только по милости нас терпят в нем… Особенно я боюсь за тебя… Твоими рыхлыми драченами объелись все поэты, но ведь должно тебе быть понятно, что это после ананасов в шампанском… Быть в траве зеленым, а на камне серым – вот наша с тобой программа, чтобы не погибнуть. Знай, свет мой, что лавры Игоря Северянина никогда не дадут нам удовлетворения и радости твердой, тогда как любой петроградский поэт чувствует себя божеством, если ему похлопают в какой-нибудь “Бродячей собаке”… Я холодею от воспоминаний о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моем творчестве, которые в свое время послужат документами – вещественными доказательствами того барско-интеллигентского, напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и еще того, что Салтычихин и аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших из так называемого русского общества. Я помню, как жена Городецкого в одном собрании, где на все лады хвалили меня, выждав затишье в разговоре, вздохнула, закатила глаза и потом изрекла: “Да, хорошо быть крестьянином”. Подумай, товарищ, не заключается ли в этой фразе все, что мы с тобой должны возненавидеть и чем обижаться кровно? Видите ли – не важен дух твой, бессмертное в тебе. А интересно лишь то, что ты, холуй и хам-смердяков, заговорил членораздельно».
Жена у Сергея Митрофановича и впрямь препротивная: красивая, да ломака. И дура набитая, одно слово – Нимфа. Но Клюев Есенина все-таки озадачил: в его личном столичном опыте не было ничего, что, по мнению олонецкого песнопевца, следовало-надлежало ненавидеть. Или кровно обижать. Наоборот! Обласканный, прямо-таки зацелованный Есенин уезжал из Питера совсем в ином настроении. Вот как представлял он себе в триумфальном апреле 1915 года свою будущность, вслушиваясь в перестук вагонных колес, вглядываясь в смутные очертания удаляющейся в ночь столицы: «Было время, когда из предместья Я мечтал по-мальчишески – в дым, Что я буду богат и известен И что буду я всеми любим…»
Интересно, что скажет Лидия Ивановна, если показать ей клюевское письмо? Но Лидия Ивановна не звала, а сам идти в ее парадиз Есенин не хотел. И хорошо, что не звала. Он искал имя для новой, второй книги. За долгое константиновское лето, сам того не заметив, написал уйму стихов, которые никак не втискивались в расписную коробушку «Радуницы».
Тимофей прибежал под дождем, высунул из ряднины чумазое лицо и затараторил:
– У Кашиных лазарет! Детки в соплях, сама кашляет. Ты, говорит, хвастал: у моей мамки средство от простуды имеется. Вот и дуй, лечи, а я к Поповым, у них нынче спевка. Николай – за хормейстера…
Забрав увязанную Татьяной Федоровной торбочку – три пары носков, кулек черной каменной соли (нагреть на сковородке и насыпать в носки) да пузырь с камфарой, Есенин поплелся в усадьбу…
Реакция Лидии Ивановны на письмецо из Вытегры была неожиданной.
– Ох, как я понимаю вашего песнопевца, сызмала от снисходительности дворянства настрадалась. Может, и отец страдал. Кулак, кровопивец, из грязи да в князи. Из грязи в князи не попадешь, даже ежели в княжеский особняк в золоченой карете въедешь. Только вам все-таки лучше, чем мне. За вами – крестьянская Россия, огромная, темная, непросвещенная, но своя. А я, а мы? Везде чужие. Если бы не война, я бы эту усадьбу давно продала, нехорошо в ней, во всех углах – чужой запах, чужие воспоминания. И ремонт Боря сделал, и цветники, и газоны, а затопят печи – в трубах гудёт. Вой, вопль. Не думайте, я не нервная и не аскетка, я деньги люблю, красивые вещи люблю, мы с братом знаете как жили? Квартира буржуйская, еда и прислуга отцом оплачены, а карманных грошиков кот наплакал. К подругам на именины и то не ходила, чтобы у папаши на подарки не клянчить. А теперь дорвалась. По Мюру и Мерилизу как по Лувру хожу, не могу наглядеться. Мужу не нравится, дескать, в тебе, Лида, кулаковская кровь играет, а я как голодная: хочу, хочу, хочу! Знаю, не мои деньги и нечистые. Знаю, да не чувствую: чужие деньги не пахнут. Не пахнут, и все тут! Была бы верующая, покаялась, но – не верую. Не верую и греха не боюсь, отцова дочка, прав, наверное, мой благоверный.
Греха не боюсь, боюсь деревни. Ох как боюсь! У вас, знаю, надо мной посмеиваются: и что это барыня за ворота ногами не ходит? Прежние господа по своим-то владеньям пехом гуляли. Я бы и рада пройтись, и дети просятся, третье лето живем, а дальше церкви – земля неведомая. Вы мне в повести своей словно про заморское царство рассказываете – не достать руками, не дойти ногами. Я ведь и в Белом Яре давно не была, Борис после злосчастного происшествия в Константинове редкий гость, у себя в Яре строится. Ивану, кучеру, не доверяю. А с вами, Сережа, рискну. Поедемте? Давно там были?
«Однажды за завтраком, – вспоминает Екатерина Есенина, – он (Сергей. – А. М.) сказал матери:
– Я еду сегодня на Яр с барыней.
Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза… Мать забеспокоилась… И как нарочно, в этот момент послышалось за окнами: “Тонут! Помогите! Тонут!” Мать бросилась из избы… Вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат, и паром понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли. Сергея на нем не оказалось. Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина еще не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги, и Сергей с барыней уехали вдвоем.
– Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, все бы спокойнее было, – ворчала мать.
Поздно ночью вернулся Сергей…Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной “Зеленая прическа…” Настала осень. Уехал Сергей, и мы опять погрузились в длинный зимний сон».
Екатерина Александровна точно схватывает ситуацию, память сердца у нее прекрасная, а вот в датах не слишком тверда. Названное ею стихотворение датировано не весной 1915-го, а августом 1918 года, но Кашина на тонкую березку с девическою грудью и в 1915-м не походила. На известной фотографии изображена осанистая, с «тугим телом» дама. Не думаю также, чтобы константиновская землевладелица была столь безвкусна, чтобы регулярно присылать в бедный крестьянский дом букеты роз без всякого на то приличного повода. А поводов, судя по обстоятельствам 1915 года, могло быть только два. Либо день рождения Есенина (21 сентября), либо ответный отдарок за какой-то презент, допустим, охотничий, если принять к сведенью и известную сцену из «Анны Снегиной», где мельник отвозит «помещице» «к обеду» «настрелянных» накануне «прекраснейших дупелей», и июньское письмо Есенина к В. С. Чернявскому: «Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу или стрелять».
Но если ничего похожего на роман у Есенина с Лидией Кашиной не было, по крайней мере в 1915-м, как не было и потребности в женской дружбе, – в этом отношении он был совсем не похож ни на Пушкина, ни на Лермонтова, – то что же заставляло его так часто бывать по вечерам в ее доме? Утверждать не берусь, но не исключаю, что кашинские «посиделки» были для него своеобразным «университетом» (не в общепринятом, а в горьковском значении этого слова). Вспомним, что писала Татьяна Сергеевна, дочь поэта, рассказывая об Анне Романовне Изрядновой: «Сама работящая, она уважала в нем труженика: кому как не ей было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам себя менял внешне и внутренне, сколько вбирал в себя – за один день больше, чем иной за неделю или за месяц». Кстати, именно Анна Романовна первая и заметила, как быстро менялся Сергей: уехал в Петроград в марте, а в мае вернулся «уже другой». Еще более другим приедет он в Петроград в начале октября все того же 1915 года. Никто из тех, кто познакомился с Есениным той осенью, уже не отмечают того, на что весной, в марте, обратила внимание наблюдательная Зинаида Гиппиус: сидит, мол, за стаканом чая по-мужицки, ссутулясь. Иному удивляются – как свободно поэт держится в новой для него бытовой среде: «Сергей Есенин был очень собранным: все его движения были грациозны, бесшумны и четки… Держался… со скромным достоинством и не отличался застенчивостью».
Словом, осенью 1915-го Сергей не торопился в Петербург. Его держал «Яр». Текст, прочитанный вслух, не спросясь, по собственному хотению расширил заданные ему границы и теперь не втискивался в общепринятые жанровые берега. Что это? Повесть?! Конспект романа?! Сцены из крестьянской жизни? Но дело, конечно, не в жанровых беззакониях. Решив попробовать себя в прозе, Есенин стремился только к одному: показать жизнь народа без всякой рисовки, как это делал Глеб Успенский. В оставленной Л. М. Клейнборту рукописи (для задуманного, но так и не изданного сборника «Отзывы читателей из народа об известных русских писателях») Есенин писал: «Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще так не понял своего народа, как Успенский… Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки». Но ежели «Яр» – горькая правда, то что же такое «Радуница»? Рисовка? «Радуница» утверждала незыблемость крестьянского мира. А «Яр» свидетельствовал: мир сей неизлечимо болен, а его насельники, утратив инстинкт жизни, самоуничтожаются. Спиваются, травятся, топятся, суются под мельничный жернов…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?