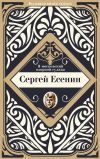Текст книги "Есенин. Путь и беспутье"

Автор книги: Алла Марченко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Земское училище Есенин закончил в мае 1909-го, позже, чем следовало, на год, зато с отличием, чем крайне обрадовал отца. По воспоминаниям Екатерины, Александр Никитич по случаю столь важного события приехал из Москвы и привез две красивые рамки со стеклом: «Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство… Потом позвали отца Ивана и тетю Капу. За столом шла беседа о том, куда определить Сергея».
Беседовали втроем, Татьяна Федоровна помалкивала. Она была убеждена, что от учения один вред, книжки у сына в руках ее прямо-таки пугали. («Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того зачитался, что сошел с ума. А отчего? Все книжки».)
И так прикидывали, и этак, и в конце концов порешили: пусть Сергей едет в Спас-Клепики, в Церковно-учительскую школу, где по ходатайству отца Ивана и с похвальным листом непременно примут. Расход небольшой, дороже поросенка откормить. Тридцать рублей годовых за все про все: и учение, и общежитие, и столование. Три года поучится, какую-никакую специальность получит, а там видно будет.
В автобиографиях Есенин писал, что Учительская школа ничего ему не дала, кроме крепкого знания церковнославянского языка. Действительно, если бы не личная инициатива старшего учителя Евгения Михайловича Хитрова, книголюба и книгочея, старавшегося приохотить воспитанников к чтению, далее усвоения общих сведений по истории Государства Российского они бы и не продвинулись. Большая русская классика не входила в программу. Учебные заведения спас-клепиковского типа готовили преподавателей для так называемых школ грамоты. Это были очень дешевые двухгодичные школы. Учительствующие в них получали не более семи рублей в месяц, меньше, чем сезонные землекопы. По замыслу учредителей, благодаря дешевизне такие двухлетки можно было открыть чуть ли не в каждой деревне, при любом заводике и таким образом в скоростном порядке научить неграмотную Россию расписываться, читать простые тексты, производить простейшие арифметические действия. Проект был принят, и через несколько лет в одной только Рязанской губернии действовало более двухсот школ грамоты и одиннадцать учебных заведений, специально для них готовивших преподавателей. А еще лет этак через пятнадцать выяснилось, что навыки грамотности, полученные крестьянскими детьми в этих учебных заведениях, настолько непрочны, что спустя несколько месяцев они всё-всё забывали и не умели написать даже собственную фамилию. К той поре, как Есенин поступил в Спас-Клепиковскую второклассную Церковно-учительскую школу, половину двухлеток на Рязанщине уже закрыли. Зная это, руководство подобных (типовых) заведений старалось расширить для своих выпускников возможности трудоустройства, не испрашивая в министерстве дополнительных средств. Самое простое и верное – расширить тропочку, ведущую к церкви. Для этого учебный план слегка переделали, увеличив и число уроков, на которых изучалась история русской церкви, и количество часов, которые мальчики проводили в церкви, прислуживая при алтаре и постигая на практике тонкости православного богослужения. Те, у кого обнаруживался голос, пели в церковном хоре. В результате к концу обучения воспитанники настолько преуспевали в этом замысловатом и витиеватом ремесле, что их, когда возвращались в родные деревни, священники окрестных храмов охотно брали в псаломщики. Не отсюда ли у Есенина в «Сорокоусте»: «Только мне, как псаломщику, петь Над родимой страной “аллилуйя”»?
Судя по сохранившимся фотографиям, был в Спас-Клепиках и школьный оркестрик духовых инструментов. Видимо, на случай, что бедолагам не достанется учительского места, и им придется отбывать воинскую повинность, а жизнь у военного оркестранта все-таки повеселее, нежели у маршевого солдатика. (Работники просвещения в царской России были освобождены от воинской повинности.)
Ни на одном музыкальном инструменте Есенин играть почему-то не научился. Зато ритуалы храмовых торжествований и все оттенки смысла церковного богослужения постиг до последней тонкости, что сильно ему пригодилось при создании маленьких поэм 1917–1919 годов.
Кроме того, оказавшись в Спас-Клепиках, запертый правилами интерната в четырех стенах, Есенин стал запойно читать и за три года прочитал от корки до корки три библиотеки: школьную, земскую и ту, что собирал отец его друга Гриши Панфилова. А так как память у него феноменальная, многое запомнил наизусть, «Евгения Онегина» например. Страницами декламировал и прозу, в основном из Гоголя и Лермонтова. Из Спас-Клепиков вынес Есенин и фирменное свое презрение к стадным инстинктам: «Удержи меня, мое презренье, я всегда отмечен был тобой…» До «бурсы» его вполне устраивала роль предводителя стаи. Презрение, правда, сочеталось с тайным (стыдным) ужасом перед диктатом коллектива, априори враждебного крайней индивидуальности. Конечно, в те ранние годы Есенин еще не осмелился бы сказать о себе «Крайне индивидуален». Однако дискомфорт, от неудобной сей крайности проистекающий, впервые остро почувствовал именно в бурсе. По закону стаи здесь били всех новеньких, но по-разному, его – с удовольствием и больнее других. Дотерпев до Рождества, Есенин, приехав домой, откровенно рассказал обо всем матери. Не сразу, а когда та ахнула, заметив на голове Сергея чуть выше виска глубокий и еще свежий шрам. На словах Татьяна Федоровна сына не поддержала: надо, дескать, терпеть и дальше, а главное, «слушаться учителей», но после его отъезда кинулась к Поповым, к своей конфидентке Марфуше, экономке отца Ивана, с которой приятельствовала: «Как быть, кума? Очень дерутся там, в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся».
Татьяну Федоровну беспокоили не только разбойные нравы будущих просветителей «темного и забитого народа». Тревожило и равнодушие сына к хозяйству, к дому, ко всему тому, вокруг чего веками лепилась крестьянская жизнь. Учение же, по ее разумению, это врожденное, от отца доставшееся равнодушие увеличивало. И когда, вскоре после своего первого недомашнего Рождества, Сергей неожиданно вернулся в Константиново и объявил, что больше учиться не будет, втайне обрадовалась. Договорились так: до Пасхи ничего не решать, на Пасху приедет отец, как он скажет, так и поступим. Сергей, вспоминает сестра, уехал из Константинова веселый, с надеждой, что скоро вернется.
И вдруг настроение поэта переменилось: он подружился с одноклассником Гришей Панфиловым. В отличие от Есенина, Панфилов в Церковной школе только учился, так как жил в Спас-Клепиках. Родители Гриши, люди хотя и простые (отец – приказчик у местного лесопромышленника), но самозабвенно любящие единственного сына, приветили и Гришенькиного товарища. И под воскресенье, и в красные дни забирали к себе, с ночевкой, и вскоре привязались к приятному, вежливому и чистоплотному пареньку. Евгений Михайлович Хитров этому не препятствовал. Как и Андрей Федорович Панфилов, он был книголюбом, на этой почве они и сходились. Кроме того, отец четверых детей, квартировавший при школе, он хорошо понимал, как тяжело крестьянские мальчики, выросшие пусть и в бедных, а то и убогих, но в своих, отдельных избах, привыкают к бытованию на миру: для всех воспитанников – одна спальня на сорок коек, теснее, чем в казарме.
Взрослый Есенин считал, что нет ему в жизни удачи, однако и в детстве и в отрочестве удача словно и впрямь ходила за ним, как и за рыжим его дедом, следом. Ну, как бы сложилась, к примеру, жизнь поэта, если бы не деятельное участие в его судьбе сначала Федора Титова, а затем отца Ивана? Повезло ему и в Спас-Клепиках, несмотря на то что заключение на целых три года в условия закрытого заведения везением назвать трудно. И тем не менее: «Есть в дружбе счастье оголтелое…» Дружба с Гришей была для Есенина счастьем. Наконец-то он встретил ровесника, которому можно открыть душу, выплеснув ее в слова: «Мы открывали все – все, что чувствовали, – друг перед другом». Тогда же, в панфиловском доме, просторном и гостеприимном, наблюдая, как дорогой его друг придирчиво и осторожно выбирает из множества знакомых немногих единомышленников, Есенин почувствовал вкус к «кружковой», как тогда говорили, «работе». Вы только представьте: затерянное во глубине России торговое село, по сути, поселок городского типа, чью экологию определяют бойня и выварка тряпья для бумажного дела, и в этом зловонном населенном пункте пятнадцатилетние подростки, дети неграмотных или полуграмотных мужиков, читают вслух и обсуждают «Воскресенье» только что умершего Льва Толстого и мечтают о том, чтобы совершить паломничество в Ясную Поляну!
Гриша же своим примером убедил Есенина, что критика, если она чуткая и умная, не мешает, а помогает поэту найти самого себя. Когда Гриша на полях подаренной Сергеем рукописи своим осторожным, тонко-тонко заточенным карандашом написал: «Недостаточно обработаны последние строки. Остальное все хорошо», шестнадцатилетний автор возликовал: «Я замечаю в тебе оттенки критика!» Словом, если бы не этот лобастый, так много обещавший, не по годам вдумчивый, высокий и сильный мальчик, Сергей наверняка сбежал бы из бурсы, не дотерпев до учительского свидетельства. А если б не напряженная переписка с Панфиловым же, оставшимся из-за открывшегося туберкулеза в Спас-Клепиках, в первые московские полтора года? Думаю, Есенин вышел бы и из этого испытания, испытания большим городом, с куда большими нравственными травмами. Недаром, узнав об обострении Гришиной болезни, заметался: «Сейчас я не знаю, куда приклонить головы: Панфилов, светоч моей жизни, умирает от чахотки». А через два года после его смерти (Гриша умер в феврале 1914-го) Есенин так описал их расставание после окончания Спас-Клепиковской школы:
Весна на радость не похожа,
И не от солнца желт песок.
Твоя обветренная кожа
Лучила гречневый пушок.
У голубого водопоя
На шишкоперой лебеде
Мы поклялись, что будем двое
И не расстанемся нигде.
Кадила темь, и вечер тощий
Свивался в огненной резьбе,
Я проводил тебя до рощи,
К твоей родительской избе.
И долго-долго в дреме зыбкой
Я оторвать не мог лица,
Когда ты с ласковой улыбкой
Махал мне шапкою с крыльца.
«Весна на радость не похожа…», 1916
За десять месяцев новой жизни на сельского мечтателя обрушилось столько впечатлений и он так возмужал и так вытянулся, что Екатерина не сразу узнала брата – уж очень высоким выглядел внезапно возникший в дверях незнакомый парень. А летом следующего года, в первые большие каникулы, его, пятнадцатилетнего, настигло еще одно сильное переживание. Девочка, которую Сергей знал так давно, что перестал замечать, удивительным образом похорошела. Он даже не сразу догадался, что это Анюта, когда, прибежав к Поповым, увидел сидящую на чужом крыльце чужую взрослую барышню. Вместе с Настей, помощницей тети Капы, они перебирали клубнику – по-хозяйски, осторожно, чтобы не помять, помельче на варенье, крупные к обеду.
В пятнадцать лет
Взлюбил я до печонок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.
«Мой путь», 1925
Комментаторская традиция с Анной Сардановской эти строки не связывает. По двум вроде бы веским причинам. Причина первая: судя по тексту, первая любовь лирического героя – крестьянка, а не девушка из интеллигентной учительской семьи. Причина вторая: в 1925 году она еще жива (поэт встречает бывшую свою «пассию» на улице родного села), тогда как Анна умерла в 1921-м. На мой же взгляд, это типичный для Есенина сюжетный сдвиг. Он крайне редко переносил в стихи реальные любовные ситуации, не преобразив, не сдвинув их в сторону вымысла и красоты. И не только любовные. В широко известном «Письме матери» поэт состарил свою матушку, сорокадевятилетнюю, сильную и властную женщину, лет этак на двадцать пять: «Ты жива еще, моя старушка?» А когда знавшие Татьяну Федоровну приятели удивились, ответил: дескать, когда писал, представлял, как беспокоилась бы бабка Наталья, кабы дожила до моих «пьяных драк». Помянул он милую бабушку и в автобиографии 1923 года: «Учился в закрытой учительской школе. Дома хотели, чтобы я стал сельским учителем. Когда отвезли в школу, я страшно скучал по бабке и однажды убежал домой за 100 верст пешком».
Не связывают комментаторы с Анной Сардановской и широко известное стихотворение 1916 года:
Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.
В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.
Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста…
На том основании не связывают, что Софья Андреевна Толстая, последняя жена поэта, так прокомментировала этот шедевр: «Можно предположить, что стихотворение было навеяно смертью девушки, которую Есенин любил в годы молодости в своем родном селе». Из этого свидетельства и был сделан вывод: поскольку стихи написаны не позднее 1916-го, то к Сардановской относиться не могут. Следовательно, надо искать какую-то другую утаенную любовь. Эта версия стала общепринятой. Между тем речь здесь идет не о физической смерти любимой, а об умирании чувства поэта к ней. Есенин в юности частенько употреблял выражение «умерла» или «умер для меня» по отношению к людям живым и здравствующим. Например, о родителях в 1912 году: «Мать нравственно для меня умерла уже давно, а отец, я знаю, находится при смерти». О сестрах Сардановских, после ссоры с ними, тогда же: «Сима умерла заживо передо мной, Анна – умирает». Об одном из своих «наставников», преподавателе константиновской школы: «Клеменов воскрес, но скоро умрет опять».
Предположение, что к Анне Сардановской относится гораздо больше дум и чувств, чем принято считать, подтверждают и еще два документа. Во-первых, стихотворение Есенина «За горами, за желтыми долами…», впервые напечатанное в апрельском за 1916 год номере «Ежемесячного журнала». И не потому, что опубликовано с посвящением А. А. Сардановской, а потому, что свидетельствует: как и четыре года назад, Анна по-прежнему в зоне его внимания:
Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.
Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.
Усердной богомолкой внучатая племянница отца Ивана не была, но в лето 1915-го у нее были основания «поклониться любви и кресту» не в Константиновской церкви, а так, чтобы ее никто из родных не увидел. В ту весну она навсегда рассталась с человеком, любовью к которому жила почти три года, с осени 1912-го. Упомянутый в стихотворении храм – Иоанно-Богословский монастырь. Жители Константинова считали его своим: по тропе под-над Окой до Ивана Богослова «возлюбленные пары» «всю ночь гуляли до утра». Семь верст туда, семь обратно. Судя по описанию, сделанному явно с натуры, хаживал к стоящему на высоком холме Богослову и Есенин:
За горами, за желтыми долами
Протянулась толпа деревень.
Вижу лес, и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.
Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.
Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь —
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.
Второй документ, подтверждающий, что в стихотворении «Мой путь» поэт вспоминает о своей влюбленности в младшую сестру Николая Сардановского, – мемуары Екатерины Есениной. Разумеется, они общеизвестны, но комментаторская традиция упорно не считает их доказательством того, что пятнадцатилетний Есенин мечтал жениться не на какой-то безымянной деревенской девчонке, а на внучке отца Ивана. «Просторный дом отца Ивана, – вспоминает сестра поэта, – всегда был полон гостей… Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц – учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей – сын и две дочери… Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны). Мать наша через Марфушу знала о каждом шаге Сергея у Поповых.
– Ох, кума, – говорила Марфуша, – у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. “Пойду, – говорит, – замуж за Сережку”, и все это у нее так хорошо выходит.
Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:
– Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: “Ты что же замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь”. Умора, целый вечер они трунили друг над другом».
Ссылаясь на процитированный мемуарный фрагмент, комментаторы уточняют: Анна Сардановская вышла замуж в 1920-м, после того как Есенин обвенчался с Зинаидой Райх, и тем самым ставят под знак вопроса описанный сестрой поэта эпизод. На мой же взгляд, некоторое сомнение вызывает не эпизод сам по себе (и Марфуша могла что-то не так понять, и Татьяна Федоровна – что-нибудь перепутать), а его игровая, легкокасательная (любимое есенинское словцо) эмоциональная окраска. На самом деле все было гораздо драматичнее. Причем, видимо, не только со стороны Есенина. Иначе Сардановские не уничтожили бы письма поэта к их рано умершей сестре, а передали (или продали) в Литмузей.
К счастью, подруга Анюты Мария (Маня) Бальзамова письма поэта к ней сохранила. Из этих-то писем мы и узнали, что летом 1912 года, когда Есенин догадался, что Сардановские не относятся к нему всерьез, он совершил попытку самоубийства. Вот как описано это событие осенью 1912 года в очередном письме к М. Бальзамовой: «…Милая, милая Маня. Ты спрашиваешь меня о моем здоровье; я тебе скажу, что чувствую себя неважно, очень больно ноет грудь. Да, Маня, я сам виноват в этом. Ты не знаешь, что я сделал с собой, но я тебе открою. Тяжело было, обидно переносить все, что сыпалось по моему адресу. Надо мной смеялись… Потом сама Анна… удивила своим изменившимся, а может быть – и не бывшим порывом. За что мне было ее любить? Разве за все ее острые насмешки, которыми она меня осыпала раньше? Пусть она делала это бессознательно, но я все-таки помнил это, хотя и не открывал наружу. Я написал ей стихотворение, а потом (может, ты знаешь от нее) – разорвал его. Я не хотел иметь просто с ней ничего общего… Я, огорченный всем после всего, на мгновение поддался этому и даже почти сам сознал свое ничтожество. И мне стало обидно на себя. Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки… Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мной немного все застилалось какою-то мутною дымкой. Потом – я сам не знаю почему – вдруг начал пить молоко, и все прошло, хотя не без боли. Во рту у меня обожгло сильно, кожа отстала, но потом опять все прошло, и никто ничего-ничего не узнал».
При всей своей чуткости Есенин не очень-то наблюдателен. Он почему-то уверен, что никто ни о чем не догадался. На самом деле Татьяна Федоровна конечно же заподозрила неладное, обратив внимание и на странное состояние сына, и на початую бутылочку с уксусной эссенцией. С ее слов, видимо, узнали об этом и у Поповых. Иначе трудно объянить, почему Сардановские, только что, к восьмому июля, к Казанской Божьей Матери, появившиеся в Константинове, вдруг в одночасье поднялись и уехали. Перехватили ямщика, возвращавшегося порожняком из Кузьминского, и укатили, хотя Николай уверял приятелей, что и сестры, и матушка пробудут у Поповых до середины августа. Да и Маня Бальзамова почему-то интересуется здоровьем Сережи – с чего бы это? Один Есенин уверен, что причина внезапного отъезда Николая и Анны – затянувшиеся дожди. В надежде, что Анюту увезли не насовсем и что Вера Васильевна сбежала из Константинова ненадолго, от плохой погоды, Сергей пишет Мане длинные письма, пытаясь с ее помощью узнать что-нибудь об Анне…
Дожди прекратились. Сардановские в Константиново не вернулись. Зато приехал отец. Передвинул отпускные недели, чтобы чин-чинарем все обсудить. При общем разговоре, как и три года назад, с батюшкой Иваном Яковлевичем и тетей Капой, Сергей вежливо и кротко молчал. А как дорогие соседи ушли, заявил родителям: не хочет он поступать в Педагогический институт. Не умеет учить крестьянских детей, не любит, не хочет. Кабы умел, уехал бы в деревню, какая подальше да поплоше.
Ничего не сказал Есенин и Капитолине Ивановне, когда та стала расспрашивать о «планах на будущее». Все, мол, по-прежнему, как и советовал батюшка Иван Яковлевич. До конца июля просидит за книжками, а в августе – в Москву, в Педагогический институт. Поповы, обшарив книжные шкафы, собрали ему в подарок библиотечку будущего учителя словесности, но Сергей, хотя и принес эту словесную груду домой, ни в один из учебников не заглянул. Не взял с собой и в Москву.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?