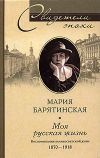Автор книги: Анатолий Мордвинов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Мы сначала направились на «Victoria and Albert» за принцессой Викторией, а затем присоединились к королевской семье на берегу и поехали в экипажах к грандиозному водопаду в нескольких верстах от Трондьема, снабжающему весь город электрической энергией.
Дни продолжали стоять великолепные, напоминающие еще нашу весну, и эта длинная поездка в связи с царившей полной непринужденностью была действительно полным отдыхом.
Из числа обедов, предложенных в те дни, был и обед, данный в честь короля норвежскими масонами.
Он происходил в их собственной, украшенной разными масонскими знаками зале собраний. Но мое любопытство, подогретое строгой таинственностью, которой нарочно окружают себя, вероятно, для большего значения, подобные сообщества, осталось совсем не удовлетворенным. Ни особого ритуала, ни каких-либо присущих братьям ложи масонских одеяний я там не увидел. Это был просто праздничный обед, как и все подобные обеды «в высочайшем присутствии», на котором новичку было даже трудно разобраться, кто из присутствующих норвежцев являлся масоном-хозяином, а кто только приглашенным.
Говорились с обеих сторон и речи, которые могли бы, конечно, что-нибудь объяснить, но мое незнание норвежского языка помешало и этому.
– Что говорит король? – спросил я все-таки свою соседку, очень милую, красивую, очень молодую и крайне общительную дочь одного из норвежских министров.
– О, как он говорит! Как хорошо говорит, – восторженно отвечала она. – И посмотрите, как он красив… Нет! Такого короля нет ни у кого!
– О, безусловно, – любезно подтвердил и я, – но ваш язык такой трудный для иностранца, и его интересная речь для меня сейчас остается, правда, красивым, но только звуком!
– Я и сама не совсем ясно понимаю его некоторые фразы, – отвечала немного смущенно моя дама. – Он говорит совершенно свободно на нашем языке, но интонация у него другая, и он все же вставляет иногда непонятные датские слова.
– Но ведь Дания и Норвегия – это родные сестры? – удивлялся я.
– О да, мы близкие родственницы, но все же особенные, и язык у нас особенный… и король должен быть особенный, – с патриотическим довольством закончила она.
Но узнать о том, участвовали ли норвежские масоны действительно в выборах короля, мне тогда так и не удалось…
О масонстве и в те дни уже много говорили. Большинство и теперь придает ему, как мне кажется, слишком преувеличенное значение, что только на руку этим стремящимся к тайной власти сообществам. Хотя более подходящей почвы для всевозможных международных заговоров, конечно, трудно найти, но все же невольно думается, что, если бы ни одного масона не существовало на свете, революции, перевороты и политические преступления все равно происходили бы.
Масонство является для них лишь наиболее могучим, но не всесильным покровителем, а заговоры, как известно, зачастую зарождаются, как и блохи, в самом, казалось бы, бесплодном песке. Я думаю, что главною причиною подобного преувеличения является хвастливость своей политической силой и «запугивания» со стороны самих «братьев-масонов».
Без этого действительно кто бы к ним пошел?!
Ведь те якобы высокие нравственные цели, которые они выставляют своим лозунгом, вовсе не нуждаются для своего развития в покрове тайны. Идеи и поступки христианства, несоизмеримо более высшие, чем идеи «свободных каменщиков», не опасаются быть открыто провозглашенными со всех амвонов и на всех площадях.
Соломон – строитель их храма, был не мудрее и отнюдь не возвышеннее Христа, спасителя всего человечества.
Очень жалкими мне кажутся поэтому люди, которые, имея уже это высшее, перед которыми уже тысячелетия было раскрыто светлое небо, тянутся за истинами в темное подземелье масонства.
Вдвойне жалки люди, собирающиеся осчастливить других и опасающиеся сделать это открыто. Как бы то ни было, ясно одно: убежденный христианин или человек глубокой науки не нуждаются в дополнительном просвещении масонов, а честный, умный и откровенный политик – в их тонком руководстве и хитрой помощи.
Так, конечно, должно было бы быть во всякое действительно просвещенное время, но не так бывало, не так есть и не так, вероятно, будет, к сожалению, еще долго на практике.
С большим удивлением, почти с негодованием приходится узнавать, что даже люди большого образования и, как казалось, с независимым характером и громадной силой воли оказывались в конце концов почему-то членами масонских лож.
Что именно влекло таких людей в эти таинственные и, как все темное, большинством благородных людей презираемые учреждения?
Если их втягивала туда не разбирающая средства политика или лишь личная злоба на все окружающее вместе с попытками окольными путями приблизиться к власти, об этом можно было бы болеть душой, сожалеть об их недостойном поведении, но не удивляться.
Но что сказать о тех, кто шел к масонам под влиянием лишь сомнений в высоте христианских идей и якобы «свободного искания» какой-то новой истины, более чем христианство якобы высшей и действенной?!
Но быть может, масонство в глазах некоторых имеет волшебную силу превращать посредственных, порочных и несчастных в умных, властных, счастливых и добродетельных?
Или помогает им делать счастливее других или найти общий язык в запутанных вопросах?
Глубоко как в том, так и другом сомневаюсь. По крайней мере те знакомые мне лица, о которых шла молва, что они ступили в ложи «свободных каменщиков»72, на мой взгляд, правда, поверхностный, оставались прежними, не становясь ни умнее, ни счастливее, и не теряли ни одного из присущих им ранее недостатков, а приобретали лишь навязанные им новые: хитрость, скрытность и пренебрежение к не «своим».
Во всяком случае, то, что двигает вперед как историческую жизнь народов, так и личное существо человека и исправляет, совершенно не нуждается в потугах масонства. Оно только ставит лишние препятствия развитию всеобщей любви и всеобщего доверия. Где уж тут настоящая любовь к человечеству, когда, называя «братьями» лишь людей, принадлежащих к их тайному сообщничеству, они и этих лишь разделяют на степени, не доверяют низшим, их даже опасаются и скрывают от их большинства свои конечные «великие цели».
Но в единственно великом, как и ярком деле любви более всего противно лицемерие, подозрительность и скрытность…
Что касается до существующего даже в наши дни так называемого официального масонства, гроссмейстерами которого являются зачастую короли, а иногда даже и пасторы, то оно в моих глазах является не более как разновидностью забавных «акробатов благотворительности», столь хорошо описанных нашим Григоровичем, и пережитком плохих старозаветных традиций. В некоторых масонских храмах Германии, правда, можно было порою найти даже Евангелие, постоянно раскрытое на первых словах св. Иоанна, но почему-то нигде не видно Св. Креста – символа безмерной любви, покорности и всепрощения…
Таким образом, если всемирное масонство со своими ритуалами, скрываниями и степенями посвящения совершенно негодно ни для религиозного созерцания, ни для самоусовершенствования, ни, в особенности, для «свободного искания истины», ему остается лишь один, столь заманчивый для толпы путь тайной политики, на который оно неизменно и вступало, неся человечеству не благодетельное единение и освобождение, а лишь новые стеснения, разлад, ожесточение и невинно пролитую кровь…
Точно свободному исканию истины вне масонства жизнь ставила когда-нибудь и кому-нибудь какие-либо малейшие препятствия!!! Высшая истина, к которой стремились все философы мира, не говоря уже об убежденных проповедниках Евангелия, никогда не нуждалась в покровах тайны. Из-за такого скрывания ее свет не был бы виден никому. Становится слишком смешно, когда при этом говорят о благе всего человечества.
В числе некоторых писем, обращенных ко мне с просьбою помочь выяснить малоизвестные обстоятельства жизни государя и его семьи, было одно упоминавшее и о масонстве. «Известно ли вам, – писал мне один, искренно мною уважаемый генерал, – что в одном масонском издании на английском языке (Boris Telepnef «An outline of the history of Russian Freemasonry London». 1928) говорится следующее: «Одна независимая ложа так называемого Мартинистского ритуала была образована (около 1909 г.) среди ближайшего окружения государя под названием ложа «Креста и звезды». Сам император, говорят, был членом этой ложи, прекратившей свою деятельность в 1916 году»73.
Неужели же государь действительно принадлежал к ней? Очень прошу вас рассказать все известное вам об этой основанной в Царском Селе ложе, хотя бы в форме отрывочных воспоминаний, случайных, несвязных, сохранившихся в вашей памяти намеков и сопоставлений».
О том, что близким окружением царя была якобы основана в Царском Селе особая мистическая ложа Розенкрейцеров, мне в тогдашнее время не было ничего известно, как неизвестно и по сей день.
Напрягая сейчас, ввиду подобных указаний, свою, правда, уже немного слабеющую память, я прихожу все же к твердому убеждению, что подобная ложа, если она вообще и существовала в пределах Царского Села, то отнюдь не могла быть образована ни ближайшим «окружением государя», ни с его молчаливого согласия или тем более при его личном участии. К этому твердому убеждению я прихожу, так сказать, «доказательством от противного». Все немногие лица, близкие в то время к престолу (я говорю не о родственниках царя), мне были хорошо известны. В характерах каждого из них не было ничего мистического или склонного философски искать истину. Их больше чем отрицательное отношение к великому мастеру французских Мартинистов Папюсу и его ученику Филиппу74, приезжавшим на некоторое время в Россию, ясно сказывалось как в их разговорах между собою, так и в искренней интонации их голоса. Все они были и резкими, убежденными противниками политического масонства. Такая ложа могла образоваться лишь вдали, пожалуй, даже по месту резиденции около, но, во всяком случае, не вблизи трона. Что касается до государя, то он действительно настойчиво интересовался масонством, но отнюдь не в смысле особенного к нему влечения или простого любопытства, а только из необходимого желания возможно точнее выяснить, какую вредную роль играет масонство в России и насколько близка его связь с русскими революционерами. С этой целью он и обращался, кажется, два раза при посредстве адмирала Нилова к аббату Турмантену, всю свою жизнь изучавшему масонство и ярому его противнику. Спрашивал о деятельности русских масонов и у начальника охранного отделения генерала Герасимова и, не удовлетворясь его успокоительными заверениями, поручил П. А. Столыпину собрать сведения самые подробные как о русском, так и иностранном масонстве, что тот старался, насколько мне помнится, и выполнить. Уже одна эта настойчивость ясно указывает, что сам государь не был масоном, не был посвящен в тайну деятельности «свободных каменщиков», их опасался и не в пример своим иностранным родственникам был их убежденным противником. Да и склад его натуры, хотя и очень замкнутый, все же совершенно не подходил ни к своеобразной масонской таинственности, ни к масонским политическим или своеобразным религиозным стремлениям. Император Николай Александрович был вдумчив и очень любознателен. Он не только любил историческое чтение – он им увлекался, ища, по-видимому, в нем указаний для себя. Он хорошо знал историю царствований Екатерины Великой, императоров Павла и Александра I. Одобрял и не отменял поэтому во все время своего управления указ о подписке «о непринадлежности к тайным обществам», требовавшийся от каждого при поступлении на государственную службу. Совершенно невероятно, чтобы он, «первый слуга своей Родины», с таким удовлетворением говоривший о точном знании им всех обязанностей военной службы, смог когда-либо сам нарушить это правило и вступить в тайное сообщество, все политическое стремления которого были направлены к разрушению исторического строя его родины, верность которому он торжественно принял. В этом отношении многим иностранным монархам оберегать было нечего, и их традиционное масонство отнюдь не могло служить для него достойным примером.
По складу своей созерцательной натуры государь, казалось бы, скорее подходит, да и то с неимоверно большой натяжкой, к мало политической ложе «Креста и звезды». Но и тут, я повторяю вновь убежденно, что государь лично к ней не принадлежала и вряд ли втайне ей сочувствовал. И ничто иное, как только его глубокое, русское церковное православие, ему в том настойчиво препятствовало. Его всегда влекли созерцание и молитва, но он мог и любил молиться только в православной русской церкви. Завлечь его на минуту в какой-либо иностранный масонский храм могли бы только развлечение или любопытство. Да и принимать какое-либо тайное участие в занятиях масонской мистической ложи государю по всем обстоятельствам его стеснительной дворцовой жизни было совершенно невозможно. Каждый шаг его и днем, и ночью был если не на виду у всех, то под наблюдением дворцовой и тайной полиции, всевозможных «пропускных постов», внутренних и внешних караулов и многочисленной дворцовой и своей собственной комнатной болтливой прислуги. Проникновение к нему во дворец под каким-нибудь предлогом кого-либо из «братьев»-масонов, не говоря уже о собраниях ложи во дворце или вне дворца, но в его присутствии, было бы мгновенно разгадано и столь же мгновенно разглашено. Но даже наше тогдашнее общество, питавшееся, судя по дневнику сенатора Богдановича75, столь обильно догадками и воображением царских камердинеров и дворцовых лакеев, видевшее постоянно то, чего не было в действительности, и называвшее государя различными именами, все же даже оно не решалось присвоить нелюбимому монарху еще и звание франко-масона…
Но вернусь наконец к продолжению моего рассказа.
Празднества в Норвегии тогда закончились каким-то большим торжеством на открытом воздухе, памятным мне лишь по смешному положению, в которое я был поставлен своим обычным отвращением к скучной примерке вещей, изготовляемым портными и сапожниками для моего одеяния.
И на этот раз, отправляясь в путешествие, я взял две пары не примеренных заранее высоких военных сапог, одну из которых мой слуга и подсунул мне в то утро под руки. Было, правда, очень туго вначале, но сносно, и во время переезда на берег и следования на торжество я испытывал лишь легкие мучения. Но в самый торжественный момент боль от узких голенищ стала настолько невыносимой, что я не нашел ничего лучшего, как выйти из круга окружавших королевскую чету лиц и за их спинами глубоко разрезать перочинным ножом давившие меня нестерпимо голенища. Довольный, что все произошло незаметно, я снова встал на свое место, скрыв изъян своих сапог в густой толпе свиты.
Но все тайное становится когда-нибудь явным. Так случилось тогда и со мной. В своей поспешности я совсем не заметил, что непосредственно за мной стояло несколько кинематографических аппаратов, увековечивавших как само историческое событие, так и мое выступавшее на нем на первый план недостойное поведение.
В тот же вечер этот фильм уже показывался в Трондьеме, через три дня он был в Копенгагене и Берлине, а к нашему возвращению докатился и до Петербурга.
Я вспоминаю, с каким смехом и с какими, к моему облегчению, добродушными шутками встретили мои светские и полковые товарищи мое на ней появление и мои исковерканные разрезом сапоги. Для других, к счастью, я оказался незаметным. Но моя всегдашняя нелюбовь к кинематографу, уже давно сделавшемуся развлечением улицы, после такого случая еще более усилилась.
Наш обратный путь в смысле погоды не был вначале благоприятен. Пришлось несколько раз отстаиваться из-за тумана и выдержать в открытом переходе сильную бурю с неимоверной по размаху качкой. Моряки посмеивались, а мне было жутко и не по себе.
Даже усиленно рекомендуемое каким-то ученым «самое действительное против качки» средство в виде упорного смотрения в ручное зеркало не помогало.
Но картина бушевавшего тогда моря запечатлелась во мне до сего дня. Так оно было неописуемо красиво и грозно.
Прибыв в Петергоф, мы, как положено, в тот же день представились государю в его маленьком кабинете коттеджа в Александрии, давая отчет о совершенном нами путешествии.
Его Величество с интересом расспрашивал о наших богатых впечатлениях, которыми мы были ему так обязаны, а в конце даже поблагодарил еще раз «за отлично выполненную во всех отношениях командировку».
VIII
Еще в начале 1907 года великий князь почувствовал себя нездоровым и, как всегда, не обращая почти никакого внимания на свою болезнь, много гулял, ездил верхом, надеясь по своему обычаю усиленным движением быстро излечиться.
Но к весне его боли в области желудка и печени настолько усилились, что пришлось слечь и обратиться к врачам.
Их собралось очень много, не менее 7 человек, в числе которых были профессора Вельяминов, Сиротинин, Романовский, д-ра Вестфален, Боткин и другие.
Мнения у них довольно резко разделились – одни находили у Михаила Александровича явные признаки круглой язвы желудка, другие, видимо, не желая огорчать взволнованную императрицу-мать, высказывались более осторожно и считали невыносимую тупую боль лишь следствием давления на желудок каких-то других переместившихся внутренних органов. Спорили очень долго, и наконец сообща порешили назначить великому князю продолжительное молочное лечение, а когда боли после него прошли, потребовали поездку в Карлсбад, куда должен был быть вызван и знаменитый венский профессор Норден для окончательного диагноза.
Выехали мы в Карлсбад в июне 1907 года в большой компании. Кроме великого князя и меня, с нами отправлялись великая княгиня Ольга Александровна с ее мужем принцем Петром Александровичем Ольденбургским, также нуждавшимся в лечении, их заведующий двором С. Н. Ильин, бывшая няня великой княгини Mrs Franklin и доктор Вестфален.
При прощании императрица просила меня чаще писать ей о здоровье Михаила Александровича и в особенности сейчас же ее уведомить телеграммой, в каком состоянии его найдет Норден.
В Карлсбаде мы остановились в прекрасном отеле, заняв целый ряд комнат, и сразу же вызвали профессора Нордена.
Он приехал к нам на другой день и быстро определил застаревшую, но уже начавшую затягиваться круглую язву у входа в желудок, главной причиной которой, ввиду скромного и здорового образа жизни великого князя, являлось единственно лишь его нервное состояние за тот год.
Профессор Норден, еще молодой, очень видный мужчина, был внимателен, любезен, общителен, но в его разговоре чувствовалась непререкаемость суждений и некоторое превосходство по отношению к другим врачам-знаменитостям. Когда во время обеда зашел разговор о диете и о том, можно ли есть при болезни почек черное мясо, он с уверенностью возразил, что, конечно, можно, так как белое или черное тут играет маловажную роль. «Вон профессор Лебе из Берлина написал сколько книг, что черного мяса есть нельзя, а я написал двумя больше и что можно… вот и выбирайте», – улыбаясь, заключил он.
Консультация Нордена, длившаяся не более 20 минут, обошлась великому князю дорого, более 10 000 крон – стоимость проезда и потерянных им двух дней в Вене, – но зато нас сильно успокоила, о чем я сейчас же написал и телеграфировал императрице.
Норден нашел, что шести недель лечения карлсбадскими водами будет совершенно достаточно для полного излечения язвы, и рекомендовал по окончании этого срока поехать для «Nachkur», на берег моря в Италию, лучше всего в окрестности Неаполя, в Castelmore или Sorrento.
На общем нашем совете мы выбрали последнее, исключительно по его названию, звучавшему для нас, по рассказам Тургенева, более поэтически.
В ожидании этой поездки началась жизнь, столь знакомая тому, кто когда-нибудь лечился в Карлсбаде (современное название – Карловы Вары, Чехия. – О. Б.). Великий князь, Ольга Александровна и принц Петр Александрович вставали очень рано и спешили к источникам.
Я, как всегда, был ленив, и мой Лукзен приносил мне воду, когда я лежал еще в кровати.
Затем мы все отправлялись пить кофе в «Posthof», где слушали нескончаемую музыку Вагнера, гуляли по красивым гористым окрестностям, катались в экипажах, а по вечерам посещали театр.
В праздничные дни ходили в прекрасную русскую церковь, а после, как заведено, пили чай у батюшки отца Рыжкова.
Знакомых русских в те дни в Карлсбаде у нас было мало.
Встретили лишь случайно в магазине сильно утомленную и болезненную М. Г. Савину, да князя Орлова из Парижа, брата начальника военно-походной канцелярии, очень милого и сердечного человека.
Приезжал к нам и наш посол в Вене престарелый князь Урусов и А. П. Извольский, а в соседнем Мариенбаде (современное название – Марианске-Лазне, Чехия. – О. Б.) жил герцог Юрий Максимилианович Лейхтенбергский, бывший супруг великой княгини Анастасии Николаевны, впоследствии вышедшей замуж за великого князя Николая Николаевича. Он у нас был также несколько раз, как и мы у него.
Вскоре приехал в Мариенбад для обычного лечения и английский король Эдуард VII – «Uncle Berty» [дядя Берти (англ.). – О. Б.], как его называл Михаил Александрович, по его крещеному имени Alberti.
Мы все отправились к нему в соседний Мариенбад с визитом, были радушно встречены, и на другой день он приехал к нам и сам.
Мы вместе гуляли по Карлсбаду и затем все отправились пить кофе в «Posthof». Это было мое первое личное знакомство с английским королем. С тех пор мне приходилось с ним встречаться довольно часто.
Об Эдуарде VII написано уже немало книг и сохранилось много рассказов, порою преувеличенных, что так любит людская сплетня. Но любопытство, которое он возбуждал, было, конечно, естественно, а внимание, с которым к нему всюду относились, было вполне заслужено. Это был действительно незаурядный человек, с непревзойденным, пожалуй, умением легко, просто и весело, как бы шутя решать самые сложные вопросы как внутренней, так и внешней политики, и притом с тактом и скромностью удивительными, всегда оставаясь сам немного в тени.
В стране, где король лишь царствует, а не управляет, он сумел в конце концов добиться влияния, которому, пожалуй, мог бы позавидовать и сам Кромвель; и не только влияния, но и всеобщего к себе расположения. Пробить лед в сердцах чопорного английского общества, ранее, в дни молодости короля, относившегося к нему с нескрываемым порицанием, ему было, конечно, намного труднее, чем кому-либо иному.
И то, что, став из принца Валлийского (принц Уэльский в дореволюционной русской транскрипции – Валлийский. – О. Б.) королем, он успел в короткое время добиться и этого, ясно показывает, что наряду с внешней непринужденностью в нем было не только много сердца, добродушия, наблюдательности, но и самой серьезной мысли.
И все же – если в мое время Фердинанд Болгарский пользовался славой самого умного, хитрого и изощренного в интригах политика, а с Вильгельмом II считались как с наиболее ловким, но непостоянным в своих стремлениях и чрезвычайно экспансивным монархом, то все значение для Европы Эдуарда VII, как и императора Александра III, было познано только после их смерти.
Оценить их как следует еще при жизни в числе других причин отчасти мешали присущие им обоим благодушие и простота, с чем так не любят обыкновенно встречаться дипломаты.
В глазах историка эти качества не кажутся уже такими пренебрежительными. Он судит по конечным результатам деятельности и знает, что благодаря главным образом лишь этим качествам Александр III мог, по меткому выражению Ключевского, с такой настойчивостью «способствовать накоплению добра в нравственном обороте человечества»76, а Эдуард VII с таким искусством, вплоть до казавшегося навсегда несбыточным сближения Англии с Россией, противостоять злоумышлениям против европейского мира.
Действительно, пока они были оба живы, этот мир не переходил в общий пожар. В нашей жизни, где, по статистике, на один короткий год относительного мира пригодится 13 долгих лет вооруженной борьбы, монархи, как и сами народы, конечно, бессильны уничтожить навсегда войну, но им дается все же порою возможность ее отдалить – хотя бы на время, соответствующее их силе характера и способностей.
В этом отношении я убежден, что, живи Эдуард VII в дни перед европейской войной, наш государь нашел бы в нем самую действительную поддержку своим всегдашним стремлениям внести заветы Христа и во внешнюю политику. Он сумел бы заранее сообщить Берлину, что в случае войны Англия без колебаний станет на сторону России, и не выжидал бы для этого целых пяти долгих дней после объявления войны, когда потушить пожар было уже нельзя77.
Я также думаю, что английский король не остановился бы в решительную минуту даже перед внезапной поездкой для личного свидания с престарелым Францем Иосифом, отказавшим в таком свидании самому Вильгельму II, хотя и слушавшего в те дни лишь одни настойчивые советы германского императора.
То, что не сумели тогда сделать дипломаты, вероятно, удалось бы легко, без громких фраз, но с простой логикой, добродушно посмеивавшемуся Эдуарду VII, и катастрофа Европы была бы отложена, быть может, на очень далекое будущее.
Я много слышал ранее о большой популярности короля Эдуарда в его стране и, предполагая, что такая популярность вызывалась лишь его собственными усиленными стараниями, не придавал ей особенной цены.
Но мое личное, более близкое знакомство с ним совершенно разрушило это предубеждение. Расположение к нему широких кругов, как я успел заметить, давалось ему совершенно естественно, благодаря отчасти счастливой возможности быть королем, которому даже дамы при первой встрече после коронации почтительно должны целовать руку, и вместе с тем, возможно, меньше таким королем казаться.
Что в его натуре было действительно слишком мало властного короля и слишком много добродушного, любящего общество человека, это всякий начинал чувствовать при первом же с ним знакомстве.
Конечно, его высокое положение сильно способствовало тому усиленному вниманию, которое он на себя притягивал в Англии.
Будучи простым смертным, он, вероятно, прошел бы и там совершенно незамеченным, как и большинство людей с еще более привлекательными качествами, чем у него.
Его не считали бы законодателем мужских мод, быть может, даже смеялись бы над некоторыми особенностями его туалета и не подражали бы с такой точностью его привычкам и вкусам78.
Но в нем было и то, что редко встречается не только у носителей власти, но и у простого человека, – полное доброжелательство к людям и потребность с ними сблизиться, не исключая при этом и своих политических противников, на дружеской почве. Других врагов, не политических, у него, кажется, не было.
Манера, с которой он это высказывал, благодаря непринужденности и простоте была невольно подкупательна и вызывала соответствующий отклик даже у враждебных к его политике людей.
Если степень искренности и доброжелательности, как уверяют, можно легко определить по смеху, то король смеялся не только искренно, но и заразительно.
Мне вспоминается при этом случае довольно забавная встреча однажды перед нашим обедом в Карлсбаде Эдуарда VII с его первым лордом адмиралтейства, адмиралом Фишер, большим другом России.
Когда адмирал в конце обеда вошел в нашу комнату, король произнес только удивленно-радостное восклицание и сейчас же начал смеяться. Адмирал, сделав почтительный поклон, в свою очередь не смог удержаться от смеха. Король и подданный долго так стояли друг против друга, не говоря ни слова, и в их не прекращавшемся, а все усилившемся смехе было столько безграничного добродушия и веселости, что и мы все невольно заразились их примером.
Небольшая вначале натянутость была быстро у нас сломлена, и наш обед прошел в самом оживленном настроении.
Умея легко быть веселым и общительным, король умел также легко быть серьезным и даже среди охватившего оживления помнить о деле.
Я вспоминаю одно его возвращение со скачек, где принимали участие и его лошади, взявшие тогда приз. Большой любитель всякого спорта и охоты, король был очень доволен и особенно оживлен, но за каких-нибудь 5 минут до Лондона он сделался вдруг серьезен и удалился в свое купе, извиняясь, что ему надо хорошенько обдумать важную речь, которую он должен произнести сейчас же по приезде.
На следующий день эта речь появилась в газетах. Она была составлена весьма красиво и содержательно и занимала целый газетный столбец.
Своим высоким положением король не в пример многим коронованным особам, видимо, не тяготился и почти никогда не высказывал неудовольствия, что имел много занятий и мало свободного времени.
Вся важность и неотвратимость лежавшей на нем ответственности все же сознавалась им, судя по многим поступкам, очень сильно, хотя он о ней старался не упоминать.
Кажется, только один раз, и то в шутливой форме, он поделился с другими воспоминаниями из дней своей юности, когда он впервые ознакомился с нелегким чувством единоличной ответственности. «Мы были, – рассказывал он, – несколько человек на охоте, дул сильнейший ветер, и нам всем хотелось очень курить, а единственная спичка, которая могла бы спасти положение, находилась у меня одного. Отдать ее для зажигания другому было бы малодушием. Помню, с каким вниманием и какими долгими обдумываниями я старался, чтобы ее не погасил ветер. Надо сознаться, что чувство даже такой ничтожной личной ответственности, когда на вас смотрят и ждут, – не из приятных».
При существующих в Англии обычаях и законах ему было трудно, почти невозможно навязывать свою волю своим министрам. Он не желал и открыто идти против течения; но он очень находчиво вдохновлял своими мыслями и желаниями всех этих влиятельных лиц, с кем соприкасался, и его мнение в окончательных решениях министерства играло почти всегда первенствующую роль. Он стремился также всеми силами к сближению двух главных в Англии партий, добивался и тут многого, но все же чувствовал себя более сильным во внешней политике, чем в политике внутренней, и здесь он своим влиянием принес громадную пользу делу мира. Менее чем кто-либо в его тогдашнюю пору он желал войны…
В Мариенбаде король жил совершенно запросто, частным человеком79. В его свите был один только чрезвычайно милый генерал Кларк (sir Stanley Clarce), но его особа тщательно охранялась как австрийской полицией, так и своей собственной, особенно многочисленной.
Когда король приезжал к нам, мы уже задолго знали о его предстоящем прибытии по тем людям, которые не появлялись в обычные дни у нашей гостиницы, и по начинавшим за некоторое время шмыгать по всем направлениям автомобилей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?