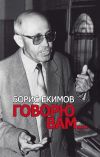Текст книги "Письма спящему брату (сборник)"

Автор книги: Андрей Десницкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Куда же оно все девалось? Нет, не молодость, конечно, это закон жизни, тут ничего не попишешь. А былые дружбы? А та пламенная любовь парнишки и девчонки под мраморными колоннами?
Так вышло. Просто так вышло. И не стоит задавать себе лишних вопросов.
На остановке было не так много народу, и оказалось, что, кроме троллейбусов, здесь тоже есть маршрутки, только называют их как-то смешно – «топики». За полторы гривны он доехал до площади Нахимова – и быстро, и комфортно, тогда бы нам так! Пошел по Приморскому бульвару, постоял у балюстрады, за которой чернело море в частых огнях катеров. Наверное, это и было счастьем – вот такой вот вечер в любимом Городе. Надо будет поменять билет, остаться здесь еще на пару дней – в конце концов, отгулы же остались.
Семен проголодался, но в положенное по статусу уютное кафе не хотелось – сжевал шаурму с лотка, запил ее разливным пивом, а на десерт взял с другого лотка мягкое мороженое в кокосовой крошке. Дешевый этот перекус показался бы в те годы чуть ли не торжественной трапезой, на фоне их вечной переваренной пшенной каши с тушенкой… Люда тогда еще совсем не умела готовить. Вот бы он, тогдашний, увидел себя сегодняшнего – состоявшегося и нестарого еще мужика, который уверенно идет по тому же самому бульвару… Что бы он тогда подумал, интересно?
Нет. Тогда не было этого «я», тогда у нас было «мы».
Семен спустился к самой воде, где ленивые мелкие волны разбивались о каменный парапет, обдавая брызгами проходящих. На самом краю стояли девушка и парень, и смеялись, держали в руках сандалии и то и дело отпрыгивали от нового веера брызг. Семен остановился немного в отдалении, не хотелось нарушать их покой, и любовался не то волнами, не то этой парой.
Они о чем-то говорили и, кажется, спорили, но за плеском волн и музыкой из соседнего бара ничего не было слышно. В какой-то момент невольно отошли подальше от края и уже не обращали внимания на брызги. А потом парень развернулся и пошел, а девушка только смотрела вслед.
Дурак, захотелось крикнуть Семену. Да, вот нагнать бы парня и сказать ему: дурак, это все неважно, вы молоды и влюблены, этого же больше никогда у вас не будет, и через двадцать лет ты будешь ходить здесь, вот как я сейчас, и даже не сможешь вспомнить, из-за чего вы тогда поссорились. А вспомнишь только эти волны, теплый камень под босыми ногами и живую руку в твоей руке. Живи настоящим, а слова не имеют значения.
Но свою голову на чужие плечи не посадишь. Парень уходил по набережной, и девушка перестала смотреть вслед. И вообще, с чего он взял, что это была ссора? Просто настало им время разойтись, а завтра, может, встретятся опять, как ни в чем не бывало. А может, послезавтра найдут другое, настоящее, на всю жизнь. Чужую жизнь тоже ведь не проживешь.
Зато можно – свою. Семен поднялся обратно к балюстраде, и пальцы раньше мозга поняли, что надо делать – уже доставали с пояса мобильник, набирали знакомый номер. Сколько бы ни стоил этот треклятый роуминг, не искать же теперь переговорный пункт! По городскому ее не найдешь – на даче, среди яблок, такой урожай роскошный в этом году… Хотя теперь-то, затемно, уже сидит в спальне за столом, что-то пишет или, скорее, на кухне перебирает райские яблочки – что на варенье, что живьем отвезти домой, когда муж из города приедет.
И каштановые волосы с проседью, которую она никогда не закрашивает, ложатся на такие знакомые плечи, а голос – голос ведь вообще не изменился. Или почти. Только бы она подошла! Только бы… У женщин ведь как – то разряжен, то все деньги потрачены, то у подруги забыла.
– Люда… Здравствуй. Знаешь, где я сейчас? На Приморском бульваре. Ну да, в Севастополе. Да нормально долетел, не в том дело. Людка, знаешь… я сейчас был в Херсонесе. Под колоннами. Слушай… Бросай ты все. Прилетай. Прямо завтра в город, а послезавтра езжай с утра в аэропорт, сейчас они полупустые сюда летят, там и билет купишь, или в трансагенство зайди, ну там, у метро, знаешь? Я встречу, я все устрою, где деньги на билет взять, ты же знаешь. Скинь мне только эсэмэской номер рейса. Поживем здесь хоть три дня, вместе и вернемся, винограда ребятам привезем, дынь… Людка… ты слышишь меня? Ну что ты молчишь! Я люблю тебя, родная. Я очень тебя люблю.
И в целом свете не было ничего важнее, чем эта влажная тишина в потрескивающей трубке. Что она сейчас ответит? Что?
Сентябрь 2005
Севастополь – Симферополь – Москва
Осторожно, двери закрываются
На большой пересадочной станции схлынула толпа, и они смогли увидеть друг друга. Мужчина с бутылкой пива в руке и женщина с большой клеенчатой сумкой – они сидели друг напротив друга, посторонние попутчики, взгляды которых случайно пересеклись. Бывает ведь так – сидишь в метро и внимательно рассматриваешь человека напротив, который тебе никто и ты ему никто. Развлечение вроде газеты.
Черт, пятнышко на брюках. Вчера даже не заметил. Отмечали-праздновали в отделе, ну, капнул немного. Так, теперь в химчистку, сам не отстираю… стоп, до получки еще неделя. Неделю так ходить? Или в светлые, новые переодеваться? Нет, они парадные, их жалко, а джинсы драные, их на службу неудобно одевать. Да, жи-изнь… Не у всех, видать, такая. Вон сидит напротив – чистенькая, аккуратная, гордая.
Лицо той самой национальности. Типичная шахидка. Нет, а что, в самом деле? Кто знает, что у нее там в клеенчатой сумке? Килограмм десять пластита, нашпигованных шурупами, – запросто. Еще и в металлической оболочке. Дерни за веревочку – и на тебе вагон свежего фарша. Ну что, встать, рвануть стоп-кран, сообщить машинисту? Не-ет. Тут-то она точно дернет за веревочку. Вообще встать бы рядом с ней по-тихому, а потом резко так руки к сиденью, чтобы не свела, не нажала, не дернула. Но люди все-таки смотрят, неудобно – скорее всего, померещилось.
Ладно, двум смертям не бывать… Они только этого и хотят, чтобы мы их боялись, вздрагивали при каждом их появлении. Не выйдет. Буду пиво пить. Нравится мне это название, кстати, – «Чешский стандарт». Ну надо же такое придумать! Вроде у чехов научились, сами будем теперь тут по-чешски жить. Похоже на то, кстати. Очень похоже.
Черт, третья бутылка за день. Лишняя, пожалуй. Жаль, в нашем метро не устраивают туалетов. Так и до дома не доехать. Впрочем, ладно – лучше пиво, чем наш русский антидепрессант. А напряжение сбрасывать как-то надо. По крайней мере, не наркота, и я это контролирую.
Все она смотрит в упор. Злобно так. Что ей не нравится? А, пиво, наверное, – не по шариату. Ну смотри, смотри. По шариату или нет – приехала к нам, изволь уважать наши обычаи. Нет ведь, не хотят. Вон, Машка рассказывала – в новом классе одни черные, лопочут на переменах по-своему, ничего не разберешь. А наглые! «Контрольную мне напишешь, да? Двадцать баксов плачу», – тоном, не допускающим возражений. Сопляк! А через пять лет будет ездить на джипе по московским улицам и так же вот снимать девочек на ночь.
Своя Фатима – ну вот как эта – у него для дома, для души, а наши девчонки – для развлечения. Сволочи!
И что говорят – «Детский мир», «Детский мир»… Ну, вот и побывала я в том «Детском мире». Дорого все очень! Чисто, конечно, выбор большой, да только не по нашему карману. Нет, лучше все-таки на рынок. Там всегда можно своих найти. Свои не обманут, не то что эти.
Что он так смотрит на меня? Пил бы свое пиво. Я же его не трогаю. Я вообще первые дни в Москве встать хочу, когда в вагон метро входит мужчина. У них тут так не принято, чтобы женщина вставала.
Да вот какой это мужчина? Пьет пиво на виду у всех. Хорошо, что не валяется пьяный на полу, тут и такое бывает. Разве они уважают сами себя? Таких и другие уважать не будут. Да и девочки разве тут лучше, вот хотя бы эта, что стояла передо мной? Едва живот прикрыт, хриплым голосом смеется, прокуренным, как кавалер ее непристойные шуточки отпускает. А ведь не проститутка, в институте, наверное, учится. Не дай Бог мой Заур когда-нибудь такую в дом приведет. Сразу разверну. Ведь и наши девчонки с них пример начинают брать, все им мерещится сладкая столичная жизнь. Только нам эта их сладость слезами отливается.
Глупые вы наши девочки, вы посмотрите лучше, как живет дядя Иса в двухкомнатной хрущовке с женой и тремя детьми. Тесно, бедно, а нас всегда ведь пускает, когда приезжаем, по-родственному. Расспросите его, сколько чужих домов он построил в этом их Подмосковье, чтобы купить хотя бы такую квартиру? У них земли много. А им все мало. А зачем? Они же здесь все друг другу чужие, глотки друг другу рвут, а вот Иса – пустит четвероюродных родственников на свои тридцать метров. Жесткий у него все-таки диван, продавленный, первую ночь все уснуть никак не могла…
Что он уставился? Регистрацию тебе показать, да? Я теперь умная, делаю регистрацию сразу, как приедем. Лучше один раз заплатить, чем потом каждому менту на каждом перекрестке. Мы тоже часть России, вы сами так говорите. Почему вы тогда нас ловите, как зверей? Вот остановит мент, толпа вокруг довольна: так и надо, гоняй черных! Понаехали тут, кто вас звал?
Все ведь люди, черные, белые… Что, не ясно им? Разве мы дома так разговаривали с русскими соседями? Жаль, что их мало осталось, но вот мы с Марьей Васильевной всегда душа в душу жили, все праздники вместе. Плохо, конечно, что ей пришлось уехать, я и мужу тогда говорила, уж кого-кого, а ее не надо трогать, но и он не мог уже ничего сделать. У мужчин свои дела. Говорили, обстановка требует. Вот и уехала Марья Васильевна, письмо даже прислала, что на новом месте ей хорошо, только по старому дому скучает. Ладно, что былое вспоминать, не без перегибов тогда было, но не так же…
Нет, с ними нельзя по-хорошему. Никак нельзя. Они понимают только силу и власть. Это они уважают, у них так от века повелось. Этих наших правозащитников, которые на американские деньги кричат о правах человека на Кавказе, – их бы отправить туда! Туда, где находили зинданы для русских рабов. Пустые. Куда они самих рабов девали – не знаю. Убивали, уводили… Неважно. Кто после этого будет соблюдать права рабовладельца? Показать бы им тринадцатилетнюю девчонку-наложницу – что они с ней сделали, звери! Они ее и не заметят, правозащитнички, потому что русская. Русских – можно, этих – нельзя. Права человека, мать их. А вот когда им не права, а ствол в зубы или хотя бы кулак под нос, тут сразу: не надо, уважаемый, мы мирные люди. Ага. Мирные.
Да ведь и сюда они приезжают за тем же самым. На рынок пойдешь – даже если стоит за прилавком русская баба, все одно хозяин у нее – черный. Снимают квартиры, вон Серега рассказывал, как у них в подъезде двадцать человек на десяти квадратных метрах, и творится не пойми что, только потом ни водопровод, ни канализация не работают. Одна семья поживет годик-другой, пожирует, уезжает домой – а на их место такие же, только голодные, с гор спускаются.
Да они же просто не знают, что такое цивилизация! Как были дикари, так и остались, что с ними ни делай. Знают только одно: купи-продай, вот так и Россию всю скупают по дешевке, пока наши дураки чухаются. А через годик-два устроят нам тут цветную революцию, торжество прав американского человека, Россия – банановая республика, вот и пригодятся мартышки, бананы собирать.
Какие они здесь сытые, самоуверенные. Им все доступно. К чиновникам их без «портретов мертвого президента» в кабинет и не входи, и пойди объясни, что у тебя больной ребенок. Я что, на сникерсы-памперсы прошу? Что у них за государство, на все эти бомбы и снаряды деньги есть, а на простыни в больнице нет? Пули в нас бесплатно летят, а лекарства мы сами потом покупаем, да? Вот вожу в вашу больницу сумками.
Вот пьет свое пиво, а знает, что такое война? Как рассказывала Малика… Что такое сидеть сутками в спертом подвале. Даже дети не просят пить, они знают – утром за водой ушли двое мужчин и не вернулись. Не так страшно, что их убьют, они же мужчины, как страшно, что не оставят даже могил, не оставят ни памяти, ни чести. Наши мальчики облизывают пересохшие губы и молчат, потому что они тоже мужчины и не имеют права заплакать. Эти, с пивом и баксами в толстых кошельках, – что они знают об этом?
Это хорошо, когда у них взрывают дома и вагоны метро. Пусть они услышат нашу боль. Пусть почувствуют, что это такое, когда ты подбираешь в переломанных придорожных кустах обгорелый ботинок – и боишься опознать его. Пусть почувствуют, в самом деле…
Немного же нас осталось, тех, кто готов всему этому противостоять за нищенскую зарплату. Да что там зарплата, в ней ли дело… Обидно за державу. Ты отдаешь ей все, а получаешь – плевки. Ездил в эти все командировки, на оклад ведь семью не прокормить, а человеку в форме вагоны разгружать – не положено. Смешно сказать, сухпайки домой привозил. Новые – они очень даже ничего, вкусные, калорийные, Машке колбаска солдатская нравилась. «Папа, а ты когда еще туда поедешь?» Все, теперь уже не поеду. Отъездился. Кончилась солдатская колбаска, Машка, остался вон – «чешский стандарт». На всю нашу жизнь – чешский.
Возвращаешься и не можешь в первые дни выйти на улицу, трясет тебя: всюду эти, упакованные, наглые, бесстыжие, в полном порядке. Такие стреляли в спину и только в спину, такие кромсали на куски наших раненых. Пока была их власть – выгоняли на улицу русских стариков и насиловали девчонок. Они – мужчины? Падальщики, одно слово. Но тут я никто, тут я даже в морду дать им не могу. Потому, наверное, и пью. Надо бы бросить, на самом деле, что я как этот самый…
Но как тут бросишь? Вот она едет напротив и смотрит, и жжет своим взглядом. Это такие наводили на нас снайперов или даже сами снайперили. Им все равно, что потом убьют и их, и их семьи – им рай гарантирован. Ничего удивительного, что на земле, на своей собственной земле они оставляют весь этот бардак, и нам его за сто лет не разгрести. Чешский стандарт. Нет, так и будет оно продолжаться, и выхода другого нет. Давить. Жестоко давить чехов – и там, и тут. Тогда, может быть, еще сколько-нибудь продержимся.
Зачем они все-таки пришли на нашу землю? Когда только поползла эта вереница грязно-зеленых машин, мы уже понимали, что идет беда, что без крови не обойдется. И беда пришла очень скоро, среди бела дня, я даже не поняла сначала, что так грохнуло, почему соседний дом осел… У нас в селе не было никаких боевиков, жили люди как люди – кому мы мешали? Почему нас надо было истреблять и в сорок четвертом, и теперь? Ничего, мы сильные, мы выстоим. Как мой Заур. Он почти не плакал тогда, он уже тогда был мужчиной, он всегда будет им.
Хорошо, что нашелся тот московский доктор. Свет не без добрых людей. Не просто извлек пулю и зашил рану – дал свой адрес, телефон. Говорят, он по собственной воле ездил к нам в командировки. Мне было так неудобно звонить, но все-таки позвонила – устроил в московскую больницу на обследование. Жаль, что я больше не видела его, я бы много ему сказала. Теперь каждый год приезжаем. Экономим на всем, чтобы хватило на билет, берем плацкарту без постели – а еще тут плати, плати, плати… Может быть, это им, которые с пивом, все по карману, а как нам прожить? Заур же не может без врачей, ему надо и режим, и питание особое, а какой режим у нас, в нашей разрухе? Вон, той осенью только стекла вставили, спасибо, Хасан помог, не забывает родню, а то бы так и зимовали с полиэтиленом.
С ними нельзя по-хорошему, я же говорю, нельзя. Вон тот доктор, чудак, приезжал раз за разом на войну – спасать детей, говорил. Но если они сами подставляют своих детей под удар – как их спасешь? Если они оборудуют в доме огневую точку, как смеют они жаловаться, что потом весь квартал сносят «точечным ударом», а заодно и пару соседних – ну такие уж у нас «точечные». Вот и ракета хоть и называется «Точка», а все же это не скальпель, дорогой доктор, никакой не скальпель. Ключ на старт – есть ключ на старт – пуск – есть пуск – в уши врывается вой, и больше по губам оператора читаешь, чем слышишь: «Ракета пошла». Да вижу, что пошла, слепой тут увидит.
И остается только надеяться, что никто там наверху не напутал с координатами – ни спутники на своей высокой орбите, ни агентура, продающая секреты оптом и нашим, и вашим. А уж гироскопы-то не подведут, и ляжет «Точка» в ту самую точку на карте, и хорошо бы в ней и вправду был бункер, или дот, или что у них еще бывает. А кто рядом, кто не спрятался – я не виноват. Было как-то, продвинулась линия, съездили посмотреть – как отработали. А что увидишь? Обгорелая яма, да ломаный бетон, да саманная труха, ни мертвых, ни живых. Кого там накрыло – расскажут нам только журналисты, если очень им будет нужна сенсация. Может, не только база, может, были рядом и дети, живой щит, приманка для журналистов. Выигрыш в любом случае: накроем – будут репортажи о зверствах федералов, не накроем – совсем хорошо.
Доктора того, рассказывали, потом захватили какие-то индейцы. Просили выкуп, но кто же за него заплатит, за чудака? В общем, нашли его труп где-то в горах. Вот и делай им после этого добро. Я убивал их, доктор, что ты мне на это скажешь? Я убивал людей. Я даже не видел их. Наверное, и таких, как эта напротив. Они все на одно лицо, они все… Убивал. И что мне теперь делать, доктор?
Вон то селение, какой-то очередной «юрт», и не запомнишь их названий. Колонна же просто шла мимо, никто не собирался их трогать. А чехи обстреляли колонну с тыла. Нужен нам ваш юрт как корове седло – а огневую точку в тылу оставлять нельзя, это азбука. В общем, без зачистки не обошлось. Доктор, доктор, кровью своих детей они покупали тактическую передышку – пока колонна разворачивалась, пока спешились, пока прочесали селение, бандиты решали кое-какие задачи по передислокации. Кого ты вытаскивал, доктор?
Пуля летит доля секунды, а детское тело исковеркано навсегда. Сколько же наших осталось лежать без могил вдоль железных дорог… Сколько похоронено в Казахстане… Сколько исчезло в эти две войны, и нет концов. А мы остаемся. Мы выживаем. Мы стоим на своей земле. И значит, мой народ прав.
Я навсегда запомнила глаза Заура, когда его принимал на руки тот офицер. Он смотрел с такой болью – и все же с надеждой. Мы выживем, мама, говорили глаза, и ты поздравишь меня на моей свадьбе, ты будешь качать внуков, все будет хорошо. Его погрузили в боевую машину, и я испугалась, что больше никогда его не увижу живым. Увидела. Спасибо тем добрым людям, которые среди крови и грязи спасли жизнь ребенка. Спасибо доктору, спасибо этим военным, они сразу взяли его к своим раненым и довезли. Все-таки довезли.
Или тот пацаненок… Как смотрела его мать, как протягивала его нам: глядите, мол, что вы сделали! Дура, хотел я сказать, ты посмотри, откуда стреляли, это же не наша пуля. Тем более мы сами не пехота, автоматы – не наше оружие. И вообще, не стреляли бы в нас – не стреляли бы мы. Не приходили бы от вас к нам во все годы вашей «суверенности» – не пришли бы и мы к вам.
Я не стал тогда ничего этого говорить – бесполезно. Просто позвал Леонтьева, приказал доставить мальца в госпиталь – все равно надо было везти двоих с нашей батареи, одного зацепило прошлой ночью из подствольника, второй обожрался чем-то, из сортира не вылезал. Но эти-то могли подождать, а с мальцом, конечно, было плохо. Надеюсь, привезли его вовремя – проникающее в брюшную полость, это не шутки.
Потом передали, что сдали его по назначению. А подробности рассказывать некому: на обратном пути налетели на фугас, Леонтьев двухсотый, а с ним прапорщик какой-то был, не наш – без ступни остался… Вот делай им после этого добро, а? А все-таки, все-таки… вспоминаю иногда глаза того парнишки. Хорошо бы он остался в живых. Хорошо бы. Слишком много было бессмысленной крови, никаким антидепрессантом не зальешь.
Они вышли на одной станции, но в разные двери – не сговариваясь, поднялись, разошлись, не оглянулись. Они так и не вспомнили о прежней своей встрече – тогда все было другое, у них на руках был раненый ребенок, им было не до того, чтобы запоминать лица.
Июнь 2005
Москва
Прежде конца покаяние
В соавторстве с Татьяной Федоровой
Весенняя степь была еще так свежа, и маки, маки брызнули по ней, красные по зеленому, словно и степь теперь носила форму, словно и она отвечала горячим алым пятном на каждый осколок и каждую пулю, и не было им ни конца, ни счета. И только камни белели россыпями, так что с первого взгляда и не поймешь – где античные руины, а где то, что было чьим-то домом неделю или три года назад.
По степи шел человек в выцветшем обмундировании с погонами старшего сержанта, с ППШ и худым вещмешком, и по обветренному лицу со шрамом от виска до подбородка, по седому ежику, а еще по тому, как аккуратно оглядывает дорогу перед собой, было видно, что воюет давно, да и живет немало. Он шел, срывая по дороге травинки и посасывая их, словно самокрутки, с привычным равнодушием человека, который давно уже не входил в уцелевшие города. По пути оглядывал остатки немецких укреплений, заглянул в толково оборудованное пулеметное гнездо, где уже не было самого пулемета, но еще лежали тела трех пулеметчиков в серых мундирах, и запах гниющей плоти мешался с ароматами крымской весны.
Он привычно оценил сектор обстрела, но не стал задерживаться. Только сказал:
– Вот и я вернулся, Севастополь.
Теперь он шел к громаде собора с проваленным куполом и уже не глядел по сторонам. Перед входом остановился на минуту, словно выжидая чего-то, а потом засунул пилотку под ремень и широко и спокойно перекрестился. С сомнением взглянул на свой автомат, а потом махнул рукой и вошел внутрь, в гулкое пространство под чистым небом, усыпанное щебенкой да немногими гильзами. Медленно, осторожно (но, кажется, не из-за мин) шел он по разрушенному собору, оглядывая стены, обходя кучи битого кирпича, и наконец прошел туда, где прежде был алтарь. Перед алтарем снял автомат и вещмешок, аккуратно пристроил, где почище, и шагнул внутрь.
Там он неловко опустился на колени – сильное, привычное к войне тело отвыкло от этой позы, – и прикоснулся кончиками пальцев к престолу, засыпанному кирпичной крошкой, и замер, словно бы и не чувствуя острых камешков на полу. А потом внезапно выпрямился, развернулся, растворил несуществующие Царские врата и выдохнул одними губами, без звука: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святого Духа…» – однако не стал продолжать. Так и стоял молча, торжественно и немного нелепо в этом пустом и полутемном пространстве бывшего храма.
Его глаза были закрыты, но видел он не храм в его былом величии, как хотелось, а бой, оконченный четыре дня назад; точнее, то, что настало после. Когда уже рассеялся дым над водой, и не разглядеть было на горизонте последних немецких транспортов, а здесь, на берегу, не шевелился ни один мышиный мундир, он, оглушенный боем, подошел к берегу, выбирая, куда ставить ногу среди металла и мяса. И припал к прибою, черпал и черпал эту прохладную голубую воду, и лил ее на лицо, на гимнастерку, остужая горячее тело. И только потом, оглядев бойцов, скомандовал: «Рота, строиться!» Последнего младшего лейтенанта ранило еще утром, и командовал теперь он. Да и оставалось в том строю пятнадцать человек, здоровых и легкораненых.
Он все стоял, и стоял, и надеялся, что возникнет в его сознании та служба, которая должна бы здесь идти, – и видел ротный старшина только строй своих бойцов, их пыльные, злые и веселые лица. И среди них уже было не различить тех, кто встал сегодня в строй, от тех, кто лежал теперь по госпиталям, и от тех, кто остался на Кубани, на причалах Керчи, на склонах Сапун-горы… Они смотрели на него и чего-то ждали: «Ну что ж ты, старшой?» – а он не знал, что им ответить.
Прошло немало времени, и он очнулся, открыл глаза, шагнул вперед – и вдруг заметил, что он в соборе не один.
Она сама не знала, что привело ее сегодня к собору. Как же это замечательно – просто идти по улице не пригибаясь, не ожидая в любую секунду резкого лающего оклика, не высматривая впереди – куда, в какую щель можно забиться при первом же вое бомбежки или обстрела.
Несмелые, но уже звонкие детские голоса между руинами, сгорбленные, копошащиеся фигурки, выискивающие среди развалин обломки прежней, милой и наивной жизни, яркие маки, неведомо как уцелевшие в оплавленном боями городе, – грудь теснило от давно забытого и потерявшего название чувства… Она просто шла туда, куда ноги сами несли ее, шла и наслаждалась тишиной, солнцем и пряным запахом моря и степи.
Она замерла там, где еще совсем недавно был притвор, не смея шагнуть дальше, боясь малейшим звуком помешать тому огромному, что происходило сейчас, из-за чего сам воздух, казалось, стал плотным и звенящим и чему причиной стал этот незнакомый человек с седым ежиком волос. Худые пальцы стиснули концы сползшего на плечи платка, а глаза неотступно следили за чужаком, так дерзко и властно стоявшим в Царских вратах.
Внезапно она почувствовала его взгляд, смутилась до слез и неловким, давно забытым движением попыталась поклониться, но, так и не склонившись до конца, вдруг резко выпрямилась и горячо, требовательно взглянула ему в лицо.
– Простите, вы ведь священник, да?
Сбилась, облизнула внезапно пересохшие губы и снова хрипло не то позвала, не то спросила:
– Батюшка…
А он шагнул вперед и в сторону, словно бы одернули, окрикнули в детстве: «Куда полез? А ну!» Оправил гимнастерку.
– Батюшка, говорите? Да нет, что вы…
Помолчал. Толкнул пыльным сапогом кусок кирпича, и тот откатился в сторону.
– Вот когда-то звали так.
– Вы – батюшка, – она не спрашивала, утверждала.
– Ну что вы, какой же я поп? – усмехнулся он в ответ и вдруг выдохнул резко, зло, как командовал бойцами. – Оставить! Было, да сплыло! Я ж людей убивал, немцев, румын, даже не знаю сколько! Я вот из боя три дня как – или четыре. А вы: батюшка! Канон был… забыл уж какой, уставы все помню, каноны нет. В общем, канон: аще прольет кровь, извержен да будет.
– Батюшка…
– Старший сержант я, мать, – устало отозвался он. – Красной армии младший командир. Вы… ты уж прости. Так вышло.
– А только все равно батюшка, – вдруг жестко и словно бы даже зло отрубила она, упрямо мотнув головой. – В иереи ты не сам себя ставил, не тебе с себя сан слагать. А жизнь… что жизнь… Кого она пощадила-то? Кто в аду этом себя соблюсти сумел?
– А за других я не ответчик, – раздумчиво, как бы взвешивая слова, ответил он.
– Отвечать – там ответим, за каждое словечко, за все ответим, а здесь – не-ет, некому нас тут судить, никому такого права не дано. Ну что ты на меня смотришь-то так?
Она говорила настойчиво, требовательно, ей нужен был батюшка. А тут – старший сержант.
– Думаешь, совсем баба сдурела? Я… я на исповедь. Отче…
– Гражданка, – поперхнулся он, – ну какая, какая исповедь? Ну ты о чем вообще? Ну война же, война… да не в том дело… Ну если что помочь тебе, консервами там, плащ-палатку, может, крышу залатать, мы сообразим, или если дом поправить, я ребят позову, ты не думай. Но исповедь?
– Я ж на исповедь шла. Как чувствовала. При немцах, при румынах этих – нет, не могла, хоть и служили они, и вроде православные. Нет. А теперь свои. Теперь вы пришли. Ты послушай, отче… А ты послушай…
Он сдался. Он присел на какой-то выступ или кучу камней, даже не присел – прислонился просто, без епитрахили, без аналоя, с вещмешком и автоматом поодаль, прикрыл глаза, глядя куда-то вглубь и привычно вслушиваясь…
– Говори.
– Ба-атюшка, – протянула она, – это ж навсегда, что поп… Да ты не стесняйся, отче. Что, думаешь, я чем-то тебя лучше? Да ничем! Только вот судить себя никому не дам! Что они могут знать, судьи твои? Что, насиловали их? Вот так – за косы и давай… Или не знаешь, как оно в Гражданскую было? Нам-то все едино было, что белые, что красные, что зеленые. Мы жить хотели, понимаешь? Просто жить.
Ее прорвало. Она выживала – и выжила, и теперь казалось, что навсегда, что все обиды, вся боль – все растаяло на горизонте с дымом транспортов, все сброшено и вдребезги разбито, как хищные орлы со свастикой в когтях. Все, а не только последних два года.
А он молчал, не прерывал, не задавал вопросов. Но слушал, по всему видно – слушал.
– А ты знаешь, что такое, когда на хутор вваливается толпа мужиков, пьяных, шальных? Одурели ж от крови и вольницы. Никогда не слышал, как насилуют всех поголовно, от девчонок до древних старух?
Молчал. Он много чего видел.
– Не слышал – так вот послушай, как оно потом, когда только одно остается – головой да и в омут. Четырнадцать мне тогда было, а сестренке двенадцать… Померла сестренка… А я видишь – живу… Только на исповеди с тех самых дней – не была. Грязь на мне, грязь навсегда, так думала, – пока не война. Когда война, тогда уж все… Тогда уж крови-то на всех…
В общем, у самой реки сосед тогда догнал, по щекам отхлестал, чтобы не дурила. Ух, как я его ненавидела тогда… Только пропал запал мой, так и не смогла… Мальчонка потом родился, горластый – страсть… Кричит в люльке, надрывается, а я и глядеть на него не могу, только одна мысль в голове бьется: «Чтоб ты помер…» Как накаркала – захворал он, дня три помаялся, и все…
Поверишь – ни слезинки у меня тогда не было… Схоронила и в город подалась, нечего мне в селе было больше делать. Севастополь этот ваш. Наш Севастополь.
В городе на стройку завербовалась, учиться на рабфак пошла. А там инструктор, ладный такой из себя, красивый. Да мне уж все равно было… сошлись. Десять годов прожили… Он детей не хотел, я ему красивая нужна была, чтобы перед друзьями хвалиться, а брюхатой поди похвались… А ты знаешь, что такое аборт, да еще без наркоза, да когда врач издевается, – что, мол, гражданочка, легкой жизни ищешь, не хочешь советской родине солдат рожать? А роди я их, думаешь, живы бы они были? Сколько у тебя мальцов-то таких полегло? Ну вот было б на троих больше…
А он молчал, он молчал и слушал.
– А потом он покрасивше девчонку нашел, молоденькую… Мне-то уж двадцать седьмой год шел, стара для него. Ух я и плакала тогда, кислоты даже раздобыла, а потом пожалела девчонку – намучается она с ним, как я мучалась, ничего, пускай… Я тогда уже не на стройке работала, в библиотеку перешла, книжки читать начала… И заходил к нам время от времени дядечка такой, вроде тебя, тож седой весь. Слово за слово – разговорились… Ну, короче, замуж он меня позвал. А у него квартира отдельная, ванна, домработница. Большой человек оказался, архитектор, жилмассив новый проектировал, знаешь? Ты-то городской, знаешь наверняка…
– Местный я, – ответил он, – недалеко жил. Шестая Бастионная.
– Зна-аю, – протянула она и с ходу продолжила, – а только в тридцать седьмом арестовали его. Сказали – вредитель, дома проектировал так, чтобы они сами разваливались, по заданию Троцкого. Да какой он вредитель! Он мухи не обидит, а они туда же… Так и сгинул, сказали – «без права переписки»… Ты не встречал, а? – вскинула она на него измученные, обведенные темными кругами глаза. – Высокий такой, седой совсем, а глаза карие. Юрием зовут…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.