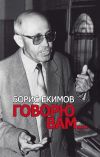Текст книги "Письма спящему брату (сборник)"

Автор книги: Андрей Десницкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
– Нет, мать, – ответил он, – я в армии.
– Эх, да ты ж там не был-то! Так вот, арестовали его, нас с детками сразу из квартиры – да в барак. У меня ж двое уже было, Манечка да Сашка, ох, бедовые, – неожиданно улыбнулась она и улыбка словно осветила изнутри это обветренное смуглое лицо, исчерченное ранними морщинами.
– Хорошие? – спросил и сам как будто застеснялся, что глупо спросил.
– Я-то деток не хотела, он уговорил. Ох и любил он их – страсть, надышаться не мог. Маняшке пять лет было, она все искала, ходила, где мой папка да куда ушел. А Сашунька и не помнит его, совсем малой был. У меня даже карточки не осталось – все отобрали, даже и не покажешь деткам, как папка-то выглядит. Вернется – не узнают его, поди, что думаешь? Ему ж не так долго осталось-то, года три еще, и все. А говорят – амнистия будет, так, может, он раньше вернется?
– Дети – выжили? – только и спросил.
– Выжили. Да ты послушай, батюшка, что я ради того при немцах, при румынах клятых, как я…
– Не надо, мать. Они ушли, – он резко встал, выдохнул, – не вернутся больше. Ты детей сохранила. Этих двух лет не было, сгинули, и не будет больше. И никто тебе не судья. А я меньше всех. А Господь милостив, Он поймет. Если что – скажи Ему, мне не надо. Мне еще их убивать. Мне – чтобы прицел не дрожал.
Она склонилась, как под епитрахиль, а только не было ее, лишь его руки, грубые, в царапинах, сильные руки солдата.
– Господь и Бог наш Иисус Христос да простит ти, чадо… А я… недостоин я тебя прощать и молитву читать. А Господь простит. Я знаю.
Она вскинула на него удивленные глаза:
– Батюшка, так что епитрахиль! Ты ж…
– Старший сержант я. Я не поп. А Господь простит. И помолчав, добавил:
– Вот ради чего…
– Ты о чем, отче? – Она уже встала рядом, без разрешительной молитвы, без епитрахили, безо всего, но ей словно уже и не надо было.
– Вот ради чего все, ты мне скажи? Вот был я поп… стал солдат… да не о том я…
– Ради нас. Ради детей, – ответила она сразу, без раздумий. – Мы ж русские.
– Ру-уские, – протянул он, – да. А как топили в двадцатом? Да румыны эти не так… А как – в сорок втором? Ты ж тут была ведь? Я-то уже нет, а мне летчик один рассказывал, он вывозил отсюда полковников-генералов. В июле… Вот на Херсонесе, на мысу аэродром, знаешь? В городе уже немец был, а на мысу – наши, гражданские, военные. Воды пресной уже не было, загибались от жара и без пуль. Там, знаешь, Голубая бухта, мы немца там добивали на днях – так не было того немца! Транспорты на горизонте дымят. А мой летчик в сорок втором набирает высоту – весь берег усеян нашими, кричат, машут, транспортов ждут. Тысячи, десятки тысяч, вот что он сделает – самолет двухместный? А у него сидит полковник толстожопый, его вывозят, а мелочь – нет. Немец всех покромсал. Не пришли наши транспорты, ни один не пришел. Знаешь, поди?
Она молчала.
– Вот кто нас так, как мы себя? Сами? Храмы кто закрывал? Сажал – кто? Вот в ту войну говорили, писали везде – «Мы русские, с нами Бог». Теперь эти пишут – «Gott mit uns», на пряжках своих собачьих. Я первого пленного брал – я ему по роже этой пряжкой. По роже, и второй раз, и третий, ребята еле оттащили. А то б точно убил. Это Он – с тобой? Он – на Голгофе. А ты где? Ты что у нас забыл? Да мы и сами, и без немцев этих… кто ж храмы закрыл? Кто колхозы, кто лагеря эти, кто доносы? Нет, мы и без фашистов. Или обострение, говоришь, классовой борьбы? Э-эх…
И вдруг коротко кивнув, словно воду стряхнув с волос, она ответила быстро, как бы даже небрежно, мол, не о том говоришь:
– Что с тобой-то, батюшка? На душе что носишь? Ты… расскажи… Ты про себя… Про них – не надо.
Он думал минуты две, а она не торопила. И он заговорил.
– И правда. Знаешь, вот не рассказывал, да ты и сама поймешь. Ты при себе это держи. Хотя теперь уж что… Теперь война. Новый отсчет. И мне теперь что…
Я ведь совсем еще молодым постриг принял, мальчишкой, можно сказать. В Гражданскую. Я не знаю, застала ли ты в восемнадцатом, что здесь творилось. Я сам здесь родился, здесь все детство. Мы же купаться в жару туда бегали… А им – камень к ногам, руки связать проволокой, и толчком в воду. Одного за другим, офицеров, верных присяге. Так потом и стояли на дне по стойке смирно. Десятки, сотни… Потом пришли немцы. Не эти, другие, они хотя бы порядок тогда навели. Отец мой даром что из поповской семьи, а сам был флотским офицером, с четырнадцатого года в походах, до Босфора ходил – и ни одной царапины, а тут… Я даже не знаю, что с ним стало, был ли он среди тех, кто на дне, или бежать на Дон успел, или в горах скрывался… Не видели мы его больше.
А мама в восемнадцатом умерла, уже при немцах. И куда мне деваться было? Мне самому только девятнадцать, я же девяносто девятого года, века на год старше. Ты не смотри, что я седой, мне пятый десяток всего идет. В общем, с детства я в собор наш ходил, а тут прибился к монастырю Георгиевскому, знаешь ведь? Там хорошо, обрыв над морем, синь да тишина. И пахнет можжевельником. Только молись да радуйся.
А тут – Деникин, тут поход на Москву, Врангель, Слащев, Каховка… Ну, что тебе рассказывать. «Отчего вы не в армии?» – был у нас тогда в городе такой плакат. И на советской стороне был: «Ты записался добровольцем?» А я не записался. Я думал, как же я буду русских людей убивать, пусть красные, пусть белые, пусть зеленые – ведь не враги же они друг другу, просто запутались, договориться не могут. А я молиться за тех и этих буду – так я решил. Принял постриг.
И когда красные снова пришли, сама знаешь, что тут было. А я бежать не стал, да и не попал бы я на те пароходы. Я думал: это наша земля, я дома, ничего, перетерпим, куда нам бежать, кому мы там будем нужны? Так и остался здесь. В двадцать третьем был я уже иеромонах, вот в этом соборе и служил. Да недолго, в следующем году его закрыли. Разграбили, правда, еще раньше. Так что сама понимаешь… Служил, где придется, где еще была возможность, чаще всего или дома, или ездил куда-то. Работал вон счетоводом, надо же было перед советской властью полезным членом общества оказаться. И радовался жизни: вон как я неприметно, по-монашески, чего еще надо? В катакомбах мы, как первые христиане. Дорога к небу прямая, даром что в штатском ходил. Обновленцев не принимал, на декларацию Сергия плюнул, ни в чем от чистоты веры не отступал.
А в тридцать четвертом все оно кончилось. Донес ли кто о наших тайных службах или так просто, профилактика, только пришла ко мне одна раба Божья, у ней племянник в органах (видать, совестливый был мальчишка), да и передала, что, мол, сроки твои вышли, и ехал бы ты, батюшка, отсюда подальше, арестовывать тебя придут. Мол, часов двенадцать у тебя на сборы есть, а потом уж ничего и не сделать будет.
А я, знаешь, я… растерялся. Нашего брата уж давно брали, кого расстреляли, кто на Соловках. Оно как-то само собой к тому шло. Вот и я ждал, готов был пострадать, но как? Чтобы пришли, взяли, бросили в камеру. И на пытки готов был, и на смерть за Христа. А вот к выбору готов не был: остаться – или уехать? И думалось тогда: если предупреждают, значит, это от Него, мол, не твой еще это час, ты еще на земле пригодишься, вон сколько людей нуждаются в твоем слове, утешении. Сколько без исповеди, без Тайн уходят, потому что некому им преподнести. И что не бегство это будет, а разумная защита.
В общем, принял я решение. Да не решение даже, само как-то это вышло. Собрал, что было, в портфель, облачение самое простое (золото все еще на Поволжье изъяли, ты ведь помнишь), и на вокзал. И на первый поезд билет удалось взять, в Харьков, а оттуда еще дальше, куда от века на Руси ссылали да бежали… В общем, портфель у меня в Харькове и отобрали, шпана какая-то ножиком пощекотала. И приехал я в Сибирь в одном костюмчике штатском, как был, без ничего. Хорошо, что лето. Долго мучился тогда, думал, Господь наказал за отступничество, лишил иеромонашества моего. Но и обратно не вернулся. Что потерял, того не воротишь, да и билет на какие деньги покупать?
В общем, устроился я в городе Абакане поначалу тоже счетоводом. Ни фамилии не менял, ни документов – думал, недостойно это. Найдут так найдут. Но не искали. Потом разъяснили мне, что во всесоюзный розыск меня, стало быть, не подавали, не того полета птица. Да и не до меня им уже было, там, в Хакасии, лютовали пуще нашего. Я-то думал как: приеду, найду своих, устроюсь, как дома жил. Да искать-то уже почти и некого было: последний храм закрыли как раз к приезду моему. По домам еще иногда служили, антиминсы были у священников, да и тем недолго оставалось на воле гулять. А я – что за иеромонах? С места своего бежал, облачение утратил… Еще канон есть другой: кто паству оставил – извержен да будет. А я оставил.
Молчала, слушала, как прежде он.
– Счетовод я и есть. А кругом тайга да власть советская. Знаешь, даже трудно сказать, по чему больше тосковал тогда – по священству своему поруганному или по родине. Как моря там не хватало! Теплое, синее, бескрайнее ночами снилось. Абакан город молодой, люди хорошие, но нашему-то не чета. И как заметет его почти по самые крыши зимой, и тоска такая… Какое уж тут монашество. И монашеских обетов не соблюл. Вот он, какой я…
И долго, знаешь, в городе не смог. Не удержался. Снимал угол у бабки одной, за гроши питался, купил себе одежку зимнюю, там недорого это. А следующей весной подался я в путевые обходчики. Казалось мне, что это будет ближе к монашеству моему… былому. Работа простая: тайга, да железная дорога по ней идет, и ты смотришь, чтобы нигде никакого повреждения. Люди от тебя далеко, ты от них, и вреда никому никакого, так мне тогда казалось. Счетовод – лукавая профессия, тут ведь без приписок никак не пойдет. Не для себя даже, а для людей: ведь если честно выписывать, что они выработали, так и голодными их оставишь, а начальник и в тюрьму может, с тобой вместе. Хотя мне тогда даже казалось, что и лучше бы оно так, в тюрьму по бытовой статье.
В общем, стал я обходчиком. Тайга – она вроде моря, тоже бескрайняя, дикая, если привыкнуть к ней, своя красота в ней есть. Она и прокормит, если умеючи… Я вон дичь бил – монах! – даже иной раз и в пост. Казалось, кончилось оно все для меня, так уж доживай себе спокойно.
А ведь нет. И тут было мне посещение… Не знаю даже, как сказать. Эшелоны. Сперва было их немного, я и внимания не обращал. А потом пошли часто, ой частенько… И как раз был разъезд на моем участке, там их останавливали, когда на час, когда на сутки – встречные пропустить. Теплушки, охрана… Иной раз выпускали их оправиться, прямо стадом, на глазах друг у друга. Иной раз выкидывали прямо на снег мертвецов. И везли, везли, везли на восток, а потом гнали эти эшелоны на запад пустыми. Так в сорок первом воинские пошли, с грузом все в одну сторону.
И вот я на это смотрел, понимаешь? И знал, что мог бы, должен был среди них быть, даже нет, раньше их. Вместе с ними. Может, там я и нашел бы, кого утешить, кого исповедовать, а епитрахиль-то что ж, там каждый второй мученик. Не в ней же дело, в материи этой. Должен был, а не был. И ничего уже не поправишь, на мученичество сами не напрашиваются, да и страшно, ох как страшно…
А потом увидел после одного эшелона на снегу бумажку, криво так сложенную. С адресом, без конверта, как сейчас бойцы пишут. Только сразу видно, что не привык человек без конверта письма посылать. Адрес – на улице нашей здешней, в другом ее конце. Представляешь? Я принес к себе в домик, развернул, прочитал – да, не удержался. Нет, имя незнакомое, но, может быть, я десятки раз его видел на улице, в магазине, в этом даже храме. Он писал, что вышло ему восемь лет лагерей, и это еще хорошо, чтобы держались там дома. Целовал, велел, чтобы жили за него. Даже имени не стояло в конце, одна только буква вместо подписи – и не знаю, за кого молиться.
И жгла мне руки эта бумага, ангельское ведь письмо, живой мученик писал, – а мне адским пламенем жгла… Так она попаляет, любовь, отступников. Я отправил, конечно, по адресу, в конверт запечатал. Но не в том дело. Вот он, этот человек, он прошел по своему пути, а я – нет. Он вместо меня, понимаешь? И меня как дернуло: им же всегда показатели нужны, значит, в тридцать четвертом вместо меня тоже кого-нибудь взяли, и я даже не знаю кого!
Рвали мне сердце эти эшелоны, и поделом. Стук колес – всегда спал под него сладко, а тут стало как напоминание: твой путь, твой путь… И были потом другие бумажки на снегу, редко, но были: Вятка, Смоленская область, Тамбовская, целых два в Ленинград. Я ведь все адреса запомнил, все имена, как в синодике. Я за себя уже не молился тогда, я-то что, вот они, их бы Господь помиловал и близких уберег. Я тогда и седеть начал, а ты думала, на войне?
А война – что ж, это выход был. У нас, железнодорожников, бронь – поезда важнее любых пулеметов будут. Ничего, добился, призвали, а на мое место мальчишку взяли одного, может, хоть он уцелеет. Кто-то вместо меня пошел, неизвестный, а здесь я за кого-то повоюю. Понимаешь, я куда угодно был готов, только от эшелонов этих подальше. Долго мурыжили в запасных частях, оставить там хотели старшиной – у меня же опыт счетовода и возраст уж недетский – а вот к лету сорок второго добрался-таки до жарких мест. Пехота долго не живет, а меня, видишь, милует пока. Ранило только два раза, и оба несерьезно. Воевать ведь тоже надо уметь, своя привычка нужна. Вот и до дома дошел… Улицы нашей уж нет, конечно, а собор, видишь, стоит.
Помолчал еще немного, и она молчала. Пели над собором с дырой в куполе птицы, невдалеке шумело море, дышала крымская весна, прекрасней которой и не бывает на свете.
– Батюшка… Какой уж батюшка! Старший сержант, исполняю обязанности командира роты автоматчиков. Офицеров-то у нас повыбило всех, Ванька-взводный в пехоте первым погибает. А я по-старому – фельдфебелем. Ничего, переформируют сейчас, новых Ванек пришлют. Бедовые они, не умеют еще… и научиться не успевают. Тоже вот: зачем Он меня-то бережет? Лучше бы кого из них, у них невесты ведь, матери, вся жизнь еще чистая впереди.
И добавил:
– Прости уж меня, мать. Прости и благослови. И отпусти грехи, если можешь.
Он, как прежде, тяжело, неуклюже встал перед ней на колени, не выбирая места, на битый кирпич, уж где пришлось.
– Я? Да кто ж я такая…
– Ты – паства моя. Я бросил вас всех. Я должен был до конца, как эти, на мысу, пришел транспорт, не пришел… а я… струсил я…
Она обхватила его всем телом, прижалась, накрыла собой:
– Миленький… маленький мой… все пройдет… все будет как в детстве, ты поверь, я знаю…
И прежде чем заплакать вместе с ним – впервые за два года! – только успела прошептать:
– Как же мы ждали вас, как ждали… все два проклятущих года, как мы ждали вас! Мальчишки мои… Люблю вас, как же вас люблю, родные!
Выходя из собора, он только размашисто перекрестился: «Только даждь ми, Господи, прежде конца покаяние…» Надел пилотку, привычно забросил автомат за плечо и зашагал не оглядываясь. Цвели маки, пахло дымом и хлебом, небо было таким же синим, как море, в розовых закатных облаках, и ложилась на сапоги пыль – та же, что и дружине Владимира, святого равноапостольного князя, а в ту пору, как сидел он под Корсунью – лихого налетчика и варяжского язычника.
Старшина Красной армии Крестовоздвиженский Серафим Николаевич, кавалер ордена Славы третьей степени и Красной Звезды (посмертно) будет убит через три с небольшим месяца при форсировании Днестра. Уходя во вспененную осколками мутную воду реки, всю в розовых облачках человечьей крови, он вспомнит это небо и эти маки, вспомнит разговор в разоренном храме. И когда в его разорванные легкие ворвется тяжелая влага, он задохнется от нетерпения: вот сейчас будут ему ответы! – и успеет обрадоваться, что последнюю свою службу, военную, исполнил честно и до конца.
И что дана ему кончина безболезненная (почти), непостыдная, мирная, и даже, кажется, прежде конца покаяние…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.