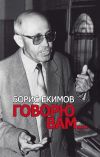Текст книги "Письма спящему брату (сборник)"

Автор книги: Андрей Десницкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Знаешь, сегодня я побывала в церкви, куда ходит Надюша – она была на исповеди. Нет, я не слушала, о чем они говорили со священником – в конце концов, это же их тайна, и мне в нее лезть нельзя. Но кое-что я, кажется, поняла…
Вот ты всегда спрашивал меня, зачем нужна церковь – и сегодня о том же самом спрашивают там, на земле, Надюшу. В самом деле, сплошь и рядом приходится слышать ей, как и мне: «Бог у меня в душе», «я могу говорить с Ним в любой момент», «мне не нужны посредники»… Нет, ты так не говорил, и я очень это ценю. Ты говорил просто: «Не верю». А то знаешь, в этих разговорах на первом месте всегда «я, мне, у меня», а Он всегда на втором, даже на тридцать втором месте, на уютной такой полочке вместе с курортными сувенирами: захотелось – взял, повертел в руках, потом назад поставил.
Так зачем же нам церковь? Нам – это нам с Надюшей, я не могу говорить за всех. Ну, на самом деле ты прав: чтобы пожалели, чтобы было куда прийти со своими ошибками, чтобы жить стало хоть немного полегче. Еще – снять сосущее чувство неисправимой, неотвязной вины, для того и исповедь. Мы обе с этого начинали, надо же было куда-то спрятать боль, и неважно, велика или мала причина этой боли, мужа у тебя убили, страны лишили, или просто кажется, что никто не ценит и не понимает – болит-то одинаково сильно. И вот пытаешься спастись, сначала только от своих трагедий или от болота повседневной серости. Кто водкой заливает все это, кто святой водой – да, в самом начале именно так.
И только потом я начинала понимать, куда действительно попала и зачем мне было это нужно. Даже нет, не понимала еще, а просто чувствовала, что без этого никуда, что здесь для меня что-то очень и очень важное, и вот оно начинает понемногу прорастать там, внутри, исподволь, незаметно… Я постепенно выходила на свою дорогу, сама не замечая этого, начинала медленно идти к Невечернему Свету, который не зайдет, не покинет меня, не даст тьме меня поглотить.
А церковь – это сообщество людей, идущих по этой дороге. Я иду по ней сама и только сама. Но некоторые вышли в путь задолго до нас и успели продвинуться очень далеко, они могут подсказать и научить, а вот пройти за меня не могут. Можно ли идти совсем в одиночку? Можно, конечно. Срываться во все пропасти, тонуть во всех болотах и потом все-таки выбираться, можно карабкаться по каменистой обочине, можно упускать все прохладные родники и натыкаться на все завалы и в конце концов все-таки выбраться к своей цели – но вместе проще.
Хотя… нет, не всегда проще, ты прав. Люди там разные, и те, кто рядом, – они часто очень, очень неприятные. Да, там, далеко впереди, они прекрасные и светлые, а здесь, рядом с тобой, – ворчливые, тупые, злобные и требовательные к другим, а не к себе. Словом, такие же как, мы, и им с нами по пути. Стадо дикобразов на водопое.
И главное… Ты же помнишь, как мы решили с тобой на заре юности: нет – лицемерию! К чему все эти формальные требования, мелкие придирки: того не ешь, этого не делай, столько перстов и столько поклонов – разве нужно это Богу («если Он есть», добавляли мы тогда со смехом). Оказалось, что и вправду не нужно. Так и малышей приучают самих одеваться, есть за общим столом, соблюдать правила вежливости. Они ведь порой такие же критиканы, как мы с тобой в свое время: нельзя, а я хочу и буду! От няни, помнишь, иной раз и шлепка за такое можно было словить.
Осознание внутреннего смысла приходит потом, постепенно. И уже никакому воспитанному взрослому не покажется тяжкой обузой, что вилку надо держать в левой, а нож в правой руке и что надо постоянно говорить «спасибо» и «пожалуйста». Сами по себе эти вещи не важны, но что-то очень важное мы выражаем с их помощью: уважение к другим и к себе.
Примерно таковы, как я поняла потом, и церковные правила: они сродни этикету по отношению к Нему и к тем, кто с нами рядом. Форма может меняться, но совсем без формы не будет и никакого содержания: воду можно налить в бутылку или в кувшин, пить из чашки или из стакана, но голыми руками много воды не зачерпнешь, далеко ее не унесешь.
А ведь на самом деле подлинное христианство – это пространство огромной свободы. Каким удивительным было для меня это открытие: оказалось, что нет никаких форм, которые были бы обязательны для всех и всегда, есть только общая цель и множество дорог, ведущих к ней. Я только уже в церкви увидела по-настоящему, что христианство – вовсе не отгороженный от мира закуток, где сидишь и трясешься, как бы не оскверниться (хотя, если честно, у меня самой оно бывало и таким). Нет, это полнота жизни, где отказываешься от каких-то дурных и опасных, от внешних и второстепенных вещей, чтобы хватило времени и сил на главное. Помнишь ли это? «Все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно обладать мной».
Так оно и есть на самом деле, ты уж извини за громкие слова.
Ну, а кто застревает на внешних формах, не задумываясь о сути… Как назвал это наш поэт: «Грешить бесстыдно, непробудно…» – ну не буду я тебе все стихотворение переписывать, сам наверняка его помнишь хорошо. И ведь это все правда, и даже не так хуже всего, как в этом стихотворении, а, скорее, вот как: остерегаться молочка выпить в среду, все иконки с лампадками содержать в строгом порядке – и просто плевать на ближнего, и даже на самого себя, не чувствуя в том никакого греха. Лучше уж «бесстыдно, непробудно» – тогда хотя бы ощущение какой-то неправильности есть, а тут лопается человек от сознания собственной набожности… Мы такого вдосыть насмотрелись, верно?
Мы хотели быть сильными, самостоятельными. У тебя вышло, у меня нет – и я очень рада, что не вышло. Ты прав, Мишка, церковь вообще-то для слабых, зажатых, неуверенных в себе. Сильные и уверенные в ней не нуждаются – может быть, потому иногда и ломает их жизнь, и не знают они, куда деваться от всех напастей, да и от себя самих?
А помнишь, как заканчивается то стихотворение? «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Наш Поэт сказал «Россия», может быть, потому, что для него не так уж и много значила церковь. Пусть в церкви, или в России, есть очень много грязи. Но есть в ней и такое, чего больше нигде не найдешь.
Мы едва тянемся к идеалу, а от нас часто ждут святости, безоговорочной и немедленной. А точнее так: ждут, что мы будем полностью соответствовать их представлениям об идеальной святости, уютной такой, необременительной для окружающих. Вот наивные! Во-первых, настоящая святость обжигает, рядом с ней невозможно оставаться тем, кем ты был. Будь мы и вправду святыми, они бы нас просто поубивали… или сами бы стали святыми, чего на самом деле мало кто хочет.
И еще, ты подумай про того купчину из стихотворения. Может, «зацелованный оклад» и удерживал его от самой-то бездны? Вот когда отменили его комиссары – ты вспомни, куда мы рухнули.
Знаешь, что я еще вижу на примере Надюши? Я ведь за собой этого и не замечала, да и время было другое, сложное, не до капризов было. У нее, я смотрю, отношения с мужем и друзьями-подругами здорово за последние пару лет испортились… Хотелось бы, конечно, свалить все это на бесов, да несправедливо: сама ведь постаралась. Ну что поделать, вот ты представь: рождается у женщины ребенок, так ей уже не до мужа и тем более не до подруг, все силы малышу. И пеленки грязные всюду, и сама усталая, подурневшая, даже как будто отупевшая, но это ведь только на время, сам знаешь.
А тут человек начинает работать над собственной душой, вынашивать ее и вскармливать – это ведь тоже очень важно. Постепенно придет умение сочетать всю свою духовную жизнь с жизнью обыденной, повседневной, а пока ей этому еще только предстоит научиться. Ну ничего, понемногу…
Я тебе начала отвечать на вопрос: «Для чего церковь?» – уж не знаю, ответила или нет. Но еще ведь спрашивают: «Почему именно эта церковь, их ведь много?» Знаешь, я не очень хорошо во всем этом разбираюсь, я только знаю, что Истина одна, а заблуждений много. Я знаю, что никакой человек не вмещает эту Истину до конца и никакой до конца не понимает другого человека – вот отсюда и множество этих разных группировок, которые говорят о Боге и о человеке по-разному. Очень часто люди просто не хотят или не умеют понять друг друга, и порой одни из них не просто ошибаются, а всячески настаивают на своих ошибках. Ну как в семье бывает, сам знаешь, а в результате распад и вражда.
Я пришла в ту церковь, которая была ближе всего там, на земле. Даже не на Рогожское, как наши предки, – в обычный храм, новообрядческий, просто ближайший к дому. Он был не идеален, но и там я находила куда больше, чем я могла вместить. Зачем было мне искать другую? Когда положат перед голодным каравай свежего, ароматного хлеба с румяной корочкой, станет ли он спрашивать, почему именно такой хлеб ему дали и куда бы ему сходить, чтобы сравнить каравай с другими буханками и лепешками, так же ли они вкусны и сытны? Я знаю, что сама ничего не потеряла, отказавшись от поисков.
А здесь я встречала всяких людей, ты знаешь. Я же писала тебе даже про индейского колдуна – он вообще ничего не слышал ни о какой церкви, но он здесь. Здесь есть и те, кто искренне заблуждался на земле, кто учил других своим и чужим заблуждениям. Да, они сбились с пути, но многие дошли, сумели как-то выбраться к цели – очень большой ценой. А про остальных мне ничего не открыто.
Ладно, хватит, пожалуй, умных рассуждений. Я просто только что была при Надюшиной исповеди. Это трудно почти всем и почти всегда: в душе, как на стройплощадке, разворочено все, всюду грязь, ямы, груды кирпича. Так хочется все приукрасить или спрятать хотя бы, ну зачем чужим на это смотреть? Вот и говорят: «Мне не надо на исповедь, я могу покаяться напрямую, в любой момент». Только ведь замыливается глаз у человека, строительства на самом деле никакого уже нет, только забор высокий отгораживает разоренный участок. А внутреннее покаяние превращается в присказку: «ну, извини», да иной раз и с вызовом. Поверь, мне это знакомо. Хотя… вот написала и задумалась, что и перед аналоем бывает так: скинула груз грехов и сразу побежала его заново набирать. Но все же не так это ловко, как наедине с самим собой.
С батюшкой тоже, конечно, не всем везет, ну да не в нем дело, он – только свидетель. Бывает, что и советчик хороший, и даже проводник, но если и нет, не страшно.
А вообще это большое и серьезное искусство, расставаться со своими грехами. Надюша еще совсем юная, не по паспорту, а по опыту христианской жизни – у многих эта юность не проходит и до самой старости. Поэтому она пока что видит первый ряд – свои дурные поступки, и только немного – второй, то есть мысли и чувства. Ну вот поругалась, обидела мужа – это она понимает хорошо. Что относится к нему «не как должно» – тоже. Скажет в крайнем случае: «Ничего-то у меня не получается!» – как мне это знакомо!
Но глубже ей пока трудно копнуть, ей еще не заметно, да что я говорю – она еще не готова принять, что все это лишь симптомы, ей пока внутрь заглядывать страшно. И не будем ее торопить, это вызреть должно в человеке.
А сегодня вышло у нее на исповеди что-то необычное. Я как-то и не задумывалась, что бесы могут так активно присутствовать и в нашей церковной жизни – а с другой стороны, чего ж странного? Фашисты вон тоже столицы летали бомбить, а не маленькие деревни: где вреда будет больше, туда и направляют они главный удар, пусть даже и оборона там намного мощнее. Помнишь эти аэростаты? Ты же заскочил к нам в Москву в октябре 41-го, мы виделись с тобой на перроне Белорусского вокзала, как раз перед отправкой эшелона…
Ну вот и я была вроде того аэростата или прожектора – сама стервятников сбить не могла, а все же немного помешала. Ох и неприятное это ощущение – мрак, сгущающийся неподалеку от дорогого человека, безликий, бессмысленный мрак, сквозь который светят два живых сердца… Я всерьез тогда испугалась за нее и за того батюшку, что принимал у нее исповедь – я как-нибудь потом тебе о нем расскажу, если еще не утомила тебя своими церковными историями, тебе ведь это не очень, наверное, интересно.
Зато меч Максимыча ты бы оценил, товарищ командир. Тебе бы такой в полк, да? Мальчики-мальчишки, все-то бы вам в войну играть, все бы говорить о мечах и доспехах… Ладно, не буду дразниться. В общем, пришлось позвать его на помощь. Он сам удивился, как много было этой пакости вокруг, что это они так заинтересовались Наденькой? Вроде ничем она не выделяется из прочих.
Удар был нанесен, и, кажется, обоюдный. Исповедь состоялась – даже не слыша слов, я видела, что это была честная, глубокая исповедь, которая меняет человека, пусть не с одного разу, но меняет. И все же какие-то ошметки тьмы там остались… Если уж Максимыч не разогнал их одним ударом, то что же это было? Кажется, Миша, у Нади все будет всерьез.
Твоя Маша
9Знаешь, Мишенька, а я смогла теперь увидеть твою дорогу восемнадцатого года. Ты сам никогда о ней не рассказывал – мол, «болтался меж небом и землей», да и я не особенно расспрашивала. Было как-то не до того: едва вернувшись с Польской кампании, ты отправился в Туркестан, потом на Дальний Восток, мы общались только письмами, а в письмах такого не расскажешь. А позднее и говорить об этом становилось уже небезопасно – не то чтобы мы не доверяли друг другу, но это как сожженные фотографии из семейных альбомов: если этого лица не будет в твоем альбоме, этого эпизода в твоей памяти, то ты уже никогда и никому даже случайно не дашь его испачкать.
Как жаль, что тогда тебя не поняла и не приняла Лиза. Знаешь, она ведь тоже здесь, мы много говорим о тебе. Кажется, никто так не любил тебя на земле, как мы, две глупые девочки, хотя и была наша с ней любовь к тебе такой разной. Помнишь, я даже ревновала? А теперь… Идущие к Истоку Любви сближаются и забывают, что это такое – ревность, обиды, непонимание. Точнее, так: на смену «ну как же он меня не понял!» приходит «я только теперь начинаю его понимать».
Мы видели с ней, как ты среди прочих серых спин и холщовых мешков штурмовал вагон, как выменял добротную шинель на какую-то рваную тужурку, как прятал свою непролетарскую физиономию от патрулей. И все равно ведь не помогло… Ты не обидишься, если я скажу, что мы видели всю ту воронежскую сцену? Знаешь, ты смотрелся вполне достойно, и тебе действительно очень повезло с тем комиссаром. Запомнил ли ты его имя? Петер Озолин, латышский стрелок.
Все вроде ты придумал – рассказал красному патрулю не собственную историю, а историю унтера из своей роты, с которым почти год провоевал. Будто бы ты столяр из Замоскворечья, человек рабочий и едешь в Харьков к приятелю на заработки, потому что в Москве работы нет. Даже выговор у тебя был как у простого московского рабочего, и руки после двух лет фронта и одной московской зимы вовсе не офицерские. Да вот красногвардеец тот сам оказался столяром, задал пару вопросов «по специальности» – и все сразу стало ясно, и повели тебя на ближайший пустырь. Они ведь только для порядка решили тебя сначала комиссару показать.
А с комиссаром у вас был очень красивый разговор – даже трудно было такого ожидать. Вы и на германской воевали-то, как оказалось, не так уж и далеко друг от друга, и в чинах ходили одинаковых, и ты теперь уже не пытался от него свое прошлое скрыть. А разница теперь меж вами была в том, что Озолин точно знал, где оно, народное благо, а ты уже не был уверен ни в чем и только хотел найти такое место, где тебе не будет стыдно за себя самого и за все происходящее. Он ведь даже не пытался тебя склонить на сторону мировой революции, просто говорил о собственном выборе.
И в завершение разговора он выразил все так просто и ясно. Я уверена, что и ты помнишь эти слова, сказанные с легким акцентом: «Подпоручик, я понимаю, вы мало сочувствуете народной власти. Наши враги развязывают гражданскую войну, и каждый фронтовик может стать ее участником. Расстрелять вас было бы самое простое, но я не вижу в этом необходимости. Вы не враг трудового народа, я уверен, что вы рано или поздно примкнете к его рядам. Ваш фронтовой опыт был бы нам очень полезен в обучении красногвардейцев, но я сейчас даже не буду вербовать вас в Красную гвардию. На сей день я прошу вас дать мне честное слово, что никогда вы не будете участвовать в вооруженной борьбе с республикой Советов. Под этим условием я смогу отпустить вас, и здесь, в Воронеже, наверное, найдется место школьного учителя или другая работа, которую вы бы могли исполнять».
Ты тогда промолчал. А потом попросил папиросу, и он протянул тебе папиросу и спокойно, не торопя, ждал, пока ты ее докуришь. И тогда ты сказал: «Да, подпоручик, я даю вам слово, что никогда не подниму оружия против вашей власти, если она не поднимет его непосредственно против меня и членов моей семьи. Вас удовлетворит мое обещание?» А Озолин рассмеялся: «Вот и отлично, у нас нейтралитет!»
Может быть, именно этого своего решения ты стыдился в минуту смерти? Но я не вижу здесь ничего дурного, и знаешь, даже Лиза не увидела. Какой был другой вариант? Ответить ему «нет» и получить пулю? Кажется, ничего третьего тебе не предлагали. Или ты думаешь, что лучше было бы дать такое обещание, а потом все равно пробираться на юг, вступать в ряды добровольцев? Может быть, не стану спорить. Но ведь красные, белые – это названия цветов, условности, и если на деле не отличать подлость от чести, то уже нет разницы, по какую сторону фронта находиться. Мне кажется, тебе не в чем упрекать себя за тот выбор.
И вот ведь еще какая штука… Тогда все только начиналось, ты еще не знал, что из этого выйдет. Но мы с тобой чуть ли не с рождения чувствовали эту великую вину, вековую неправоту богатых перед бедными, перед простыми людьми. Помнишь, как давали у нас на Пасху серебряную монету дворнику Ахмету за поздравление, как дарили какой-нибудь цветастый платок Груне – а на столах у нас стояло заиндевелое французское шампанское, каждая бутылка ценой в пару дюжин, если не в сотню таких монеток и платков? Как за вечер съедалось и выпивалось больше, чем Груня и Ахмет зарабатывали за год? И никакими благотворительными подачками не унять было этого потаенного стыда.
Как радовался ты, уходя на фронт, что теперь, в окопах, ты будешь делить хлеб и опасность с этими самыми простыми мужиками, к единению с которыми призывала нас вся прогрессивная – да что прогрессивная, вообще вся русская литература. И ты верил, что в огне войны родится новое, демократическое единство, что отдашь ты своему народу не одну только монетку, а все силы свои и дарования. Оплаченное трудом этого народа воспитание, наконец… Станешь частью этого народа, растворишься в нем. Помнишь?
И вот тебе предложили это сделать. Разве мог ты отказаться? Что было там, на Дону, еще никто точно не знал, а здесь тебя звали учительствовать, рассказывать детям Грунь и Ахметов о вещах, которые до сих пор были им недоступны. И если и были хамство, вражда, угрозы – то разве не было это заслуженным, хотя бы отчасти, наказанием нам, сытым, благополучным, самодовольным? Пришло время платить по счетам. Я не знаю, точно ли так думал ты тогда, куря папиросу, но, Мишка, мы же росли вместе, мы же столько говорили об этом. Я на твоем месте точно думала бы именно так. И Лиза тоже это поняла.
Я только не знаю, отчего ты не попробовал тогда вернуться в Москву, отчего не попытался вызвать ее в Воронеж. Впрочем, в той круговерти какие могли быть переезды… И вообще это не моя история. Это вам с Лизой решать. Знаешь, она очень изменилась – тебе обязательно предстоит заново познакомиться с твоей первой женой. Честное слово, она понравится тебе не меньше, чем тогда, на елке 1915 года, но совсем, совсем по-другому. Она такая же глубокая, тонкая, воздушная – только нет уже былой наивности и вздорности, или почти совсем нет. Да и ты уже не тот восторженный мальчишка, и я не совсем та… Но ты знаешь, самое прекрасное в нас не просто сохранилось – оно расцвело, освободившись от нашей неумелости и зажатости, от глыб, наваленных темными сторонами нашей натуры. Да не просто расцвело – расцветает. Мы же растем здесь, Миша, и растем быстро, как тогда, в раннем детстве, когда чуть не каждый день был открытием, а летние штанишки и юбочки как-то вдруг стремительно усыхали за зиму. Знаешь, как это здорово, вот так расти – а ты спишь да спишь!
Что тебе снится? Может быть, все, что пришло в Воронеж потом? Уроки в нетопленой трудовой школе, когда тебе запрещали преподавать Пушкина как классово чуждого поэта? Карточки продовольственных пайков из серого рыхлого картона? Нахальные декреты на фонарных столбах и списки расстрелянных заложников? Ты держал свое слово, Миша, я не могу тебя ни в чем упрекать. Или военный комиссариат, поставивший тебя, «военспеца», в строй Красной армии? Тут ведь тоже не обошлось без рекомендации Озолина – он вспомнил о тебе, когда пошел этот призыв. И как хорошо оказалось, что ты не выписал к себе Лизу – ее могли бы взять в заложники, ты же знаешь, так делали с «семьями царских офицеров», чтобы муж не ленился драться с белыми. В тебе, правда, признали хорошего учителя – отправили не на фронт, а в школу командиров.
Или снится тебе озверение Гражданской – расстрелы, виселицы и шомпола, когда красной была кровь и белой была плоть тех и других, и уже одних от других было порой не отличить? Бегство из Воронежа перед наступающей Добровольческой армией, когда ты точно знал: белые тебя расстреляют как изменника, хотя им ты присяги не давал, а тех, кому ты ее давал, уже больше нет? Возвращение в этот город всего-то через две недели, когда ты жалел, ох как жалел, что не дошел-таки Деникин до Москвы, хоть бы и расстреляли… Нет, пусть лучше тебе приснится, как мы встретились в Столешниковом вновь, в 20-м, и я ревела, уткнувшись в сукно твоей шинели, а тебя снова ждал фронт… Почему вы все-таки так любите драться, мальчишки? Ладно, прости, не буду дразниться. Но ведь любите же, правда?
Слушай, я совсем заболталась, я же еще о Наде хотела рассказать. Вот, кстати… Я говорила тебе про это чувство неизбывной вины перед народом, какое было у нас. А ведь они от него свободны. Знаешь, у них даже наоборот теперь модно: ценно именно то, что отделяет тебя от простого народа. Это называется «эксклюзив», «вип» и как-то еще. Собственно, их коммерция во многом на том и основана, чтобы богачу показать всю его разность с бедняком. Не просто продают им нечто полезное и приятное, а такое, чтобы сразу был виден «статус». До революции у нас это тоже встречалось, конечно, в основном среди нуворишей, но так вести себя считалось совершеннейшим невежеством.
Я тут пыталась понаблюдать за работой моей девочки – ну ничегошеньки я не понимаю в этих делах!
Наши предки-купцы торговали товаром, который можно было пощупать, или оказывали ясные и простые услуги: например, дед Михей возил на своем пароходе товар и пассажиров. А теперь не очень даже понятно, что у них там происходит. Кажется, будто хотят одного: создать вокруг денежного человека мраморный забор, отделяющий его от бедняков. Пусть у него все будет даже хуже, безвкусней, неудобней – но зато без меры дорогой «эксклюзив». Может быть, потому, что сам он вырос в такой же бедноте? Так, наверное, и дед наш Михей, рожденный в крестьянской избе, в городском своем доме вешал бархатные портьеры, которыми пользоваться так и не научился до конца своих дней. А тут они ему и вовсе ни к чему.
Наверное, это естественно для земного человека, хотя мне очень уж непривычно. А вообще на фоне всего, о чем мы говорим, такими мелкими все эти бури кажутся… Только для Нади это же все равно очень серьезно. Ну вот поручили ей недавно делать один проект, как у них называется то эфемерное, что они продают. И сделать его можно по-разному… Можно в открытую использовать наработки людей из того же отдела и показать, что не она тут самая ценная сотрудница. Можно использовать, но при этом старательно замолчать их роль (и то еще не известно, выйдет ли). А можно пойти таким путем: начать всю работу практически с нуля, как будто ничего не было. Тогда и обмана не будет, и весь успех можно будет приписать себе. Но с точки зрения дела это будет глупо и неэффективно: зачем два раза делать одно и то же? Вот она и мучается, решает, словно ты, когда папиросу курил – а вопрос-то ничтожный, и ответ давно ясен. Надо только набраться решимости и ответить.
Ох, Мишка, каким никчемным наблюдателем кажусь я сама себе, когда вглядываюсь во все эти их тонкости! Во-первых, половины, даже больше, я просто не понимаю. А во-вторых, если честно, ну зачем я ей тут! Знает она сама, что такое хорошо и что такое плохо, не маленькая же, в самом деле. Знает прекрасно. Можно подумать, хранители стоят рядом с человеком и твердят как таблицу умножения: «Лгать нехорошо, воровать грешно, нужно быть честным человеком». Нет, на таких зануд они мало похожи. Тут бы подбросить человеку подсказку, может, чуточку самую подстраховать… Это как в хирургии: нетрудно отпиливать гангренозные ноги (я на такое в военных госпиталях насмотрелась), а вот тончайшие сосуды сшивают только великие мастера. Так и хранители. Да и то сказать: хранитель подскажет и покажет, а вот захочет ли сам человек увидеть…
Ты, может быть, не поверишь, но ведь ни хранителям, ни бесам нельзя вторгаться в пространство человеческой свободы. Уговаривать никого нельзя. Да что хранители, даже вестники, когда являются к людям, оставляют им возможность сказать «нет» и никогда не спорят. Быть святым не всякому по плечу.
Ну, а эти мелкие-мелкие повседневные выборы? Что я могу тут сделать? Особенно если и не тянет меня в это влезать, если кажется, что все это полная ерунда… Так что я, наверное, пока очень плохой наблюдатель. Но я буду учиться. И Максимыча обязательно попрошу меня хорошенько пропесочить, то есть объяснить, что тут от меня требуется. Жалко, тебя нет, Мишка, так, как ты, никто не умел объяснять мне простые вещи! Даже Максимыч.
Твоя Маша
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.