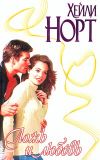Текст книги "История о трех пистолетах"

Автор книги: Андрей Ефремов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
А этот бандюга при фишках говорит, что у меня и в самом деле редкая удача. И бывает такая удача только у новичков. «Вы ведь новичок?»
Вот тут у меня терпение как будто лопается, я рву у коробки крышку, вытаскиваю оттуда деньги, сколько зацепилось (сколько надо, зацепилось!), и получаю фишки. Секи ситуацию – это уже другие деньги, а в голове у меня звон, потому что начинается другая игра. И про ту игру мы с Лилькой не договаривались, сколько она сказала, я давно уже отыграл. А теперь игра была моя, и не на деньги я играл, а на Лильку! И загадал я так: если приду к Лильке с этой коробкой денег, будет мне женой. Не из-за денег будет, а потому что у меня получилось.
Короче, я проигрываю первый раз, краснею, бледнею и кидаюсь взять еще фишек. Ставлю на красное (а хоть на полосатое – все равно проиграю) и начинаю мяться и жаться, потому что на нервной почве еще и не такое бывает. Где сортир, дамы и господа? Вежливый-вежливый детина ведет меня к нужной двери и дожидается, пока я выйду. И это правильно! Потому что при мне два кило денег, а публика у нас, сами понимаете. Я веду себя прилично, в сортире не засиживаюсь. Водой пошумел, вышел, узнал о проигрыше – ах, ах! хвать за сердце – и уже бежит детина купить мне фишки, а бандюга с фишками присылает мне рюмочку валокордину.
Очень хорошо. Но в сортире на окне – решетка, и я понимаю, что это привет от Лильки, потому что ребятки прошлый опыт учли. И я становлюсь спокойным, проигрываю еще раз и опять кидаюсь в заведение, а меня по пути утешают и говорят, что медвежья болезнь – это добрый признак. Я уединяюсь и быстро осматриваюсь. И мне начинает казаться, что убивать меня как раз будут и очень скоро, что бы Лилька ни говорила. Тут нервы мои не выдерживают, я высовываюсь и ору на детину и требую туалетной бумаги. Заодно убеждаюсь в том, что детина не один.
Пока он бегает в те места, где у них хранятся туалетные бумаги, я стою и смотрю по сторонам. Окно с решеткой, правая стена – кирпич, и тут ловить нечего. Но вот левая стена – это не более чем фикция. Причем за ней, несомненно, дамские удобства, звукоизоляции никакой.
Тут мне с извинениями приносят туалетную бумагу, я запираюсь и начинаю ждать. Наконец по соседству хлопает дверь, и я слышу, как в дамском стойле раздаются постукивания, а это может означать одно: в дело идет косметичка.
Тут я начинаю соображать быстро-быстро и правильно-правильно. Я понимаю, что я не Спиноза, что слабых мест у моего интеллекта куда больше, чем сильных, но все-таки вспоминаю, что дверь к дамочкам устроена так, что из зала не увидишь, кто туда пошел. Я еще не понимаю, в чем дело, но держусь за эту мысль, как в три года за папин палец. Держусь не зря, потому что вспоминаю еще и то, что к женской уборной можно подойти и с другой стороны. Сортирный коридорчик изгибается, как норка, и черт его знает куда уходит. Совершенно не понимаю, зачем мне это нужно, но вдруг ощущаю такую бодрость, что впору идти к рулетке и отыгрывать все обратно. Но это – обман. Спускаю воду и думаю под шум потока. И вот тут в дамском стойле щелкает задвижка. Значит, дверь открывалась, и кто-то вошел. Кто-то вошел, а я не слышал. Значит, входил осторожно. Значит, не нужно кому-то, чтоб кого-то там видели. И совершенно отчетливо слышу звуки поцелуев и постанывания. Пора присоединяться! Тут я распускаю ремень на брюках, прижимаю к себе коробку и со всего маху бьюсь в перегородку. Пробиваю стенку и с рожей, вдребезги разбитой, вламываюсь к соседям. Краем глаза вижу, что приступить они не успели, ору как резаный, падаю на унитаз – что-то бьется – вскакиваю и кидаюсь через пролом обратно. Трясу башкой, кровь летит во все стороны, мои детины срывают дверь и вламываются. Я – в крови, перегородка проломана, кавалер бежит. Коробки у меня нет! Где? Где? Там! Там! Показываю пальцем в женский сортир.
Один детина кидается в погоню, другой без церемоний обыскивает меня стремительно и подробно, и штаны у меня сваливаются совсем. Потом он переходит к соседям и обшаривает полумертвую даму. Теперь и он убегает. Левой рукой я держу брюки и перебираюсь в дамское отделение. Я беру трясущуюся дамочку, сажаю на очко, вытаскиваю из бачка свои размокшие деньги (такой прыти я не показывал больше никогда в жизни) и леплю их на нее под платьем. С тех пор я не встречал таких удобных фасонов. Теперь дамочка истекает водой из купюр и той кровью, которой я на нее накапал. Я ей говорю два слова: «Замри! Поделюсь!» Сообщница обмякает, я выношу ее в зал и кладу на ихний шикарный стол. Значит, вода с нее течет, кровь с нее струится, и нас оттуда просят. Я перехожу к загородочке, где сидит бандюга с фишками, и истерически требую, чтобы деньги отдали, а раны перевязали. Бандюга спрашивает:
– А что это с нее течет?
– Отец, – говорю я, – она же испугалась.
Бандюга шипит и вызывает «скорую». Дамочку я кладу на пол, а сам начинаю вымогать деньги на бинты и аспирин у бандюги при фишках. Дамочка подыгрывает и издает такие звуки, будто заблюет им сейчас все интерьеры. Короче, нам подают милостыньку и велят проваливать пока целы.
«Скорой» мы дожидаемся на улице, проезжаем несколько кварталов и благополучно расстаемся с медиками. Я мог бы рассказать, как отлеплял с нее деньги, но оставим эту новеллу на печальную старость.
– Отец, – сказал коммерсант укоризненно, – к старости ты все забудешь. – Но Иванушка на его слова внимания не обратил. Он возвел очи к тоскливому электрическому сиянию и сказал, что история эта, если разобраться, нисколько не способна взволновать.
– Клянусь тебе, – сказал он, – хотя в таких местах клясться глупо. Так вот, я тебе все равно клянусь! Я отлеплял с нее деньги у Лильки. Лилька сновала туда и сюда, и уже плевать ей было, что она хромает. Приносила нам чай, полотенце, потом собирала и считала деньги. Так вот Лильке было наплевать! И мне было наплевать. Я даже не запомнил, какая она была под платьем, я обирал с нее деньги (кое-где купюры прилипли намертво), а сам смотрел, как Лилька ковыляет. Ксения (ее зовут Ксения), уж на что барышня тертая, и то сказала, что мы на людей не похожи. Мне было все равно, на что я похож, а Лилька очень вдруг этим заинтересовалась. Она перестала считать деньги, принесла огромную бутыль мартини, выдала Ксении свежее белье взамен изгаженного и стала расспрашивать, как у меня все получилось. Тут-то и оказалось, что Ксения все видит и все помнит, а ее полуобморочные состояния – это обычные маневры.
– Запомни, – сказала она Лиле, – тех, кто без сознания, реже бьют.
Короче, из ее рассказа вышло, что я был парень что надо. «Ты бы, Лилька, видела, как он меня купюрами облеплял. Я сижу на очке, сама как будто в отключке. Я думала, он… ты ж понимаешь. А потом смотрю – а он уже мне все надел, застегнул, схватил и понес. Классно!»
Мы рассчитались с Ксенией, Лиля выдала ей подходящее платье. По-моему, это было платье одной из девушек, которые меня встречали. Кстати, их я больше не видел, а вот Ксения осталась с нами. Тогда мне показалось, что Лиля чем-то недовольна, и я подумал, она опасается, что нас разыщут. Она! Опасается! Да у нее нет инстинкта самосохранения. У нее вообще человеческих инстинктов нету! Она засланная! А что она про людей знает, так это потому, что девочка наблюдательная. И вот теперь у нее в мозгу занозой сидела мысль о том, что я в своем набеге на казино добыл денег больше, чем она ценой простреленной ноги. Тогда и началось наше состязание, долбаная гонка, бег с препятствиями. Если бы у меня мозги шевелились чуть быстрее! Если бы я это понял тогда же…
Прошла неделя, потом вторая… Теперь я думаю, что это был медовый месяц. Реально медовый. Однажды мы лежали с ней рядышком на каком-то удивительно мохнатом ковре (ковер мы потом продали), и от Лильки шло такое тепло, что я по сей день думаю: что-то в ней человеческое есть… Так вот, мы лежали, и я вдруг сообразил, что ничего про нее не знаю. Это было страшно интересно. Невесомая, пушистая Лилькина голова лежала у меня на плече, и я ждал, когда она проснется. Наконец моя возлюбленная пошевелилась, и я принялся спрашивать. Я набросился на нее со своими вопросами, как голодный на пайку. И вот удивительно: она говорила обо всем, о чем бы я ни спросил. А прикольно оказалось, что мы с ней учимся в одном институте да еще и на одной специальности. Я спросил ее: «Где ж ты раньше была?» – «То там, то тут». – ответила она. Потом Лилька сказала:
– Институт бросать нельзя.
На этом обсуждение нашей будущности закончилось. Конкретная жизнь началась.
Однажды утром Лилька вышла из душа и сказала:
– Д. Т. Р.
– Господи помилуй! – ответил я.
– Деньги требуют работы, – объяснила Лиля. Она принесла нашу коробку с капиталами и объяснила, что такую прорву денег проедать нельзя. С того дня наши денежки взяли нас в оборот.
Деньги текли сквозь город. Непостижимое чутье выводило Лилю к денежным ручейкам и рекам. Она дожидалась подходящего момента и кидала наши бабки в эти омуты. Деньги плавали среди куриных ляжек, собачьего корма, кроссовок «Adidas», которые выделывали где-то не то в Колпино, не то в Гатчине, исправно обрастали прибылью и возвращались. Я научился давать взятки, запомнил тридцать слов по-азербайджански и нюхом узнавал фальшивые баксы. Некоторое время Лилю это забавляло.
– Слушай, Ванька-карбонарий, – сказала она однажды, разглядывая наличность, – в деньгах должен быть смысл. Ты знаешь, что я решила? Я накоплю денег, чтобы купить Аляску обратно. Только не говори мне, что америкосы ее не продадут. Не расстраивай меня!
За полгода вдохновленная Аляской Лиля срубила столько денег, что я стал бояться, как бы нас не укокошили. Но однажды вечером она подвела итог, выписала мне премию и сказала, что Аляска ей разонравилась.
– Нет в Аляске драйва! Не прет меня от нее.
– Тогда давай поженимся.
– Вот еще, мерзость какая!
– Конкретная баба, – сказал коммерсант. – Не фуфло какое-нибудь. У тебя фотка есть?
Перстницкий отвечать не стал, и в камере на некоторое время воцарилось молчание.
– И каждый раз, – заговорил он наконец, – я еще только подумаю про женитьбу, а она уже обиделась.
– Значит, если я зарабатываю на куриных ляжках, со мной можно как угодно, так?
Я ведь так ни хрена и не понял – ну что ужасного в женитьбе? А, плевать! И тогда было плевать и сейчас. Я только никак не мог понять, любит она меня или нет? Она этого слова не переносила, она его выговорить не могла. Но кроме меня у нее никого не было. Это точно. И потом, у меня все меньше времени оставалось на сомнения. Лилька кидалась из стороны в сторону, а я едва поспевал за ней. С деньгами, которые проходили через ее руки, творились чудеса. Они размножались, как мухи на дерьме. Вздумай она торговать презервативами «сэконд хэнд», у нее и тут было бы все о’кей.
Коммерсант Геннадий поерзал на нарах и спросил, нет ли у Иванушкиной подруги обыкновения ходить круглый год в темных очках? «А на мизинце у нее такое типа плетеное кольцо? Реальное такое кольцо».
– Вот вам, – сказал Иванушка, – ночь накануне бабского праздника. Уж ты говори. Уж ты все говори. Обстановка располагает.
Коммерсант сказал, что ему на обстановку плевать.
– Я тебе это в любой обстановке… Меня баба твоя так обула, что я ее удавить хотел, потом передумал, пошел на Фонтанку топиться. Я тяжелый, сразу бы утонул.
Наркоман подполз и захихикал.
– А чего не утонул? Воздуха в брюхе много?
Геннадий плюнул и смолчал.
– Да, – сказал Перстницкий, – так оно и должно быть. Так у всех и бывает. Но Лильке этого было мало. Ей все какие-то особенные деньги чудились, такие, каких никто кроме нее не заработает. Полгода убила она на то, чтобы запустить торговлю целебным морским бризом. Мы устроились на берегу Финского залива и при ветре с моря закачивали воздух в кругленькие бомбочки и продавали их в бары и казино. Мы продавали воздух, мы получали деньги за воздух, и Лильке это было по кайфу. Потом на нас подали в суд латыши. Они придумали, что мы при юго-западном ветре сосем на халяву воздух из Юрмалы. Сначала мы решили, что это такая шутка, но с чувством юмора у латышских стрелков имеются затруднения. И мы плюнули и на воздух, и на них. Еще полгода ухлопали мы на издательство. То должно было быть особенное издательство. Лилька придумала издавать самые ужасные книги. Такие книги, хуже которых не было, нет и не будет. Я не специалист, пацаны, но Лилька попала в самую точку. Это же кайф – узнать, что где-то живет чел, по сравнению с которым ты – мудрец, гений, супермозг. Через газету Лилька объявила конкурс. Она честно сказала, что напечатает три самых херовых романа. Мы опять прокололись! Из трех романов два написали члены союза писателей. Нас тут же обвинили в скотоложстве, измене отечественной культуре и в уклонении от налогов. «Будьте вы прокляты!» – сказала Лиля, и я с ней был согласен. А эти двое писателей до сих пор к нам в гости ходят. Прикольно!
Но вот настал один прекрасный день, мы открыли глаза, и я вдруг понял, что Лиля никуда не собирается бежать. Дела текли сами собой, как Нева. Лилька медленно, не просыпаясь, распоряжалась по телефону, и дня через три я рискнул сделать ей предложение еще раз. Она не услышала, пацаны! Я подумал, что сейчас начнется гонка, но нет – мы как белые люди отправились в Эрмитаж и ходили туда неделю ежедневно. Из Эрмитажа мы перешли в Русский и. как на службу, ходили туда десять дней. Мы обошли все помещения Петербурга, где хранилось хотя бы что-то нарисованное. В иных местах Лильку встречали как старую знакомую, и это было предзнаменование. Хотя плевать мне было на все предзнаменования. Я согласился бы таскаться по этим хранилищам еще год, потому что день ото дня Лилька становилась тише и ласковей. Я даже начал верить в неодолимую силу искусства. Но в какой-то периферийной извилине, как маленькая пиявочка, сидела мысль о том, что все это неспроста и что перемирие наше ненадолго.
На этом месте Иванушка сделал паузу, и мне показалось, он колеблется, не знает, говорить ли дальше. Но несказанное, вероятно, томило его не меньше, чем нас наше любопытство. Войди в ту минуту мент, объяви он нам волю – не знаю, кинулись бы мы к дверям или остались бы дослушивать Ивановы речи.
Однако ж мент не явился, а Иван заговорил.
– Однажды под вечер моя ненаглядная объявила мне, что все эти наши погружения в мир прекрасного были не забавой и не причудой, а новой стези ее началом, блин! «Ванька, – сказала она, – ты даже не представляешь…» Тут она умолкла, словно бы спохватившись, но я уже не отставал, и вот что через полчаса выяснилось. Наши хождения по выставкам и хранилищам были ничем иным, как пристрелкой. Это слово Лилька сказала сама, и можно не сомневаться, сказала то, что хотела. Теперь она была уверена, что узнает руку настоящего мастера в любой мазне.
– Ванька, – сказала она, – я окучу всех стоящих художников этого города. Они еще и знать не будут, кто они, а я уже буду тут как тут. Я буду закатывать глазки, я буду носить им водку и каждому я буду хвалить его и ругать остальных. Все они будут у меня вот тут! – Лиля показала мне свой кулачок с коготками и несколько раз его сжала, словно показывая, как она будет уминать в нем будущих знаменитостей. – Век они меня не забудут!
Тогда я впервые заспорил с ней. Странно, я всегда хотел того же, чего хотела она. Но тут я испугался, только не мог понять, чего. Я что-то понес насчет образования и опыта, но Лилька аккуратно прикрыла мне рот ладошкой и объяснила, что опыта она уже набралась («вместе же ходили картинки смотреть, миленький, а у меня глаз цепкий»), а что касается образования, то это и вообще херня.
– Ванька, образование – одно надувательство. Что я знаю, то я знаю. А что не знаю – то ноздрей поймаю. А как это называется – мне знать совсем необязательно. Но ты, Ванька, запомни: куриные ляжки – это святое!
С того дня я занялся добыванием денег, а Лиля кружила по городу и искала следы неизвестного мастера, на котором предполагался наш въезд в хрустальные галереи грядущего. Два или три раза в неделю она появлялась рядом со мной среди съестных припасов, и этого хватало, чтобы дела шли не запинаясь.
Как-то раз она пришла в субботу, чего прежде не бывало, зашла в мою конуру и уселась на мешок с сахаром.
– Вот что, Перстницкий, – сказала она, – мне страшно. Хотя, может быть, я просто волнуюсь. Плюнь на все, пойдем со мной. Кажется, есть.
В тот день мне не следовало уходить, но я заглянул ей в глаза, посадил на свое место хитрого восточного человека Самандарова и ушел с ней.
Встреча у нее была назначена на канале Грибоедова у дома Зощенко. Минут через пять пришла дама замечательной красоты, но сильно утомленная. Дама была в серебре. Она вскидывала руки, и серебро полегче шуршало, то, что потяжелее – звенело.
– Магда, – сказала дама, оглядев меня. И мы пошли в мастерскую. По дороге выяснилось, что Магда не художница, а жена художника. И вот теперь вынуждена распродавать его работы. Я спросил, не будет ли возражать художник. Магда поиграла серебром и ответила, что, во-первых, Валерий в отъезде, во-вторых, деньги нужны именно ему, а в третьих:
– Он мне доверяет всецело.
В мастерской Магда налила каждому по стаканчику водки, и мы принялись расхаживать туда и сюда. Смотреть картинки и попивать водку. Честно скажу, я думал про хитрого восточного человека Самандарова и потому прозевал момент, когда Магда с Лилей исчезли. То есть не исчезли, а стояли себе в темноватом тупичке и что-то рассматривали на стенке. Какую-то картинку. Я нажал на выключатель, и Магда сказала:
– Я вас умоляю.
И Лиля закивала и сказала, что акварель не любит света. Но я решил, что спешить не стоит, и подошел полюбоваться вместе с ними. Картинка висела среди других картинок, и все они вместе были такие разные, как будто их рисовали разные художники. Я хотел это сказать, чтобы не выглядеть столбом бессловесным, но Лиля была так строга и сосредоточена, что я просто не решился. Потом мы все вернулись к столику, и Магда налила еще по стаканчику.
– У меня нет слов! – сказала Лиля. – Но почему только одна? И почему они все непохожи?
– Законы творчества непостижимы, – объяснила Магда, разглядывая водку у себя в стаканчике. – Вы обратили внимание, как стара эта бумага? Валерию подарили ветхие гербарии. Тычинки и пестики к чертовой матери рассыпались, а бумага осталась. Он стряхнул этот овес, перевернул лист, а там дата – 1835. Как вы догадываетесь, в это время еще здравствовал Пушкин. Как только до Валерочки это дошло, у него сделались творческие корчи, и вот – пожалуйста.
– Мы договорились, – сказала Лилька пересохшим шепотом. – Это мой телефон. Я надеюсь увидеться с автором.
– Вы дерзновенно смелы, – сказала Магда и почему-то перекрестилась. – Впрочем, раз вы настаиваете, Валере я карточку передам.
Лиля отдала Магде деньги, мы уложили картинку в специально взятую картонную коробочку и ушли.
Дома Лилька поставила картинку на стол, села напротив и, не шелохнувшись, просидела минут сорок. Мне позарез надо было звонить Самандарову, но даже если бы моего звонка ждал президент, я не посмел бы потревожить Лильку. Когда через полчаса я вошел, она оторвалась от акварели и обернулась мне навстречу. Она улыбалась и плакала.
– Ванька, – сказала она, – я угадала.
Через две недели среди ночи зазвонил телефон. Я схватил трубку, и жирный мужской голос обложил меня матом. Я бросил трубку, но телефон зазвонил снова. Тот же голос проговорил с изумлением:
– Что же вы трубку бросаете? Мне нужно поговорить с вами.
Я растерялся и извинился. Жирный голос снова заговорил матом. Тогда я сказал, что он ошибся номером.
– Дулю вам! – сказал жирный голос. – А кого у нас сифоном убило? Шучу! Шучу! У меня в руках карточка, и я ничего не путаю. Но вот что – стерва Магда договаривалась с девчонкой. А ты – мальчик. Так передай же трубку.
Я сказал, что Лилька спит, но в трубке расхохотались.
– Буди, – сказал жирный голос, – сейчас я приеду.
Он приехал через два часа, когда Лилька успела заснуть еще раз.
– Валерий Викторович, – представился он. У Валерия Викторовича были остроконечные рыжие усы, и с ним приехала девушка. Девушку звали Альбина. Гость наш красиво уселся в кресло, достал две сигары. Толстую раскурил сам, тоненькую дал Альбине. Черт побери! Видел бы Самандаров!
– К делу, друзья, – сказал Валерий Викторович. Он достал из сумки бутылку виски, мы выпили, и все разъяснилось.
– Вот так-то, – сказал наш ночной гость, – и не имела она никакого права. А все права теперь будут у Альбинки. – Он наложил ладонь на Альбинину талию и шевельнул пальцами, словно собирался эту талию подправить. То ли ему убавить хотелось, то ли наоборот. Тем временем Лиля проснулась. Она отпила виски, смочила пальцы в рюмке и растерла виски.
– Магда – ваша жена, – сказала она.
– На это можно посмотреть двояко, – сказал Валерий Викторович. – Если вас интересует моя точка зрения…
– Я ни о чем не спрашиваю, – сказала Лиля. – Я говорю о том, что у Магды в паспорте стоит штамп.
Валерий Викторович выпил виски и пососал сигару. Потом он посадил Альбину себе на колени и сказал, что это шантаж. И что раз так, он берется утверждать, что картинка была похищена.
– Ванька, – сказала Лиля, – не в службу, а в дружбу…
Я принес расписку с подписью Магды. Художник прочел ее и перестал тискать талию своей подруги.
– Стерва! – сказал он с удовлетворением. – Стерва от головы до пят и всегда стервой была. – Тут он еще выпил и вдруг поник, начал хватать себя за лицо, мне показалось даже, что он успел подхватить некстати выкатившуюся слезинку.
– Не надо, что вы, – сказала Лиля. – Ваше мастерство… Ваше нынешнее мастерство… Оно же всегда с вами. А я буду платить. Вам не на что будет обижаться!
– Ага, – сказал художник. – Угу. А картинку вы выбрали сами? Ну да, ну да. А висела она в темном углу? Знаете, у вас есть глаз.
Если бы Лилька не была так заспана, она бы замурлыкала.
– Руку мастера, – сказала она, – трудно не увидеть. Вы поднялись на новую ступень.
Я подумал, что она хватает через край и покосился на художника. Тот спокойно налил еще виски, обмакнул сплющенный зубами кончик сигары в рюмку, пососал его и медленно выпил виски. Потом он потрогал усы и сказал так спокойно, что до меня не сразу дошло:
– Идиотка! – сказал он, наведя на Лильку сигару. – Ты выбрала самое лучшее, что было у меня в мастерской. Ты решила, что можешь раскрутить меня. – Тут он снова впился в сигару, выпустил облако дыма и сказал почти шепотом:
– Ты – безмозглая идиотка! Понимаешь ли ты, что это Сомов? Это его оригинал к «Книге маркизы». Ты о такой книге не слышала, ты ее в руках не держала! Говоришь, я поднялся на новую ступень? Так вот учти, никто и никогда не унижал меня так жестоко! Да, девочка, у тебя есть глаз. – И вот тут он заорал: «Но я бы выбил тебе его!»
Тут он схватил бутылку, но безмолвная Альбина схватила бутылку тоже. Она, видно, знала своего Валерия Викторовича и держала его крепко. Лилька сидела белая как стена, а я не мог решить, что мне делать. Разнимать наших гостей не следовало. Начни я их разнимать, непременно бы мы с художником подрались. Но и ждать, пока они закончат свое единоборство, тоже было глупо. Вот я и смотрел, вот я и думал, что мне делать. И тут с умыслом или без умысла Альбина вывернула бутылку с виски так, что на Валерия Викторовича полилось. Он взвизгнул и вскочил совершенно по-кошачьи. Благородный ирландский самогон темным ужасным пятном расползся по брюкам.
– Молодой человек, – сказал Валерий Викторович, – я чувствую себя ужасно. Дайте мне какое-нибудь рядно, я прикрою чресла. Я ужасно себя чувствую.
Я принес ему три махровых полотенца, он выбрал черное и ловко им обернулся.
– Полно грустить! – сказал он Лильке. – В конце концов вы действительно выбрали лучшее, что у меня было. У вас действительно есть глаз, Лиля. Кроме того, я полагаю, что вы не собираетесь возвращать мне свое приобретение.
От этих слов у Лильки сразу исправилось настроение, и я-то понял, в чем тут дело. Когда выясняется, что на тебя орал и ругался круглый дурак, на душе становится легче. А ведь нужно быть круглым дураком, чтобы требовать назад оплаченную вещь. Для нас с Лилькой это было ясней ясного. Я и не смотрел на нее, а знал, что больше она не сидит как мертвая. Все, дорогой художник, мы тебе цену знаем! Да, вот еще что: по-моему, Валерий Викторович тоже увидел, как ожило Лилькино лицо. Увидел, черт усатый, и понял, что держим мы его за пацана. Он свою Альбину еще гладил и трогал по-всякому, а глаза у гостя были как у Самандарова, когда у того брата насмерть забили. Блин горелый! Почему я забыл про это? А потому забыл, что Лилька развеселилась. Когда она улыбается, со мной делается что-то необыкновенное. Пацаны, мужикам так нельзя! Я просыпаюсь утром и думаю: а что она скажет мне, когда проснется, а какое настроение будет у Лильки? Я отдавал бы по одному дню своей жизни за каждое хорошее утро. Только эти мои дни никому не нужны.
– Эх ты, мудило-крокодило, – сказал наркоман, – в каждом дне – свой кайф. Боженька тебе твоих кайфов нарезал, и лопай. У каждого свой прикол. А твой никому не в кайф.
И тут за дверью камеры началась возня, потом послышались удары, и некоторое время продолжался неравный бой. Мы примолкли в ожидании развязки, и я вдруг понял, что все четверо опасаются одного. Опасаются того, что сейчас распахнется дверь и к нам впихнут пятого. Да, черт дери, для всех нас это вонючее пространство заключало в себе жизнь Ивана Перстницкого! Жизнь, которую он, повинуясь неодолимой скорби (я был убежден, что именно скорбь была причиной его откровенности), разворачивал перед нами, как будто бы сотворяя ее заново из наших взглядов, вздохов, почесываний, неуместных замечаний, глупых подначек и скверной электрической мути, которая взамен света наполняла камеру. Да, мы были соучастниками этой проживаемой наскоро жизни, каждый складывал Ивану свое бытие.
Впихнуть сюда еще кого-то значило разбить эти четыре мира вдребезги. Даже у погруженного в свой рассказ Иванушки искривились в досаде губы. Но и удары, и сдавленный мат сдвинулись куда-то, и мы остались в тишине и удушливом электрическом сиянии.
– Да! – сказал Перстницкий с силой. – Мы успокоились. Мы выпили виски, и художник сказал, что Сомова он лишился поделом, что Магду нужно было гнать в три шеи давным-давно и что поделом вору и мука.
– Но, господа, – сказал он, – будьте снисходительны к побежденному. – Он выбрался из кресла, захватил щепотью край махрового полотенца и поклонился Лиле. Он был шут, и его нужно было гнать.
– Не будем подсчитывать, на сколько вы меня наказали. Добыча – ваша. Однако прошу об утешении.
Утешить Валерия Викторовича оказалось просто. Он пожелал написать наш с Лилькой портрет. «Портрэт» – так он говорил.
– Три сеанса по часу. Вы красивые ребята. Мы с Альбинкой будем развлекать вас. Лилечка, голубчик, в вас так замечательно играет капелька тюркской крови, что мне просто неймется.
Лильке понравилось про тюркскую кровь. Я посмотрел на нее и тоже согласился.
Мы трижды приехали к нему поздним вечером, и трижды он потратил на нас по часу. Именно потратил. Стоило пикнуть будильнику, он откладывал кисти и провожал нас до дверей. Он вел себя как человек, которому возвращают по частям давний долг. О развлечениях, которые он сулил, не заходило и речи. Один только раз весь сеанс рядом с ним просидела Альбина. Пока она сидела рядом с Валерием Викторовичем, он каждые десять минут бросал кисть и принимался целовать ее. Да и бог бы с ним! И подумаешь. А то мы не видали, как целуются. Но вот была, блин, в этом какая-то фигня. Вот видно было, что по фиг ему, что нас рисовать, что ее целовать. Нет, не так! Он ее целовал, чтобы нас, типа, нарисовать. У него без этого чего-то там клинило. Вот!
Только когда мы с Лилькой зашевелились, он так прикрикнул, что мы уж больше и не дергались.
Три сеанса прошли, и я, честно говоря, стал забывать Валерия Викторовича. Я крутил наш денежный барабан, а Лиля приходила в себя. Она бы ни за что не созналась в этом, но история, в которую ее впутала Магда, отравила Лильку. Тому, кто все время играет, нужен выигрыш. Она выиграла со своими бутылками на баррикаде, но только потому, что появился я; она выиграла в казино, и хоть ей прострелили ногу, это был настоящий выигрыш. Но я переиграл ее! И ей от этого не было покоя. Она не понимала, что весь я со всеми своими выигрышами сижу у нее в кулаке. В ее стриженую башку не входило, что все деньги, которые я добывал, я добывал только потому, что они были нужны ей. Она думать не думала, что стоит ей в одно прекрасное утро встать с левой ноги, приказать мне, и я поеду воевать на Кавказ. Заплачу, а поеду. Хрень! Хрень! Хрень какая-то! С той самой ночи, как я ее увидел, с той гребаной ночи, когда между нами горел бензин, во мне не осталось ничего моего. Весь я давно стал ею. И вот себя она все время старалась победить. Я думаю, мы бы давно поженились, если бы я раньше это понял и поддался.
Коммерсант Геннадий спросил:
– Ты ей не пробовал морду бить?
К моему удивлению Иванушка не послал его подальше, а задумался.
– Не тот случай, – сказал он наконец. – Она бы и тут устроила состязание, а на фиг мне это нужно? Короче, прошла неделя, потом еще одна, и Лилька стала оживать. Скажу прямо, я боялся, что ее понесет к художникам. Не понесло. Знал бы я, чего бояться. Один знакомый чел говорил: «Всю жизнь боишься сифилиса, а бояться нужно инфаркта». Тому чуваку повезло, все у него так и вышло. Нужно ли говорить, что у нас все было иначе. В общем, мы живем, цветем и пахнем, и я уже начинаю думать, что пронесло. Хотя что пронесло, куда пронесло и зачем пронесло – об этом я стараюсь не думать. Тонкости торговли куриными ногами – вот что помогает в таких случаях. Мы с Самандаровым ведем куриный бизнес, я же кроме этого имею в виду коварство Самандарова. Все вместе очень хорошо оттягивает.
Но вот в один прекрасный день я прихожу домой и обнаруживаю Лильку, рыдающую так, словно у нее разом умерли все родные. Она сидит на полу между креслами, колотит ногами в пол, захлебывается и ничего толком сказать не может. Я ее хватаю и пытаюсь переложить на диван, потому что вокруг нее на полу осколки стекла, и не хватало нам еще ранений. Лиля, однако, начинает вырываться, бьет меня по чему ни попадя и даже рычит. Тут я начинаю понимать, что у нас никто не умер и что события развиваются именно в направлении жизни.
Мы все-таки оказываемся на диване, я Лилечку обнимаю и держу изо всех сил.
Минут через двадцать она начинает подвывать, потом икать, как ребеночек обревевшийся, потом засыпает ровно на три минуты. Проснувшись, Лиля высвобождается у меня из рук и приносит газету. В газете фотка нашего Валерия Викторовича и дурацкое его интервью. Но прикол-то весь в том, что этот козел сфотографирован около своей картины («новое нонконформистское полотно известного маэстро»), а на картине – мы с Лилькой трахаемся без зазрения совести. У Лильки лицо стало деревянное. Она говорит: «Читай». И вот я читаю, а она дрожит, так дрожит, будто по ней ток пустили.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.