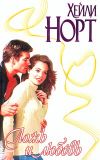Текст книги "История о трех пистолетах"

Автор книги: Андрей Ефремов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
«Что же означает, маэстро, такой поворот в вашем творчестве?»
«Помилуйте, нет никакого поворота! В советские времена я писал доярок и сталеваров, ну, иногда физиков каких-нибудь. Героев эпохи. Эпоха теперь другая, герои другие, а я их по-прежнему рисую».
«Не просматривается ли здесь замысел целого проекта?»
– Хватит, – сказала Лилька.
Тут я увидел, что наркоман ползет к Иванушке по нарам, и заторопился. Мне все казалось, что девиантное это существо вот-вот задаст такой вопрос, что все наше сидение обернется дурацким непотребством. У меня вообще мало веры в людей.
– Иван, – сказал я поспешно, – уж вы простите, но как-то не верится, чтобы из-за этой картины и такая истерика. Нет, я не хочу сказать, что для вашей подруги нет вопроса, что такое хорошо и что такое плохо Вы поймите меня. Но, как бы это сказать… Ну нарисовал он вас, ну изобразил, так ведь Лиле же не в депутаты пробиваться. Ну что ей все это? И откуда чувствительность такая? Тут перебор, тут явный перебор! – Я даже загорячился, потому что и в самом деле – бизнес-леди, которую сиянием собственного тела можно привести в такое исступление, это, знаете, абсурд, нонсенс, сон верблюда. То есть я так думаю. Наркоман, кстати, после моего вопроса пополз обратно. Значит, и в его облачной голове что-то такое завертелось. Но вот Геннадий посмотрел на нас с сожалением.
– Эх, пацаны, – молвил Иван. – Лилька на себя, на голую, даже мне смотреть не разрешает. А этот мазила… он же ее у нее и украл. Это, пацаны, понимать надо. Хотя от одного от этого она бы так не колотилась… Тут вот что: берем куриные ноги, или клюкву из Карелии, или человека, нужного человека – и зарабатываем на этом. К куриным ногам – один подход, к клюкве – другой, к нужному человеку – опять другой. И все играет и поет. И, между прочим, приносит бабки. А если что-то поет не так, как надо, значит, оно нам не надо. И вся наука.
И вдруг оказывается, что это оно само решает, что ему надо и что – не надо. И хрен ты от него избавишься. А Лилька уже всех построила, и каждый у нее стоит на своей клетке и по-своему называется. А тут что – бунт на корабле! революция! Ты себе представь, академик всю жизнь Павлов мучает собак, и вдруг выясняется, что не он за ними, а они за ним наблюдают. Свихнуться можно.
Когда Лилька успокоилась, она вспомнила свое недоеденное высшее образование и сказала:
– Это, Ванька, флуктуация. А раз это флуктуация, ты ее победишь. А если ты ее не победишь, мне – кранты.
– Все-таки я с веником клёво придумал, – сказал коммерсант Геннадий, а больше не сказал ничего, хоть мы и подождали немного. Вот забавно: Иван Перстницкий тоже смотрел на коммерсанта с Сенной как будто бы с надеждой. Но не получилось обмена опытом. Тогда и Иван замолчал и молчал довольно долго.
– Ну, ладно, – сказал он наконец, – говорить – так все. А то получается: солнышко светило, а подштанники хоть выжимай. Короче, Лилька тогда в психушку загремела. Ненадолго, и ничего с ней особенного не было, а только я испугался. Я так испугался, что решил Валерия Викторовича убить. Признаюсь без колебаний, потому что маэстро наш сегодня живее всех живых, а самое прикольное, что он за меня будет горой стоять. – Тут Иван всхлипнул и страшным, переломанным голосом сказал:
– Не приведи вам Господь, пацаны, увидеть свою женщину, как я Лильку видел. И я тогда поклялся, что будет наш живописец мучиться и не просто мучиться, а будет знать, за что мучается. Так я решил.
Ну и решил, ну и ладно. Торгуем потихоньку. Самандаров в Питер семью привез, совсем от них проходу не стало. Но торгуем! Я же начинаю подбираться к Валерию Викторовичу. Я к нему типа подкрадываюсь, и это очень удобно, потому что пока мы с Самандаровым торгуем, художник спит, а как он потом жить берется, тут уж я всегда поблизости. В общем, сначала я ему замок сломал. У него была привычка всех своих гостей – а гости каждый день! – провожать до метро. Вот пока они с Альбиной вдоль канала туда-сюда ходили, я ему замочек и ковырнул. Ей-богу, пацаны, взломщиков – не понимаю. Грабить квартиры просто глупо. Достаточно взломать и понаблюдать. Само собой, нужен наблюдательный пункт. Но тут у меня было все схвачено. Как он забегал, когда увидел сломанный замок! Как завертелся! Сначала я думал, он спятил. Пацаны, меня реально стала мучить совесть! Потому что был мужик (ну, ладно, дерьмо мужик), а стал … говорить не хочется, чем стал. Он носился по мастерской и кудахтал. Реально кудахтал. Потом остановился, подумал и залепил Альбине по морде. Съездил своей бабе по физиономии и стал бегать дальше. Но минут через пять до меня дошло, что носит его по комнатам не просто так. Объясняю, мужики, я за эти пять минут про этого козла усатого одну очень важную вещь понял. А как только эта важная вещь до мозгов добралась, тут и все остальное по местам разошлось. Во-первых, в мастерской был бардак, и бардак был редкостный. В том смысле, что ни пыли, ни мусора не было, а чисто лежало все не как у людей. Валерий Викторович – брезглив. Он и Магду, я думаю, этим достал. Во-вторых, Валерий Викторович помнит свой бардак по мере поступления. Вот он с утра (лучше сказать, после того, как проснется) за кофейком почитает Козьму Пруткова. Он ничего больше не читает. Оставит книжечку на столе рядом с кофейником, пойдет в ванную, снимет халат, наденет рясу, поверх – серебряную звезду с камушками на цепи. Это у него рабочая форма. Значит, поработает. Поработает, поработает, поработает, пока к нему кто-нибудь не явится. Тут маэстро снимает звезду с камушками, надевает серебряный блин с перламутром и начинает гостя принимать. И вот он эти свои феньки, халат, носки – да чего хочешь – оставляет где угодно. Но он свой маршрут помнит! Так вот потом, если ему приспичит что-нибудь найти, он будет, как муравьишка, бегать по своим тропинкам и, будьте покойны, все, что он в руках держал, найдет!
Тут я не удержался и сказал, что, по-моему, Валерий Викторович «не-нор-мален».
– Вот тебе! – сказал Геннадий с Сенной и сделал в мою сторону подобающий жест. – У меня вот так же одна баба каждую копеечку помнит. Я ей вечером говорю: «Что ж ты, кукла облезлая, на всякую херню деньги тратишь?» А она говорит, что иначе у нее вместо целого дня дыра в памяти. Разбрасывает копеечки, как мальчик-с-пальчик, чтобы назад вернуться. «Вот, – говорит, – была у Никольского. Точно была. Два рубля – нищенке». – «Очень хорошо, – говорю, – что ты добрая. Но помнишь ты, коза стриженая, что я тебя просил за мамино здоровье свечку поставить?» – У меня, пацаны, все бабы за мамино здоровье типа свечки ставят. Она говорит: «Конечно, я же помню, что свечу купила. А раз в сумке свечи нет, значит, поставила».
– Да, да, да, – проговорил Иванушка, – художник носился туда и сюда, потому что искал. А искал он серебряную звезду и блин с перламутром. (Я, дурак, тогда думал, что это у него и есть самое дорогое). Это его сломанный замок с толку сбил. Он решил, что его ограбили и на нервной почве маршруты свои малость перепутал. Значит, Альбина получила раз за блин и раз за звезду. После этого у маэстро в мозгах настало просветленье, он нашел и то и другое. И что бы вы думали, этот козлина сделал? Подошел к своей барышне и поцеловал ее точно в те же места, куда и бил. Потом как бы подумал, все взвесил и по попке ее пошлепал. Компенсация! Нет, вы объясните мне про женщин! Я же в натуре увидел, как это – слезы высыхают. Как будто и не было ничего.
Короче, у этих психов настал до утра вечный мир. А замок, между прочим, сломан, и получается, что я их дверь стерегу.
Наркоман отчетливо спросил:
– Ты у них че, в сливном бачке сидел?
– Нет, – сказал Иван серьезно, – если бы в сливном, все было бы проще. Но это подробности, я не хочу об этом. Главное, что утром они пошли за замком и за слесарем, потом они выпили со слесарем, потом они радовались, какой у них замок, а потом, наконец, ушли. От голода у меня в глазах уже были круги. Я дождался, пока внизу хлопнет дверь, забрал сыр из холодильника, свистнул запасной ключ и кинулся к Лильке. Это был первый день. Я ей рассказал про блин и звезду, она была довольна. Через десять минут она сказала:
– Ванечка, если ты меня подведешь, я умру.
Черт! Она меня поцеловала так, что это я думал, умру. Но тут позвонил Самандаров, я передал его Лильке, а сам ушел. Мне был нужен пистолет, и я решил его купить тем же вечером.
Здесь у нас как бы состоялся антракт, и наркоман даже сполз с нар и принялся расхаживать по камере. Он расхаживал, а мы, неподвижные, следили за ним, не говоря ни слова. Наркоман двигался за всех. Пальцы его то собирались в кулаки, то распускались веером, плечи ходили ходуном, точно он на ходу чесался о незримый угол, к тому же он на каждом шагу дергал шеей, и позвонки похрустывали.
– Я нервничаю, – сказал наркоман наконец. – Вот ведь вижу, что все нормально кончилось – тут он сидит, а все равно нервничаю. – Сказал и полез на нары.
Коммерсант Геннадий вытаращился на наркомана и только рукой махнул.
– Не был я крут! – сказал Иванушка с силой, будто спорил с кем-то. – Но в тот раз шел спокойно, как на работу. Я знал мужика, у которого имелся ствол, и я знал, что он мне его продаст. Мы с Лилькой выручили его во время одной облавы. Он пролежал у нас в контейнере под куриными ногами часа три и потом еле вылечился от пневмонии. Пистолет ему – как рыбе зонтик.
Аркаша Небылов от знакомства отпираться не стал. Не стал он и врать, будто пистолета нет. Но ни с того ни с сего он стал жадничать. Он жидился, как участковый, которого попросили продать табельное оружие. Тогда я напомнил ему, как мы с Лилькой по очереди выносили из-под него утку, и Аркаша Небылов сломался. Он вынес в коробке из-под сапог облезлый вохровский наган с тремя патронами и сказал, что денег не возьмет. Мы немного поспорили, и я его переспорил.
Я вышел на улицу с наганом, упрятанным в сахарный песок, и тут мне стало страшно. Больше не было причин примериваться и бездействовать.
Теперь я объясню, где у меня была норушка в мастерской Валерия Викторовича. Кладовка. Это была обычная кладовка, куда великий нонконформист валил всякий хлам. Другое дело, что хлам был необыкновенный. Вот у Магды, скажем, он вызывал настоящую ярость. Она звенела браслетами и делала презрительные красивые жесты, когда объясняла нам с Лилей про эту кладовку. У нее, между прочим, никто этих объяснений не просил, а вот разбирало ее, и все тут. Главное, она ведь уверена была, что говорит про своего мужа гадости, а мне так понравилось. Здорово маэстро придумал, я бы так не сумел. Короче, он валил в эту кладовку все, чего ему больше не хотелось видеть. Шикарный смокинг с жирным пятном на лацкане, скрутившиеся фотографии, недописанный портрет (Валерий Викторович начал портрет с нижней челюсти да бросил. Так и висела посреди полотна прекрасная нижняя челюсть). Был там еще аквариум с рыбьими скелетиками, детская бескозырка и еще кое-какая мелочь. Это были сосланные предметы. Вот если бы он мог, он бы и Магду туда засадил. Хотя, пожалуй, нет. В кладовке лежало только то, что ранило нежную совесть художника. А Магда… Магду он задушил бы своими руками и остался спокоен. Так вот, когда очередному предмету приходил час отправиться в кладовку, Валерий Викторович приоткрывал дверь и не глядя забрасывал опальную вещь туда, вглубь, в темноту. И тут же успокаивался. Магда об этом говорила с омерзением, а мне все это было на руку. Грешные вещи проходили свой карантин, а я среди них был в безопасности. Правда, задвижку с внутренней стороны я поставил, но это на тот случай, если какой-нибудь гость-новичок перепутает дверь в кладовку с сортирной дверью.
Ну вот, я дождался, пока Валерий Викторович с Альбиной отправятся по магазинам, поднялся наверх и закрылся в кладовке. В тот вечер ожидались гости.
Около половины девятого тусовка затусовалась, хозяин вышел к гостям в парадной рясе, обвешанный фенечками, и понеслась…
Они веселились… Да что там, они хорошо веселились. Потом хозяин стал им показывать наш с Лилькой портрет, а я подумал, что стоит мне сейчас выйти из своей норушки, выстрелить разок, и полотно мое. Я потрогал наган, и он согласен был пострелять. Чертово наваждение!
Тогда я сел подальше от двери и стал думать. За дверью Валерий Викторович типа того, что гнул пальцы, рассказывал, какой он крутой, а я чувствовал себя реальным идиотом. До меня вдруг доперло, что я не знаю, чего мне делать. Можно было дождаться, пока все эти гости свинтят отсюда, выйти и сказать: «Здравствуйте, Валерий Викторович. Картина или жизнь». Это был бы крутой базар. Но кто его знает, может, ему крутой базар по фиг? Может он крутого базара не понимает? И что мне тогда, стрелять ему в коленку? Кстати, ничего страшного. Подумаешь – коленка! Не ногой он рисует. А вот не мог я себе представить, что стреляю в живого. И к тому же – Альбину куда девать?
И я сижу на табуретке злой, а снаружи вся эта тусня начинает нашего художника поздравлять. Я слушаю и злюсь еще больше, потому что не врубаюсь, с чего им всем вперло. Наконец, Валерий Викторович говорит: «Я пью, друзья мои, за помолвку, за нашу с Альбинкой любовь, за то счастье, на пороге которого мы с нею замерли на миг!» И тут кто-то спросил: «А какого хрена ты, Валерочка, замер?» Хороший был вопрос. Все тут же выпили, и я думаю, что половина пила за того, кто это спросил. Но художника смутить было трудно. Он сказал, что Альбинке нужно съездить к матери на Волгу, а уж потом… Тут я сообразил, что мне все это очень подходит и что слушать эту публику нужно повнимательней. Ну, они выпили еще и еще и стали перетирать будущее счастье Валерия Викторовича. «Пятый раз», – сказал кто-то у самой двери в мою норушку. – «Пятый раз этот брандахлыст меняет законную натурщицу. И смотри – весь курятник тут». – «Врешь, шестой. А курятник весь, кроме Магды». – «Магда не в счет, она отказалась от камушка. Сказала, что ее любви не нужны изумрудные подпорки». – «Дура». – «Дура. С искренней верой не шутят, а Валерочка верит в этот камень». – «Даю на отсечение мизинец левой руки – ему опять повезет, да так, как нам с тобой и не снилось». – «Воистину!» Тут они выпили, трудно было понять, за что. Полчаса еще художественная общественность веселилась, и я в своей норушке наслушался такого, что если бы знал, кому слить этот компромат, озолотился бы. Потом Валерий Викторович густым голосом провозгласил: «Помолвка! Братья и сестры, помолвка!» Народ заходил кругами. Сквозь щель было очень похоже на то, как уходит вода через дыру в ванне. Что-то они двигали, что-то переставляли. Потом настала пауза, и тут дверь в мою норушку приотворилась.
– Ох! – сказали мы с коммерсантом Геннадием хором.
– Да, блин! – молвил Иванушка. – Я не задвинул задвижку. Убить меня было мало. Полбеды, если бы я сидел на табуретке. В этой темноте меня не рассмотрела бы ни одна падла. Но я стоял у самой двери, я смотрел в щель, и нельзя было даже представить, что сейчас случится. «Лилька выгонит к чертовой матери!» – вот что я успел подумать, да так ясно, будто увидел эти буквы на стенке. Что же касается револьвера, то как я его достал – не помню. Типа того, что очнулся, а револьвер вот он.
Да. Так вот, я стою, как выяснилось позже, с револьвером, а дверь тихонько открывается. Вот она открывается ровно настолько, чтобы пролезла рука, и действительно, рука пролезает. Я почти в состоянии клинической смерти, но вижу, что рука очень заметная и женская. А женская рука шарится по косяку, нащупывает гвоздик, вешает на этот гвоздик что-то и убирается. Я стою весь в поту с револьвером и думаю, что делать? Потом до меня доходит главное, я аккуратненько задвигаю засов и ухожу посидеть на своей табуретке. Тут ведь главное понять, кто влип, потому что есть у меня ощущение, что влип не я.
Короче, на гвоздике оказался серебряный кулон с зеленым камешком. И только я успел подумать, не камешек ли это Валерия Викторовича, как снаружи начались такие вопли, что я уже приготовился к обороне. Все, думаю, ребята, два патрона вам на все общество, а последний мне. Но снаружи и без меня начиналось настоящее убийство.
Прежде всего, оказалось, что это вопят не дамы, а Валерий Викторович. Но я не голос узнал, я просто услышал, как его утешают. Но он утешениями не утешался, он вырывался и вопли свои продолжал, но уже словами. «Шутка?! – орал он. – Вернут? Сам всех обыщу! Плевать мне, что друзья! Альбина, чучело, что стоишь? Поди, запри дверь!» Потом опять пошли визги, но уже женские. Я из своей норушки ни черта не видел, но думаю, что дам он обыскивать начал. Теперь уж он не кричал, а громко бормотал. «В самое сердце ударили, – слышалось мне, – счастью моему позавидовали!» Иной раз слышалась оплеуха, но кто кого бил – не знаю. За оплеухами следовала тишина, никто ими не возмущался.
Минут пять прошло в этой суете, и обыск, видно, сам собой прекратился. Опять Валерия Викторовича стали утешать, а я снял с гвоздя зеленый камешек в серебре, подвел его к полоске света и рассмотрел как мог. Сидя в кладовке, недолго и ошибиться, но, если это было настоящее, не мешало бы художнику быть поаккуратнее. А если это еще и талисман, то лох он из лохов, и как у него раньше этот камень не увели – не понимаю.
А за дверью они как-то все друг друга утешили и опять принялись чокаться и целоваться. Хотя ясно было, что вот-вот начнут расходиться. И тут я впервые в жизни сделал то, чего делать не собирался. Иначе сказать, у меня этого в мыслях не было. Но вот они начали пить за счастье, и у меня как будто холодный сквозняк вокруг макушки завертелся. И я, не знаю с чего, взял и вышел из норушки. Гости в это время лезли к Валерию Викторовичу с поцелуями, а он похоронным голосом говорил: «Подумаешь, камень. Шут с ним с камнем. С камнем только топиться хорошо».
Я вошел в просторную комнату и встал у мольберта. Ни одна душа не обратила на меня внимания, а я видел всех. И ту руку, которая пристроила камешек в норушку, я сразу узнал.
Потом все толкались в прихожей, кое-кто бегал в мастерскую выпить на посошок, и получилась такая славная суматоха, что я не удержался. Подошел к Валерию Викторовичу и пожал ему руку. Он уставился на меня так, что ради одного этого стоило сидеть в кладовке.
«Желаю счастья!» – сказал я, – подхватил под руку ближайшую дамочку и вышел. Получилось красиво. Так красиво, что я слетел со всех тормозов и сказал Лильке, что пора ей за меня замуж. Лилька на это возразила, что недоделанное дело хуже неначатого, и я опять отправился к художнику.
Я снова дождался, пока он уйдет в магазин и закрылся в кладовке. Изумрудик висел на гвозде, и трудно даже было представить себе, сколько он там провисит. Потом вернулся художник. Он выкладывал на стол в кухне провизию, а меня разбирало зло. По всему выходило, что Валерий Викторович ждет гостя, а то и гостью. Мне же это было совершенно ни к чему. Я разозлился так, что едва не вышел из кладовки. Но в последний момент мне пришло в голову, что если мы с ожидаемым гостем явимся одновременно, то это будет совсем не в кайф. Я остался в норушке.
Валерий Викторович тем временем начал жарить мясо и петь. Что он пел! Как он пел! Хорошо, что у меня развито чувство ответственности. Иначе я захохотал бы и ушел. Но вот я перетерпел все и успокоился. Художник дожарил мясо, и гость явился немедленно. Как будто дожидался на площадке окончания вокальной части.
«Здравствуй, друг прекрасный!» – сказал гость. «Здравствуй, Юлиан!» – сказал художник, и они принялись таскать в комнату все, что Валерий Викторович наготовил. Потом они начали пировать, а я слушал и никак не мог решить, когда мне появляться. Да, они меня удивили – ни тот, ни другой не сказали ни слова о недавней пропаже. А ведь Юлиан был тогда, я его узнал сквозь щелку в двери. Вместо этого интересного разговора они набросились друг на друга и принялись обсуждать чью-то выставку. Они прерывались только, чтобы выпить по стаканчику и закусить. А что было делать мне? Наконец я почувствовал, что осатанел, отвел задвижку и вышел.
«Нет, друг Юлиан, – говорил Валерий Викторович, – он удивительный колорист, он колорист от бога».
«Вот и скажи ему это, Валерочка. Он ждет не дождется».
«Нельзя, – сказал хозяин, – ибо в целом он – говно!»
Тут они выпили, а я присоединился к их компании.
«Вот так раз!» – сказал Юлиан и побледнел, а Валерий Викторович перекрестился.
«Ты мне настроение испортил, – сказал он с укором, – а впрочем, для того ты и явился». Ему, конечно, хотелось спросить, откуда я уже второй раз у него в мастерской вылезаю, но вместо этого он съел кусок сыру сулугуни, сжевал перо зеленого лука и отпил вина. «Ты скандалить не будешь? – спросил он, внимательно меня оглядывая. – У тебя, у прохвоста, наверняка свой интерес». На это я ему сказал, что свой интерес у меня, конечно, есть, но скандалить я не буду. «Хватит с вас скандалов», – сказал я. И хозяин налил мне редкого вина Псоу.
«А про какие ты это скандалы говоришь?» – спросил он, когда я опрокинул стаканчик. «Ну, здравствуйте, – сказал я, – я же во время вашей помолвки отсюда не отлучался». И тут розовое личико Юлиана опять побледнело, так что и морщинки стали почти не видны. «Вы владеете искусством невидимости?» – спросил он, и я же видел: он перепугался реально. Он так перепугался, что Валерий Викторович стал его разглядывать с новым интересом. Юлиан быстренько выпил, прикрыл глаза ладошкой и вообще так засуетился, что мне показалось, будто в день помолвки я не доглядел из своей норушки что-то важное. Он заерзал на стуле и даже застонал. «Валерочка, – проговорил он, – Валерочка, ведь ты же не думаешь, что у меня… что меня… что я…» Валерий Викторович налил всем, похлопал Юлиана по плечу и сказал довольно пакостным голосом: «Не трепыхайся, Юлиан, жена Цезаря – вне подозрений». Теперь Юлиан покраснел, вцепился в стол и сказал, что всего он ожидал, но чтобы так безжалостно… так беспардонно… «Прежде всего – так искренне! – сказал Валерий Викторович грозно. – Я и Цезарю то же самое скажу! А теперь успокойся и спросим нашего незваного гостя, какого ему зеленого рожна надобно?» – «О! – воскликнул Юлиан. – Я узнаю молодого человека. Не его ли портрет ты показывал нам, Валерочка?»
«У тебя глаз истинного художника, Юлиан, тебя не обманешь, – проговорил хозяин. – Молодой человек и его подруга любезно позировали мне. А знаешь, друг Юлиан, эти ребята и есть самые настоящие новые русские». «Прекрасный портрет! – нараспев проговорил Юлиан (он тоже говорил „портрэт“), – вы хотите его купить?» – «Они бы рады, – сказал Валерий Викторович, – только у них будут – как это теперь говорят? – проблемы».
И тут, мужики, этот Юлиан, педрило несчастный, застыл на минутку, потом ожил, заорал на всю мастерскую «Цезарь! Цезарь!» и стал хохотать. «То-то и оно что Цезарь, – сказал Валерий Викторович, – и вам, Ванечка, эту историю просто необходимо рассказать». – «Расскажи! Расскажи!» – запрыгал на стуле Юлиан. «Так вот, упомянутый Цезарь Лазаревич – художник одареннейший, колорист от бога, рисовальщик сверхъестественный, но при этом скотина, и скотина расчетливая. Юлиан – человек пристрастный, но и то не решится возражать. Так вот, в начале перестройки Цезарь со своей одаренностью дошел до того, что расписывал матрешек, а когда матрешек не брали, водил свое немногочисленное, но прожорливое семейство на обед к Юлиану».
– Слушайте, – сказал Перстницкий, – я глазам не поверил! Когда Валерий Викторович про матрешек сказал, Юлиан заплакал.
«Вы бы видели этих голодных деток», – сказал Юлиан.
«Ну-с, они объедали Юлиана год или около того. Потом Цезарь с голодухи придумал штуку. Он написал портрет одного политика, который тогда набирал силу. Портрет, кстати, получился превосходный. Но политик на портрете был не один. С ним был еще один, скажем так, известный человек известной ориентации. И вот, вглядевшись в эту парочку, зритель рано или поздно понимал, что они состоят в совершенно определенных отношениях. Тут все дело в деталях, в рефлексах… Цезарь на это мастер. Написавши картину, он написал письмо политику, и тот клюнул. Придумал себе в Петербурге какое-то дело и как бы заодно явился в мастерскую к Цезарю. Он явился к Цезарю и все сразу понял. Скандалить не стал. Картину тихо купил и, видимо, уничтожил. Через полгода Цезарь написал копию и продал ее тому же политику, но уже дороже. И тут политик понял, что попался. Но он был не дурак, а то бы кокнули нашего Цезаря. Он дождался следующего портрета (ведь правильно рассудил, что Цезарь изображает эту парочку, когда остается без денег), приехал и предложил соглашение. Он покупал Цезарю квартиру и под самые серьезные гарантии брал с него обязательство никогда не изображать его личность.
„А вас что, – спросил Юлиан, – шокирует это изображение?“ И тут я понял, что мне только и осталось достать револьвер и застрелить Валерия Викторовича. А заодно уж и Юлиана, чтобы не осталось свидетелей. Машинально я налил себе вина, выпил и тут вспомнил про изумруд. Чтобы не свалять дурака, я отрезал сыру и, пока жевал, думал.
Когда я сказал Валерию Викторовичу, что знаю, где изумруд, у него лицо заходило ходуном. Но я обломался, пацаны! Нас с Лилькой ему хотелось достать реально, а про камушек ему нравилось думать, что камушек мог как бы и сам потеряться. „Вполне, – сказал педрило, – покажи-ка, Валерочка, портретик еще разок“. Они стали пялиться на портрет, а я сидел и думал: что бы сказали эти живописцы, если бы знали, что я сижу с револьвером за поясом и думаю – обоих их застрелить или только одного? Но вот что я скажу, про такие вещи долго думать нельзя. Револьвер начинает пошевеливаться. Это вроде дамского танго. Стоишь и ждешь, когда тебя пригласят. Ну, я эту музыку прекратил. Я встал и начал расхаживать по мастерской. А они никак не могли на нас с Лилькой насмотреться! Блин! Не мог я поверить, что ему на камушек наплевать. А эти двое ждали, когда терпение лопнет у меня. И я их переходил! Валентин Викторович снял с портрета какую-то пылинку и сказал: „Верните Сомова!“ Он это хорошо сказал, но Сомов был Лилькиной добычей, а во всей этой истории для меня имела цену только Лилька.
„Вы совсем не хотите камень?“ – „Я хочу Сомова. И твоя девчонка Сомова мне отдаст. А камень ты мне так и так вернешь. Я иду в милицию, они берут тебя за что надо, и ты выкладываешь камень. Так?“ И тут Юлиан перестал разглядывать нас с Лилькой и сказал: „Ванечка, у Валерочки было две дорогих вещи (деньги тут ни при чем). Нет, Валерочка, не натопорщивайся, я имею в виду не Магду. Сомов и изумруд, Валерочка, Сомов и изумруд. А вы, Ванечка, оставили его ни с чем. Вы его довели до крайности. Его художнической сущности глубоко противно обращение в милицию, но они вас прищучат, вы не сомневайтесь!“ Тут я до того разозлился, что сам не помню, как в руке у меня оказался револьвер. Художники где стояли, там и сели, а я им сказал, что коли на то пошло, я пристрелю их обоих, потом сожгу картину, а совсем потом застрелюсь сам: „Но сначала вам, сволочам, докажу, что камень взял не я, не я!“
Тут Юлиан сморщился и стал шевелить пальцами: „Валерочка, как-то все уж очень гадко получается. Вы, Ванечка, что видели, кто взял камень? Ой, как нехорошо! Валерочка, тебе это нужно?“ Валерий Викторович выпил вина, хотя ему бы в самый раз водочки стакан. „Вот что, – сказал он, – знать не хочу про камень. Верни мне Сомова, и картина твоя!“ И тут до меня дошло: он боялся, больше всего боялся узнать, кто из его друзей – вор. Он не знал, как ему дальше жить, если я назову имя.
– Опять все плохо, – сказал наркоман, – все ужасно плохо. – Он сполз с нар, встал перед Иваном и раскачивал у него перед носом указательным пальцем:
– Лучше было стрелять и в одного и в другого. Вечная ломка без кайфа – вот что ты им устроил. Жаба!
– Да! – сказал Перстницкий. – Я таки их подцепил. Они, по-моему, даже забыли про револьвер. Они даже не заметили, что я его убрал. Они сидели и тряслись, ведь я в любую минуту мог сказать то, что знал. И тут у нас вышла заминка. Художники не знали, чего от меня ждать, а я ничего не мог придумать. Ну, не стрелять же в них в самом деле! Но колесики в башке у меня все-таки провернулись, и я спросил Валерия Викторовича, сколько времени у него ушло на нас с Лилей. Он врубился не сразу, прежде чем до него дошло, что я не сказал ничего страшного, за него ответил Юлиан. „Валерочка пишет быстро“, – сказал он, настороженно глядя мне в руки. Все-таки Юлиану был страшнее револьвер.
„О‘кей, – сказал я. – Собирайтесь, Юлиан, я посылаю вас в магазин. Тащите все, что может потребоваться двум мужчинам, пока один из них рисует вторую такую же картину. Впрочем, можете тащить на троих, если у вас есть время“. Юлиан исчез, а Валерий Викторович уставился на меня каким-то, черт дери, ртутным взглядом. „Ты чего придумал, – спросил он, – может, лучше без церемоний? Выстрелил – и шабаш“. – „Это вам, Валерий Викторович, шабаш, а у меня тогда самые церемонии и начнутся. Я лучше придумал. Вы нарисуете такую же картину. Только будете на ней вы и Магда“. – „Сукин сын!“ – „Извините“. Тут пришел Юлиан, и мы отправили его стряпать обед.
Теперь в мастерской стояли рядом два мольберта. На одном чистый холст, а на другом мы с Лилькой. В полной тишине Валерий Викторович выписывал столик, на который опиралась Лилечка, и уже стали появляться на столешнице ее пальцы, когда он обернулся и спросил: „Так молчать и будешь?“ И почему-то не стал рисовать ладони, а взялся за Лилькино лицо. Да нет же, это было лицо прекрасной Магды! Блин! Он, и правда, работал быстро. Без колебаний и без жалости он вырисовывал бывшую свою прекрасную Магду и скалился на нее по-вурдалачьи. Я вышел на кухню к Юлиану, напился воды. То ли жарко мне было, то ли холодно – не мог сообразить. Юлиан быстро взглянул на меня, сказал „Минуточку“ и вышел из кухни. Машинально я взял нож и принялся кромсать огромную, как кулак, красную луковицу. „Какой вы негодяй! – сказал Юлиан, вернувшись. – Если бы у вас не было пистолета, я бы съездил вам по физиономии. Лучше бы вы застрелили его!“ Револьвер толкнул меня в поясницу, и я сказал, что никто не знает, как оно повернется. Потом Валерий Викторович закричал из комнаты, и я пошел к нему. Ему зачем-то нужно было, чтобы я околачивался рядом. „Стой за левым локтем“, – велел он. И я стоял. А он рисовал все быстрее. У Магды на бедре появился шрам. Шрам был тонкий и блестящий. Я подумал, что Валерий Викторович обязательно целовал его. – „Она упала с велосипеда“, – сказал художник, не оборачиваясь, потом положил кисти и вышел к Юлиану. Теперь передо мной были обе картины, и спина художника не заслоняла Лильку. Я глядел на ее лицо, повернутое ко мне, нарисованному, и что-то жало мне сердце, и духота какая-то наваливалась… Художники в кухне разговаривали, а я никак не мог понять, в чем тут дело. Потом Валерий Викторович вернулся, дожевывая что-то, снова принялся рисовать, и снова Лиля оказалась у него за плечом. Потом он сдвинулся, ее лицо показалось, ну как будто она вдруг взглянула на меня, и я увидел и понял. Лицо, мужики! У Лильки лицо было такое… Ну, только я мог видеть такое лицо! Это придумать нельзя. Это, блин, видеть надо. Тут я и понял, как это бывает. Он стоял ко мне спиной, и рубаха приподнималась над левой лопаткой, а я ясно видел, как пуля влетает ему под лопатку и он валится на свою недорисованную Магду и заливает кровью ее шрам, и лицо, и все остальное, что он успел нарисовать. Только мы с Лилькой стоим, как были, и смотрим на все это.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.