Текст книги "Адские машины желания доктора Хоффмана"
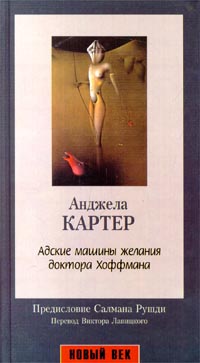
Автор книги: Анджела Картер
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Мендоса описывал свои результаты как «совершение лишенного длительности состояния, возможно синтезирующее бесконечность». Он утверждал, что их энтузиазм породил настолько интенсивные колебания, что все часы в заведении вдребезги разнесли свои корпусы. Он представил в университет счета за услуги не только проституток, но и часовщика. После этого Мендосу выгнали. Узнав, что его отчисляют, он вломился в лабораторию и намазал все доски фекалиями. После чего мы о нем больше не слышали. Но Хоффман, конечно же, не терял с ним контакта. Еще бы, так начался первый большой этап его исследований…
И так далее, и так далее, и так далее…
По мере привыкания к моему постоянному присутствию он потчевал меня подобной крепкой смесью теории и биографических фактов по три-четыре раза на неделе, при этом к нему возвращались давно забытые ужимки и уловки лектора. Часто он охотился за забытым где-то мелком, чтобы изобразить какие-то диаграммы на доске, существующей разве что в его воспоминаниях об университете, или комкал в пальцах невидимую профессорскую мантию. Я находил все эти жесты невыразимо трогательными, подливал в его стакан и слушал дальше.
Но ни один из этих кусков, из этих обрывков, всплывавших со дна притупленного возрастом и неудачами разума, не имел для меня большого смысла. Иногда целый час подобных речей выплескивался на меня словно дождь, и я записывал всего одну, вдруг задевшую меня фразу. Может быть: «Вещи не могут истощиться», или: «В воображении ничто не принадлежит прошедшему, ничто невозможно забыть». Или еще: «Изменение – единственно должный ответ на явление». Я постепенно осознавал, что феноменальная динамика Хоффмана включала в себя гипотетическую диалектику взаимности и трансформации, открытие некой формулы, некоего рецепта, многократно ускоряющего процессы изменчивости; и что он часто говорил в былые времена своему преподавателю о «непрерывной импровизации коррелятов». Но по большей части я был всецело сбит с толку. И я готовил на керосинке тосты с сыром, вместе с пивом составлявшие наш ужин, то грохоча, то что-то бормоча, – непонятные звуки, которые, как я надеялся, старик истолкует как знак моей растущей заинтересованности и отнесет на счет изменений, которые претерпеваю я сам.
«Изменчивые сочетания», – обычно говаривал он, потягивая пиво и порыгивая. Затем, зачерпнув пригоршню магических шаблонов, подбрасывал их в воздух, будто играя в «пять камешков», и со столь торжественным видом давал им упасть, что мне приходилось бороться с искушением поверить ему, поверить, что наполовину случайные расклады, образованные ими под диктовку слепого случая, отзовутся эхом в осажденном городе, который, как он с раздражением сообщил мне, все еще умудрялся кое-как держаться.
Время от времени я понемногу задавал вопросы, связанные в основном с фактами, касающимися личности Хоффмана, а не с общей концептуальной структурой его теории.
– А что они с Мендосой не поделили?
– Женщину, – отвечал он. – По крайней мере так мне однажды сказал Хоффман – голосом, дрожащим не то от слез, не то от гнева. Не могу сказать, от чего именно, ибо к тому времени, конечно же, был уже слеп и сведен всего-навсего к какой-то цифири в его формулах.
Только много позже он сказал мне, что эта женщина была матерью Альбертины.
– А что стало с Мендосой?
– В конце концов он разбрызнул сам себя по бесконечности многоцветной аркой, своего рода радугой.
Ладно, никто, значит, теперь не узнает причину пожара, разрушившего его странствующую машину времени!
Были у меня и другие развлечения.
Мадам ля Барб своей молчаливостью напоминала юную девицу. Она откидывала полог тента, выкладывала на конторку свои дары – бисквит, дымящиеся чашечки немыслимо вкусного кофе и изредка ароматное кассуле – и с наимимолетнейшей улыбкой тут же исчезала. Без бороды она была бы толстой, никогда не расстающейся с фартуком французской крестьянкой с жестким ртом и хмурым лицом, ни разу в жизни не забредавшей и на километр от своего родного городишка. Бородатая же, была она мила необычайно, где только не побывала и оставалась самой одинокой женщиной на свете. Сидя у себя в фургоне, она наигрывала на кабинетном органе мелодии сентиментальных песенок, с чувством мурлыча печальные слова любви и томления своим высоким, чуть пронзительным голосом с подчеркнуто аффектированными интонациями. Постепенно, видя, что я не нахожу ее ни отвратительной, ни смешной, она начала мне доверять.
У нее была всего одна мечта: проснуться однажды утром в городке, где она когда-то родилась, в своей детской кроватке, с геранью на подоконнике, кувшином и тазом на рукомойнике. И потом умереть. Я находил ее симпатичной. Чтобы добыть себе средства к существованию, она выставляла напоказ свой отличительный признак – и делала так уже тридцать лет, – и, однако, всякий раз, когда праздношатающиеся крестьяне набивались в ее балаган поглазеть, как она позирует им в белом атласном платье с флердоранжем, Бородатая Невеста заново ощущала все муки дефлорации, хотя, конечно же, и была девственницей. «Каждый раз, – говорила она со своим красиво синкопированным акцентом, – новое изнасилование. Они проникают в тебя глазами».
Борода появилась у нее одновременно с грудями; ей тогда стукнуло тринадцать. Никогда не отличавшаяся красотой, нескладная и неряшливая девочка, она мечтала только о том, чтобы остаться незамеченной. Быть может, один из соседних торговцев в этом сером степенном городке в долине Луары, где все стулья всегда зачехлены и даже тени падают с оглядкой на правила приличия, мог бы жениться на ней из-за dot.[16]16
Приданое (фр. ).
[Закрыть] Ее отец был нотариусом. Дочка пошла к первому причастию с щетиной, просвечивающей из-под вуали синей послеполуденной тенью. Мать умерла от рака, и отец пристрастился к растратам. Когда его в этом уличили, он перерезал себе глотку своей же бритвой. Самая что ни на есть заурядная трагедия. Она зажила одна, прячась за ставнями в гулком, зажатом со всех сторон доме. Ей было пятнадцать. Вскоре у нее не осталось ничего, что еще можно было бы продать, а милосердие соседей исчерпалось. В город приехал цирк. Дрожа и плача, закутавшись в траурную вуаль, она отправилась к инспектору манежа и на следующий день уже была работающей женщиной. Свое шестнадцатилетие она отпраздновала на карнавале в Рио и за время своей карьеры посетила все прославленные города на свете – от Шанхая до Вальпараисо, от Танжера до Ташкента.
Уникальной ее делала не борода, уникальной ее делал тот факт, что ни разу за всю свою жизнь не испытала она – хотя бы на один только миг – счастья.
– Вот, – говорила она, поглаживая гофрированные листья одного из растущих у нее в горшках растений, – это моя monstra deliciosa[17]17
Род лиан, распространенных в тропических лесах Америки.
[Закрыть], мой деликатный монстр.
И ее глаза непроизвольно перебегали на висящее на стене зеркальце. Одну из черных траурных розеток она прикрепила к его золоченой раме. В своих посещениях ее фургона я был крайне осмотрителен и никогда не приходил без какого-либо маленького подарка – букетика фиалок, леденцов, французского романа, прикупленного в букинистической лавке. В свою очередь, она наливала мне горячий шоколад, пела и играла для меня.
– Plaisirs d'amours ne durent plus qu'un moment…[18]18
«Мгновенье лишь длятся утехи любви…» Флориан. Романс.
[Закрыть]
Но сама она не ведала никаких радостей. Совершеннейшая леди, она была исполнена тоскливого обаяния, свойственного засушенному среди страниц совершенно чудовищной книги цветку. Меня она неизменно звала «Дезире». Визиты к ней всегда носили оттенок милой скуки, будто навещаешь тетушку, которую горячо любил в детстве.
В пророческом преддверии ада, зажатом между сном и явью, мой хозяин однажды прокричал: «Все зависит от инерции зрения». Имел ли он при этом в виду только свой кинетоскоп или же и призраков, наводнивших город? Воспользовавшись его слепотой и сном, я регулярно копался в очередном наборе шаблонов и, как мог, составлял исчерпывающий их каталог, хотя эта добровольно затеянная перепись осложнялась трудностью выяснения, сколько же собственно шаблонов там было, ибо их численность в мешке постоянно менялась, а классификация и вообще вряд ли была возможна, поскольку они непременно оказывались другими, стоило посмотреть на них во второй раз.
Я потерял тетради, содержавшие их грубый, неточный список, в землетрясении, которое в соответствии с теорией Мендосы уже организовывало предшествующие ему события, используя формальную риторику трагедии. И коли я упомянул о пертурбации, не знаю, вспоминал ли бы я Мадам ля Барб с такой жалостью, помнил ли бы Мейми Лосиную Шкуру такой свирепой и испытывал ли бы к своему хозяину такую привязанность, если бы не знал задним числом, сколь скоро всем им предстояло умереть. Однако что-что, а это я помню: как бы сильно ни менялось символическое содержание шаблонов, все они принадлежали к одной из трех разновидностей, а именно:
а) восковые модели, часто снабженные заводными механизмами (наподобие описанных выше);
б) стеклянные слайды (тоже описанные ранее); и наконец,
в) наборы фотографий, добивающиеся эффекта движения посредством техники книжек нашего детства – предшественниц мультипликации.
Наборы обычно состояли из шести-семи разных аспектов одной и той же сцены, для каковой достаточно типична нянька, мучающая ребенка, потом подрумянивающая его над огнем прямо в детской и, наконец, жадно его пожирающая, всем своим видом показывая, какое удовольствие доставляет ей эта трапеза. Переходя от машины к машине и наблюдая, как различные картины этого повествования раскрывают каждая новую грань одного и того же действия, зритель невольно оказывался под впечатлением, что созерцает событие в его, так сказать, временной глубине. Сами же фотографии несли на себе явный отпечаток подлинности. Меня особенно поразила серия, на которой была изображена затоптанная насмерть конями молодая женщина, поскольку актриса обладала определенным сходством с дочерью д-ра Хоффмана. Были там и изображения природных катастроф, например землетрясения в Сан-Франциско, но я не содрогнулся от ужасного предчувствия, манипулируя ими; более того, я даже проиграл на машине целый набор – тему с вариациями, – посвященный землетрясению, когда мой хозяин отправился куда-то выпить. И быть может, мне не стоило совать свой нос куда не просили, в машину, как он, собственно, и предупреждал… хотя Альбертина говорила мне, что ее отец всегда отступал, натолкнувшись на границы природы, так что не думаю, что я имел какое-либо отношение к реальному катаклизму.
В результате проведенных мною в мешке изысканий я пришел к заключению, что модели и в самом деле представляли все, во что только можно было поверить, средствами либо прямой имитации, либо восходящего к Фрейду символизма. К тому же они были – в это по крайней мере верил мой хозяин – до крайности сверхчувствительными объектами. Он никогда не позволял мне вставлять их за него в машины; он даже запретил заглядывать в мешок.
– Смотри, если только поймаю тебя, когда ты копаешься в моем мешке, – пригрозил он, – тут же отрежу тебе руки.
Но я был слишком сметлив, чтобы попасться.
Мейми Лосиная Шкура жила одна в пулевом тире. Каждое утро она выставляла на соседний забор шеренгу бутылок из-под виски и по очереди отстреливала им горлышки. Так она оттачивала свое искусство. Она заявляла, что может попасть в хвостовые перья летящего фазана; утверждала, что с двадцати шагов всаживает пулю в центральное сердечко пятерки червей; говорила, что может сбить указанное яблоко с ветки указанной яблони с расстояния в сорок шагов; и она часто зажигала мне сигарету единственной посланной наискосок пулей. Винтовки были для нее извергающим огонь продолжением рук; слетал огонь и с ее языка. Одевалась она в окаймленную бахромой кожаную одежду пионеров старого Запада, однако пышная грива ее желтых волос всегда была завита и подобрана кверху в монументальном стиле салонов красоты, а между щедрых грудей непременно свисал чрезвычайно женский медальон, содержавший в себе портрет ее покойной матери-алкоголички. Она являла собой парадокс: вполне фаллическая женщина с грудью кормящей матери и ружьем – щедро отпускающей смерть, способной на эрекцию тканью, – постоянно у бедра. Она гордилась своей коллекцией, насчитывавшей более пятидесяти старинных или исторических винтовок, пистолетов и револьверов; среди прочего там были и экземпляры, которыми когда-то владели Крошка Билли, Док Холлидей и Джон Уэсли Хардин. Каждый день три часа она протирала их, смазывала маслом и просто любовно гладила пальцами. Она была любовницей оружия. Ей исполнилось двадцать восемь, и была она непроницаема, будто покрыта шеллаком.
Арестованная на Дальнем Западе за то, что застрелила человека, у которого была закладная, когда он попытался завладеть фермой ее умирающего отца, она с легкостью соблазнила тюремного надзирателя, сбежала из тюрьмы и избавилась от группы добровольных помощников шерифа, перестреляв и их тоже. Но ей скоро наскучила преступная жизнь, ведь она была художником оружия, а убийство являлось лишь побочным эффектом ее виртуозности. Скорострельный винчестер был для нее все равно что страдивариус, а мир ее сплошь состоял из мишеней. Сексуально она предпочитала женщин. Одно время она работала с парным номером в низкопробном американском кафе-шантане со стриптизом; в амуниции героя-ковбоя она состреливала всю до последней нитки одежду со своей возлюбленной, легкомысленной цветущей блондинки родом из Вены, которую похитила из монастыря. Но эта субретка сбежала от нее с фокусником и начала новую карьеру: каждый вечер ее распиливали напополам. Эта стычка с любовью лишь прибавила ей цинизма, и отныне Мейми одна была застрельщицей всех своих начинаний.
Она любила путешествовать и присоединилась к ярмарке, чтобы посмотреть мир. Кроме того, она сама заправляла своим аттракционом и поэтому могла присваивать всю выручку, а после ружей и большой дороги она особенно любила деньги. Я пришелся ей по душе, ибо она больше всего обожала в мужчинах пассивность; и она предложила мне работать у нее на подхвате: устанавливать мишени и служить подставкой для шляп и апельсинов, которые бы она сшибала на сцене у меня с головы. Но я сказал, что моему дядюшке без меня не обойтись. Ее резкий напор и кружил голову, и изнурял. Раз за разом, когда ей не удавалось залучить в свой спальный мешок на меховой подкладке одну из наездниц, она угрюмо обходилась тем, что имелось под рукой, – мною; и эти ночи я провел словно в утлом ялике посреди бушующего штормового моря. В ее фургоне не было ничего, кроме козел с ружьями, мишеней и впопыхах добавленной крохотной, неприметной кухонной плиты; на ней она при случае готовила обжигающие огнем чили и тяжелые, словно свинцовые, бисквиты, которые, сдобрив сиропом, потребляла на завтрак, запивая изрядным глотком хлебного самогона. И все же иногда я с удивлением замечал, как во сне ее бронзовый лик расслаблялся, и она вновь выглядела как томящаяся и задиристая девчонка-сорванец, стащившая отцовский кольт 45-го калибра, чтобы вволю побуйствовать на стороне, но разревевшаяся, когда, промахнувшись, попала в лапу своей немецкой овчарке. А несколько раз я замечал, как она смотрит на растительность Мадам ля Барб со своего рода завистью. Мейми тоже была трагической женщиной.
Я вижу их всех в ореоле темного света, отбрасываемого уже случившейся трагедией, вижу, как они с неотвратимостью обреченных движутся к насильственной смерти.
На ярмарке в порядке вещей было, что предметы оказывались совсем не тем, чем казались. Мейми однажды взяла меня с собой посмотреть, как прекрасные наездницы обслуживают своих коней в уединении денника. Мы лежали, спрятавшись в сене, пока они под нами сопрягали самый главный глагол. Доносившиеся до нас ржание и храп с равным успехом могли вырываться из груди как жеребцов, так и их наездниц, а неистовые движения колыхали стойло из стороны в сторону так буйно, что мы ежесекундно рисковали свалиться с нашего насеста. Раскачивающиеся керосиновые лампы, свисавшие с крыши, придавали бурной сцене характер драматически-экспрессионистического кьяроскуро, столь прерывистого, что я начал сомневаться кое в чем из того, что видел, и вспомнил, как мой хозяин пробубнил во сне: «Все зависит от инерции зрения». А тем временем моя мужественная дама, уже дымящаяся ответным наведенным вожделением, лапала и теребила меня, что отнюдь не добавляло безопасности нашему неустойчивому положению, и должен признать, что в этой гулкой ложе страсти я и в самом деле испытал Мендосову, лишенную длительности бесконечность. Я бы сказал, что мне довелось на собственном опыте подтвердить его теорию, ибо я не имею ни малейшего представления, сколько длилась оргия, после того как мы и в самом деле сверзились в трясину шелковистых конечностей и молотящих по чем попало копыт, а если бы в фургоне были часы, уверен, они разлетелись бы вдребезги. Кроме того, меня встревожило, что эта сцена обладала явными чертами сходства с набором фотографий из мешка с шаблонами, демонстрирующих затаптываемую конями девушку, хотя, конечно, и дразняще отличалась от них. Но я все равно гадал, в какой степени мне случилось предвосхитить и предугадать ее. Ну да так или иначе, частенько вся ярмарка казалась мне всего-навсего каким-то набором шаблонов.
Мейми сломала ребро, когда ее лягнул один из коней, и какое-то время расхаживала в столь ей не подходящем корсете из повязок. Ее глаза, серые, как ружейный ствол, приобретали, когда она видела меня, странное выражение не то подозрительности, не то догадки, словно тем вечером я проявил какие-то нежданно-негаданные таланты, и в конце концов она поразила меня, предложив дать несколько уроков, чтобы я мог развить свои наиболее привлекательные стороны.
Я обнаружил, что у владельца порно-шоу была привычка проводить своего рода гадание, прорицание будущего при помощи шаблонов, хотя мне так и не удалось разобраться, что же на самом деле он предсказывал или предвещал; не понял я и как он это делал и, собственно говоря, почему. Конечно, он не почерпнул из своих изысканий никакой информации о грядущем катаклизме, иначе бы он не преминул спастись бегством. Однако иногда он вслепую засовывал руку внутрь мешка и вытаскивал наружу первые попавшиеся коробки, после чего прочитывал надпись по Брайлю – то озабоченно хмурясь, то пронзительно повизгивая от ликования.
– Выразить желание аутентично, – говаривал он мне, – значит, удовлетворить его категорично.
Я долго ломал голову над этим афористическим высказыванием. Имел ли он в виду только то, что сказал, – то есть очевидную чушь? Или же ссылался на другую теорию Мендосы, гласящую, что если предмет достаточно искусствен, то он становится подлинным?
Я тронул старика за плечо, чтобы разбудить к утреннему чаю, и сквозь сон он призвал меня:
– Воплощай свои желания!
И это почему-то показалось мне очень важным, хотя я не имел ни малейшего представления почему.
Третий из моих друзей, Человек-Аллигатор, доставлял мне наипростейшее удовольствие. Он был креолом и время от времени, подыгрывая себе на губной гармошке, пел мне неблагозвучные, мрачные мелодии на неподражаемо смачном французском языке. Родившись в болотах Луизианы, недугом своим он был обязан генетике, а точнее, несчастливому сцеплению генов живописно придурковатой матери, целыми днями напролет в белой ночной рубашке раскачивавшейся в кресле-качалке на крыльце собственного дома, пока оный приходил в упадок и запустение, и живописно свихнувшегося отца, тратившего все свое время на постройку ковчега на пересыхающей старице, ибо он верил в неизбежность второго всемирного потопа. Все свое детство Человек-Аллигатор провел в воде в другом месте той же старицы, ибо находил общество самого себя гораздо более стимулирующим, чем общество семьи; он лениво просиживал целые дни среди тины и ряски под призрачно дрейфующими над ним бородами испанского моха, наигрывая на губной гармошке и не причиняя никому ни малейшего вреда. Когда ему стукнуло двенадцать, папаша продал его хозяину передвижного шоу, получив взамен четырнадцать фунтов гвоздей; с тех пор он больше не видел родителей, даже не позаботившихся помахать ему на прощание рукой. Остальную часть жизни он провел тоже по горло в воде – погруженным в стеклянный резервуар, где сонливо возлежал, напоминая собой колоду, и немигающими, полными злобы глазами разглядывал явившихся на него поглазеть.
Для человека, проведшего всю жизнь под водой, он обладал поистине замечательным знанием мира, а среди ярмарочных персонажей был к тому же единственным, кто имел отдаленное представление о развернувшейся войне и о способах, которыми она велась. Он со своим резервуаром провел три месяца в Галерее Монстров, ютившейся по столичным трущобам, когда как раз начинались военные действия, и в удивительной степени сумел уловить, что именно происходит, хотя и был столь же раздражен всеобщей текучестью, как мог быть раздражен лежачий камень. В резервуаре он выучился терпению, коварству и двуличности. Он укреплял себя в духовной дисциплине абсолютной апатии.
– Аномалия, – говорил он, – это норма.
Он восхищался порно-шоу и иногда выбирался из резервуара, оставляя позади себя водяной след, навестить нас; когда он переходил от машины к машине, его плоские ступни шумно шлепали по земле, что звучало как вялые аплодисменты. Чешуя целиком покрывала его лицо, а на теле оставляла свободной только крохотную бляшку детской нежной кожи бледно-персикового цвета над самыми гениталиями, которые были абсолютно нормальными. Он не переносил солнечный света, и его начинала бить дрожь, стоило ему два-три часа провести без воды. Насколько я мог судить, все человеческие чувства были ему совершенно чужды, но я очень полюбил его, поскольку он до того усовершенствовал и разработал свою субъективность, что не верил уже абсолютно ни во что. Он учил меня играть на губной гармонике и в конце концов подарил мне свою собственную запасную. Думаю, это был первый подарок, который он сделал за всю свою жизнь. Хотя я был очень рад получить гармонику, меня огорчало, что несгибаемая мизантропия Человека-Аллигатора дала слабину.
Итак, одно, другое, третье – и жизнь текла довольно приятно, не давая мне скучать. Передвижная ярмарка лавировала то туда, то сюда по долинам и по взгорьям, сегодня – дразнясь, вознося меня на самую верхотуру предгорий, а завтра отбрасывая далеко назад, чуть ли не на равнину. Но хозяин порно-шоу бормотал во сне: «Путь на юг лежит по северной дороге», и я знал, что должен передать себя в его руки, и старался не торопить события, даже когда заметил первые робкие приметы весны.
Пока я вел наш старый, дребезжащий драндулет по изрытой глубокими колеями дороге, я замечал, как свежая молодая трава начинала пробиваться сквозь кучи прошлогодних листьев, а Мадам ля Барб стыдливо преподносила нам букетик хрупких подснежников, на поиски которых она выбиралась под покровом сумерек. Минуло уже полгода, как я покинул столицу, а до сих пор мне так и не удалось связаться с Министром. Время от времени я пытался дозвониться до него по сугубо частному номеру, но ни одна линия не подавала признаков жизни. И тем не менее я ощущал в крови неясное брожение, чуть ли не покалывание зарождающегося действия, словно вместе с весной пробуждался и я сам; кавалькада уже необратимо повернула к горным пикам, и дорога все время карабкалась в гору. На Пасху – нас ждали в самом высокогорном городе страны, где, если верить молве, на колокольнях гнездились орлы. На наши колеса один за другим наматывались километры щербатого асфальта.
– За Смутным Временем, – сказал хозяин порно-шоу с каким-то несвоевременным возбуждением, – последует время синтетическое.
Но, однако, не развил это утверждение.
На последней стоянке перед нашим пунктом назначения, которому суждено было, о чем они, конечно же, не догадывались, стать концом для всех моих спутников, к нам присоединилась труппа марокканских акробатов.
Их было девятеро плюс один музыкант, но тем не менее они как-то умудрялись складно и ловко устроиться в глянцевито-вульгарном жилом автофургоне, по последней американской моде сплошь заляпанном приторно розовыми пластиковыми орхидеями, но в то же время и орнаментированном разнообразными исламскими талисманами, например черными чернильными отпечатками ладоней, призванными оберечь от сглаза. Они редко заговаривали с посторонними, а если заговаривали, то на совершенно раздолбанном даже по сравнению с Человеком-Аллигатором французском, но мой собственный французский, благодаря беседам с Мадам ля Барб, достиг большой гибкости, и мне удалось настолько втереться к ним в доверие, что они позволили мне посмотреть на репетицию своего из ряда вон выходящего представления, хотя разговаривать с ними было все равно что болтать с гиенами, ибо манеры их были исполнены увертливой порочности. Я немного их побаивался, хотя и считал замечательными и поразительными созданиями.
Все девятеро были совершенно одинакового роста, общим у них был и почти женский выгиб позвоночника, и подчеркнуто развитые грудные мышцы. Днем они носили пижонистые, расклешенные книзу брюки и яркие рубашки, разрисованные цветами и пальмами, – стиль, более уместный для Лас-Вегаса или курортов на побережье Флориды, чем для иссохших желтых горных кряжей, через которые вела нас дорога; для своих ошеломляющих циркуляции они надевали костюмы, которые мог бы спроектировать Кокто… или Калигула, – короткие туники, сделанные из переплетения золотых полумесяцев с выступом между рогов, так что их янтарная кожа, казалось, попадала в сеть из крючковатых крапинок, и выглядели они вовсе не одетыми, а напротив – экстравагантно раздетыми. Половинка луны покрупнее свисала с левого уха каждого из них, глаза они густо сурьмили, а волосы завивали так туго, что головы их смотрелись как гроздья винограда. Они покрывали позолотой ногти на руках и ногах и красили губы исчерна-красной помадой. Полностью нарядившись, они словно отрицали телесность; они выглядели совершенно искусственными.
Оказаться среди них на арене значило вступить прямо в царство чудесного. Под причудливую музыку флейты, на которой играл скрытый под покрывалом ребенок, они созидали все образы и картины, каких только можно добиться от человеческого тела, – этакое абстрактное, геометрическое вскрытие плоти, которое оставляло меня почти бездыханным.
Когда я сказал о них хозяину порно-шоу, тот проклял свою слепоту.
– Пришли акробаты желания! – заявил он. – Смутное Время совсем рядом!
Но они даже не слышали имени Хоффмана, хотя четыре раза на день преступали пределы собственных тел и превращали себя в пластические анаграммы. Я заподозрил, что дело в некой специальной расстановке зеркал. Обследовав арену, я не обнаружил, однако, ничего, кроме опилок, в которых то тут, то там поблескивала чуть припорошенная пеплом половинка луны. Их номер проходил примерно так.
Грубое пятно света фокусировалось на засыпанной опилками крохотной арене. Флейта издавала заунывную фразу. Негромкий колокольный звон металлических хламид оповещал о их появлении. Они входили по одному. Сначала они выстраивали простую пирамиду – три, три, два и один; затем полностью переворачивались и образовывали пирамиду вверх тормашками: один стоит на руках, его ноги поддерживают двоих и так далее. Их фигуры расцветали одна в другую столь хореографически, что невозможно было разглядеть, как они распутываются и составляются вновь. Их тела не испускали ни запаха, ни пота, из их ртов не вырывалось ни одного натужного хрипа. Минут за тридцать они покрывали основной репертуар обычных акробатов, впрочем с несравненной грацией и мастерством. И тогда Мухаммед, их лидер, снимал свою голову с плеч, и они начинали жонглировать ею – пока все головы одна за одной не покидали своего места и не вступали в игру, так что посреди арены вздымался и опадал настоящий фонтан голов. Но это было только начало.
Вслед за этим член за членом они разнимали себя на части. Кисти рук, лодыжки, предплечья, бедра и, наконец, торсы переходили в некоего схематического Пурушу, пересоставленного из всех составляющих их элементов. По временам жонглируемые элементы складывались в образ наподобие Гуань-инь-с-тысячью-рук, чье умножение членов и атрибутов означало для древних китайцев молниеносное действие и бесконечную мощь; но этот арабский образ пребывал в постоянном движении, этакий внезапно случившийся визуальный синтез всех кривых и поверхностей, по которым скользит каждое неповторимое тело. И тогда, настоящий piece de resistance[19]19
Основное блюдо (фр. ).
[Закрыть] они принимались жонглировать своими собственными глазами. Отчлененные головы, руки, ноги и пупки жонглировали восемнадцатью немигающими глазами в бахромке ресниц.
Глядя на них, я обычно повторял про себя максиму старика-аттракционщика: «Все зависит от инерции зрения», потому, конечно, что мне не удавалось целиком избавиться от своего неверия, хотя я и мог на какое-то время отложить его в сторону. Я знал, что было во всем этом больше, чем встречал глаз, хотя к концу так много глаз встречали и привечали твой собственный! Такая гармоническая взаимосвязь людских частей, изобилующая ущербными лунами и карими зрачками!
После чего демонстрация соприкосновения и перегруппировки кончались. Каждый торс забирал из общей кучи принадлежащие ему по праву органы, и, вновь сложившись в девять законченных марокканцев, они раскланивались.
Я ходил смотреть на них при первом возможном случае и часто наведывался к ним в палатку, но мне так и не удалось раскрыть их секрет.
Холодный блеск ранней весны выбивал ослепительное слюдяное сияние из песчаниковых анфилад гор. Были они ужасающе бесплодными, так как тамошняя скудная почва могла вскормить только те растения, которые любят сухие, засушливые места: покрытые колючками кактусы да низкорослые, кособокие цветы, напоминающие ромашки, чьи стебли столь гибки и неподатливы, что об них легко порезать руку. Угрюмая дорога вела нас к угрюмому предназначению, поскольку город, функционировавший не больше и не меньше как фактория, оказался столь же гнетущим, как и перпендикулярные перспективы вокруг нас. Мы миновали огромный мост над могучей рекой в самой унылой из когда-либо виденных мною долин и обнаружили город, взгромоздившийся наподобие орла на обрывистое скальное обнажение над стремительным горным потоком. Город этот оказался переполнен злобными святошами. Замкнувшиеся сами на себе в своей изоляции, были они плодом близкородственных браков между поляками с Карпат и горцами-французами, чьи праотцы бежали из Европы в конце семнадцатого – начале восемнадцатого века из-за преследований, которым подверглись безупречно добросовестные секты реформированной религии, к каковым они принадлежали. Среди них были и кальвинисты, и янсенисты; и в конце концов в городе развился и отстоялся такой суровый купаж самых умерщвляющих аспектов обоих учений, что я дивился, как они вообще допускали у себя карнавал, ибо, как правило, они увеселяли себя единственно гимнами простейшей мелодической структуры. Однако высокогорный разреженный воздух стал причиной нескольких довольно специфических изменений в их обычаях. После Великого поста, во время которого они пили одну только воду, а ели лишь бобы, в Страстную пятницу они не покидали наглухо задраенных домов, в которых предавались размышлениям о присущем человечеству зле, после чего посвящали всю Пасхальную неделю излишествам, подвергая себя всем мыслимым искушениям плоти. Каковые, по их мнению, достаточно хорошо представляла ярмарка. Мой циничный друг, Человек-Аллигатор, был польщен, обнаружив, что его называли здесь сиреной, и принялся сладострастно прихорашиваться в своем резервуаре. Могу добавить в качестве самооправдания, что до некоторой степени все мы стали более похотливыми..»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































