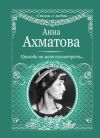Текст книги "Я научила женщин говорить"

Автор книги: Анна Ахматова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
После смерти Сталина появилась надежда… Но убийственное «Постановление» о Зощенко и Ахматовой оставалось в силе.
Чего требует цензура?
Лидия Чуковская
«Записки об Анне Ахматовой»
Анна Андреевна рассказала мне увлекательнейшую новеллу – происшествие четырехдневной давности:
– Я позвонила в Союз, Зуевой, заказать билет в Москву. Ее нету. Отвечает незнакомый голос. Чтобы придать своей просьбе вес, называю себя. Боже мой! Зачем я это сделала! Незнакомый голос кричит: «Анна Андреевна? А мы вам звоним, звоним! Вас хочет видеть английская студенческая делегация, обком комсомола просит вас быть». Я говорю: «Больна, вся распухла». (Я и вправду была больна.) Через час звонит Катерли: вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили. (Так прямо по телефону всеми словами.)
Я предложила выход: найти какую-нибудь старушку и показать им. Вместо меня. Но она не согласилась.
За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало… Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они расспрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? долго ли это тянется? чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Потом они спросили: изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46 годом? отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили m-r Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо… Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа – и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии – я считаю совершенно правильными».
Молчание. По рядам прошел глухой гул – знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание. Потом кто-то из них спросил: «Известно ли вам, что у нас пользуются большой популярностью именно те произведения m-me Ахматовой, которые здесь запрещены?» Молчание. Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенке и не хлопали m-me Ахматовой»? «Ее ответ нам не понравился…» – или как-то иначе: «…нам неприятен»…
Таков был ее рассказ, повергнувший меня в смятение. Что же эти англичане – полные невежды, дураки, слепые или негодяи? Зачем им понадобилось трогать руками чужое горе? Людей унизили, избили, а они еще спрашивают: «Нравится ли вам, что вас избили? Покажите нам ваши переломанные кости!» А наши-то – зачем допустили такую встречу? Садизм.
…Мне неизвестно, в каком именно году прекратили преподавать доклад Жданова в школах, – но во всяком случае в 55-м всесоюзное издевательство еще продолжалось.
Ахматова ни на минуту не забывала о сыне-заложнике – ее ответ был «идеологически выдержанным», и на ней и Льве эта опасная встреча не отразилась. Зощенко позволил себе слабое сопротивление – и его, словами Анны Андреевны, пригласили на «второй тур».
В июне состоялось общее собрание писателей Ленинграда, на котором «прорабатывали» бунтовщика. Зощенко повторил то, что он говорил на встрече с английскими студентами. Сказал, что во многом ошибался, но с критикой всех своих работ, критикой, перечеркивающей всю его жизнь, не может согласиться. Последние слова Михаила Михайловича на собрании, согласно воспоминаниям Даниила Гранина, были такими:
«Я могу сказать – моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын… У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения – ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».
После этого для писателя Зощенко не осталось работы во всем Советском Союзе… Анна Андреевна полагала, что он поступил опрометчиво, что он – «человек наивный»:
«Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: “Сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился…” Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так. Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, – он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологии. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым…»
Но скорее всего, даже если бы Зощенко отвечал вторым, по-другому он бы не сказал…
8 мая 1954
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«Узнав, что в Ленинграде я побывала у Зощенко, Анна Андреевна потребовала полного отчета об этом посещении. Я торопилась, но не могла отказать ей. Она выспрашивала все подробности: какая комната? как он выглядит? как и что говорит?
Я постаралась ответить возможно точнее. Комната большая, опрятная, пустоватая, с остатками хорошей красной мебели. Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное – у него нет возраста, он – тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный – предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень деликатности, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан… Заботливо расспросив, отчего умерла моя мать, он выразил уверенность, что если бы врачи владели тем методом психотехники, который открыт им, Михаилом Михайловичем, она безусловно до сих пор была бы жива.
Тут Анна Андреевна перебила меня:
– Бедный Мишенька! Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура.
Я продолжала: был он со мною доверчив, внимателен, ласков (хотя мы и не виделись лет 20), расспрашивал о Люше. О себе сказал: “Самое унизительное в моем положении – что не дают работы. Остальное мне уже все равно”.
Пожаловался, что ничего не ест, что даже с помощью психотехники не может заставить себя есть.
– Он боится, его отравят. Мне говорили, – сказала Анна Андреевна. – Вот в этом все дело.
…Провожая меня в переднюю, она снова повторила:
– Человека убили. Не выдержал второго тура».
7 августа 1955
Памяти М.М. Зощенко
Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят…
1958, Комарово
Корней Иванович Чуковский. «Дневник»
«8 марта. У Всеволода Иванова (блины). Встретил там Анну Ахматову впервые после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную, с начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 г. – сорок два года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: “Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие – и убедилась, что, в сущности, это одно и то же”».
1954
О десятых годах
Ты – победительница жизни,
И я – товарищ вольный твой.
Н. Гумилев
И никакого розового детства…
Веснушечек и мишек, и игрушек,
И добрых тёть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений, —
Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь.
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина.
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,
И выходили люди и кричали:
«Она пришла, она пришла сама!»
А я на них глядела с изумленьем
И думала: «Они с ума сошли!»
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить,
И тем сильней хотелось пробудиться.
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, – но длилась пытка счастьем.
4 июля 1955, Москва
Лидия Корнеевна Чуковская
«Я спросила о здоровье.
– Сердце как утюг. Вчера целый день лежала… опять Левино дело ни с места».
«Она накалена ожиданием. Во вторник обещан ответ насчет Левы…»
«Сегодня она светла и радостна: Левино дело, судя по обращению прокуратуры с Эммой Григорьевной, будет вот-вот решено…»
Доклад Хрущева о некоторых сторонах прошедшей эпохи Анна Андреевна, как и многие в стране, посчитала началом нового времени. «Разоблачить Сталина – это ведь значит вернуть домой миллионы людей и произнести правду о “замученных и убиенных”».
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«Анна Андреевна стояла, слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, но как будто не для меня одной, а с трибуны.
Мы стояли друг против друга – в маленькой комнате, в ясном свете окна, между столом и тахтой.
– Сталин, – говорила Анна Андреевна, – самый великий палач, какого знала история. Чингиз-хан, Гитлер – мальчишки перед ним. Мы и раньше насчет него не имели иллюзий, не правда ли? а теперь получили документальное подтверждение наших догадок… Оглашены распоряжения товарища Сталина – эти резолюции обер-палача на воплях, на стонах из пыточных камер. О врачах он сказал министру: “Если вы не добьетесь, чтобы они признались, полетит ваша голова”. Прекрасно звучит в этом контексте выражение “не добьетесь”. Я надеюсь, эти слова будут запечатлены в учебниках и школьники будут их учить наизусть…
Звонили друзья, просились в гости: Наталия Иосифовна, еще кто-то. Но Анна Андреевна не приняла никого.
– Нет, – сказала она мне, вернувшись очередной раз от телефона. – Я и подходить больше не стану. Этот праздник мы будем праздновать с вами вдвоем.
Праздновали мы так: Анна Андреевна велела смочить полотенце холодной водой, легла и положила его себе на лоб.
Я села возле. Фадеев послал письмо о Леве. Радость – но даже и эта радость тонет в лучах хрущевской речи.
– Того, что пережили мы, – говорила с подушки Анна Андреевна, – да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! – не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы – все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли – мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь – шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье. Невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили».
4 марта 1956
15 апреля 1956 года, в день рождения Николая Гумилева, после восьми лет каторги вернулся домой ее сын.
* * *
…Как! Только десять лет, ты шутишь, Боже мой,
О как ты рано возвратился,
Я вовсе не ждала – ты так со мной простился
Какой-то странной и чужой зимой.
И даже просмотреть те сотни тысяч строк,
Где сказано, как я бесчестна и преступна.
1956
Сон
Сладко ль видеть неземные сны?
А. Блок
Был вещим этот сон или не вещим…
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
Он был во всем… И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.
14 августа 1956
* * *
Не с лирою влюбленного
Иду пленять народ —
Трещотка прокаженного
В моей руке поет.
Успеете наахаться,
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Всех «смелых» – от меня.
Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.
<1956>
«Я застал женщину, почти мне незнакомую…»
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«Мне хочется написать большими буквами:
ВЕРНУЛСЯ ЛЕВА
Анна Андреевна приехала 14-го. А 15-го, ничего не зная о ней, зашел к Ардовым, по дороге в Ленинград, освобожденный Лева.
Любо видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос.
Мы вошли в маленькую комнату. Там – клубы папиросного дыма.
– Накурил Левка! – сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой».
Лев Гумилев. «Автонекролог»
«В 56-м году, после XX съезда, о котором я вспоминаю с великой благодарностью, приехала комиссия, которая исследовала дела всех заключенных (кто за что сидит), и единогласно вынесла мне “освобождение с полной реабилитацией”. Этому помогло то, что профессор Артамонов, профессор Окладников, академик Струве, академик Конрад написали по поводу меня положительные характеристики».
(Аудиозапись 1987 г.)
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«На второй день, когда мы были с Анной Андреевной одни, вдруг отворилась дверь и вошел человек с резкими морщинами у глаз и на лбу, с очень определенно очерченным и в то же время дряблым лицом.
– Вы не знакомы? – спросила меня Анна Андреевна.
– Нет.
– Это мой сын.
Лева!
Я не узнала его от неожиданности, хотя мне и говорили, что он в Москве.
Ощущение огромности и малости вместе. Так бывает в любви. Гадания по стихам; странные совпадения в датах; сердце, обрывающееся в колени от каждого телефонного звонка и почтальонного стука; дрожащие листки письма, а потом окажется, – это всего лишь человек: не больше и не меньше; человек – голова, руки, ноги. Такая огромная и такая обычнейшая из обычных малость: человек. Вот он передо мною; слово из четырех букв: Лева. Не мои – все ее бессонницы, сны, невстречи и встречи, окошечки над заплеванным полом, красное сукно на столах, заявления, повестки, посылки, волосок, вложенный в тетрадку стихов, и стихи в огне… Два десятилетия ее жизни. Материализованное время: десятилетия, и материализованное пространство: тысячи километров. И это, оказывается, просто человек – и он здесь, в этой комнате. Его можно тронуть рукой или назвать по имени.
“Мама”. “Сынуля. Детонька”.
Стены этой комнаты пропитаны мыслями о нем, стихами – ему. И снег, и деревья, и заря за окошком. И рубцы от инфарктов на мышце ее сердца».
Увы, отношения между сыном и матерью испортились почти сразу же. Лев Николаевич посчитал, что Анна Андреевна встретила его «крайне холодно», что она «потеряла к нему всякий интерес», находясь «под влиянием Ардовых и их компании». Ахматова, в свою очередь, сочла сына неблагодарным.
Лев Гумилев. «Автобиография. Воспоминания о родителях»
«…Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину почти мне незнакомую. Ее общение с московскими друзьями – с Ардовым и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого, – очень повлияло на нее, и она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. И даже не поехала со мной из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала одна сослуживица (Т.А. Крюкова. – Ред.), после чего мама явилась, сразу устроила скандал – как я смел вообще прописываться?! После этого… тех близких отношений, которые я помнил в своем детстве, у меня с ней не было.
Я поступил работать в Эрмитаж, куда меня принял мой старый учитель профессор Артамонов… Там я написал книгу “Хунну”, написал диссертацию “Древние тюрки”, которую защитил в 1961 году. Маме, кажется, очень не нравилось, что я защищаю докторскую диссертацию. Почему – я не знаю.
Иногда я делал ей визиты, но она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее… 30 сентября 1961 года мы расстались, и я больше ее не видел, пока ее не привезли в Ленинград, и я организовал ее похороны и поставил ей памятник».
(Аудиозапись 1985 г.)
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«Я поздравила Анну Андреевну с Левиной диссертацией, передала ей… что Конрад считает его великим ученым.
– Этот великий ученый не был у меня в больнице за три месяца ни разу, – сказала Анна Андреевна, потемнев. – Он пришел ко мне домой в самый момент инфаркта, обиделся на что-то и ушел. Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, что я не раззнакомилась с Жирмунским: Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации. Подумайте: парню 50 лет, и мама должна за него обижаться! А Жирмунский был в своем праве; он сказал, что Левина диссертация – либо великое открытие, если факты верны, либо ноль – факты же проверить он возможности не имеет… – Бог с ним, с Левой. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушали: твоя мать такая знаменитая, ей стоит слово сказать, и ты будешь дома.
Я онемела.
– А мою болезнь он не признает. “Ты всегда была больна, и в молодости. Все одна симуляция”».
…
«…Я, конечно, давно уже чувствовала, что между Левой и Анной Андреевной неладно, – однако чувствовать или услыхать – большая разница. То, что сказано было мне в больнице Анной Андреевной, теперь вполне подтвердила Нина. Лева и в самом деле верит, будто он пробыл в лагере так долго из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевны.
Я – многолетняя свидетельница ее упорных, неотступных хлопот, ее борьбы за него. Больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, ходатайств через посредство влиятельных лиц. Всю свою жизнь она подчинила Левиной каторге, всё, даже на такое унижение пошла, как стихи в честь Сталина, как ответ английским студентам. И от драгоценнейшей для себя встречи отказалась, боясь повредить ему. И сотни строк перевела, чтобы заработать на посылки ему, сотни строк переводов, истребляющих собственные стихи.
А Лева, воротившись, ее же и винит!.. Но, подумала я, искалечен он не только лагерем: и юностью, и детством. Между родителями – разлад. Отец расстрелян. Нищета. Отчим. Он – обожаемый внук, единственный и любимый сын, но оба родителя вечно были заняты более своею междоусобицей, чем им; мать – “…измученная славой, // Любовью, жизнью, клеветой”, – не это ли давнее, болезненное детское чувство своей непервостепенности он теперь вымещает на ней?»
* * *
Забудут? – вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.
21 февраля 1957, Ленинград
Как все уже было давно… И первый день войны, который еще недавно был таким близким, и день Победы, который, кажется, еще вчера стоял за плечом, и 14 августа 1946… И это уже история. Недавно были переводы, которые я сдала и не сдала, замоскворецкое житие и те сосенки, которые сейчас сердито качаются на фоне белой ночи.
«Здесь северно очень – и осень в подруги я выбрала в этом году», – писала я в прошлом году, и как это уже далеко, а я собралась сейчас описывать 90-е годы XIX века!
1957
* * *
Вижу я,
Лебедь тешится моя.
Пушкин
Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду.
Не притронусь я дулом к виску.
Смерть стоит всё равно у порога,
Ты гони ее или зови.
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови.
А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Что ж, прощай. Я живу не в пустыне.
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни.
В остальном я сама разберусь.
9 апреля 1957, Москва, Ордынка
Хрущевская оттепель, так вдохновившая Анну Андреевну, оказалась не слишком-то теплой. Борис Пастернак, рискнувший опубликовать «Доктора Живаго» за границей (и не отказавшийся принять Нобелевскую премию), немедленно почувствовал на себе, как крепки ждановские традиции… Анна Андреевна, «гений тревоги, мастер зловещих предчувствий», предсказала Борису Леонидовичу горькую участь – и не ошиблась.
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«Длится пастернаковская Страстная неделя.
Сегодня “Правда” спустила на Пастернака Заславского.
Этот “публичный мужчина”, из тех, кто торгует красой своего слога (если воспользоваться терминологией Герцена), призван, видите ли, напомнить Пастернаку (он – Пастернаку!) о совести, о долге перед народом.
…К вечеру в городе распространился слух: Пастернак исключен из Союза писателей.
… Прочитала речь Семичастного в “Комсомольской правде”. Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать.
Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это обыкновенно. Потом – образ не выдержан! – овца превращается в свинью:
“Иногда мы… совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, – все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает…
Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. (Аплодисменты.)”
Самое примечательное тут слово – кушает. “Свинья кушает”. Вот он кто такой, товарищ Семичастный. Он полагает, что слово “ест” – грубое слово, а сказать о свинье «кушает» – это представляется ему более интеллигентным».
26 октября 1958
* * *
И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.
1957
При том, что Анна Андреевна считала Пастернака одним из крупнейших поэтов Европы XX века, любила его и долгие годы сохраняла с ним дружбу (хотя он и «делал ей предложение трижды»), она не упускала случая сказать колкость по его адресу.
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«О Борисе Леонидовиче сказала:
– Жаль его! Большой человек – и так страдает от тщеславия.
Мне показалось, она неправа. Разве это непременно тщеславие? У него, видимо, творческое кровообращение нарушено от насильственной разлуки с аудиторией. Слушатели, читатели ему, видимо, необходимы.
– Разлучить Пастернака с читателями – это, разумеется, преступление, – сказала Анна Андреевна, – но он-то почему не умеет извлечь из этой разлуки новую силу? Для своей поэзии?»
И несмотря на свое горячее сочувствие нобелевскому лауреату, Ахматова не удержалась от того, чтобы сравнить свои и его злоключения.
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«Заговорили о Борисе Леонидовиче.
– Добрая старушка Москва изобрела, будто шведский король прислал нашему правительству телеграмму с просьбой не отнимать у Пастернака “поместье Переделкино”. Вздор, конечно. Но если это правда, то он не король, а хам: где он был, когда меня выселяли из Шереметевского дома? – Она даже порозовела от негодования. – Не сказал ни словечка! А ведь по сравнению с тем, что делали со мною и с Зощенко, история Бориса – бой бабочек!
“А по сравнению с тем, что сделали с Мандельштамом или с Митей, история Ахматовой и Зощенко – бой бабочек”, – подумала я.
Конечно, ее мука с пастернаковской несравнима, потому что Лева был на каторге, а сыновья Бориса Леонидовича, слава Богу, дома. И она была нищей, а он богат. Но зачем, зачем ее тянет сравнивать – и гордиться?
“Сочтемся мукою, ведь мы свои же люди…”
7 декабря 1958
* * *
Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.
Но самой проклятой восходит заря…
Я знаю: колотится сердце не зря —
От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.
И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,
Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.
Я все заплатила до капли, до дна.
Я буду свободна, я буду одна.
На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,
Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый
И к брюху мостов подкатила вода? —
И всё как тогда, и всё как тогда.
Все ясно – кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово поле,
А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,
И там попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец – дурной человек.
Лето 1944, июль 1959,
Ленинград
Анна Андреевна сумела выдержать, пережить своего гонителя. Бориса Леонидовича хватило на полтора года всесоюзной травли: 30 мая 1960 года он умер в «поместье» Переделкино от рака легких, полученного, по мнению его биографа Дмитрия Быкова, на нервной почве. Ахматова приезжала к нему в больницу, но увидеться с другом ей уже не удалось…
Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
«…Анна Андреевна принимала гостей, сидя в кресле “в собственной гостиной”, как называет она небольшую, довольно обшарпанную комнату между коридором и балконом. Она с некоторой торжественностью поблагодарила меня за то, что в прошлый свой приход я не утаила от нее предсмертных вестей о Пастернаке.
– Единственное, чем можно облегчить удар, – это подготовить к нему. Вы это сделали. Когда мне сообщили о смерти Бориса, я не была не готова. (Подумайте, какие слова мы выговариваем спокойно: умер Борис Пастернак.)
Анна Андреевна… вынула из сумки какую-то книжечку и, предупредив меня: “Вторая строка еще в работе”, прочитала:
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул вождь,
Он превратился в жизнь несущий колос
Или в тончайший, им воспетый, дождь.
Дальше не помню. Дальше про цветы.
– Не говорите мне, пожалуйста, – с раздражением сказала Анна Андреевна, хотя я еще и рта не открыла, – что слово “вождь” истаскано и неуместно. Знаю сама. Спасу эпитетом.
Помолчали.
– Ему очень много будет написано стихов. Ему – и о его похоронах. А памятник, я думаю, следует поставить либо на Волхонке, либо против почтамта. Там, кажется, сейчас стоит Грибоедов. Но Грибоедова можно переставить; ему ведь все равно, где, лишь бы в Москве».
1 июня 1960
Смерть поэта
Как птица мне ответит эхо.
Б.П.
1
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное… Земли.
1 июня 1960
2
Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.
11 июня 1960
Москва. Боткинская больница
О себе скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. «Знакомить слова», «сталкивать слова» – ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь – точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается, люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Сама я тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее.
X. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует – просто невозможно.
1959
Поэт
Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.
И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,
Немного у жизни лукавой,
И все – у ночной тишины.
Лето 1959, Комарово
Читатель
Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным. О нет! —
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.
И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело.
А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.
Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.
И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,
За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной…
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.
Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.
23 июля 1959, Комарово
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.