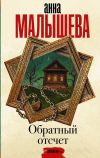Текст книги "Обратный отсчет"

Автор книги: Анна Малышева
Жанр: Остросюжетные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
За время его отсутствия были откопаны еще четыре ступени. Начиная со второй сверху, вдоль лестницы прослеживалась осыпавшаяся каменная кладка.
– Дом был, наверное, деревянный, – рассуждал старший таджик, – а подвал каменный. Это, наверное, прошлый век.
– Девятнадцатый? Так это уже позапрошлый. – Дима не стал называть таджикам истинный возраст развалин. Все-таки, решил он, они не на экскурсии. – Да, скорее всего, так. Интересно, глубокий ли подвал?
– Думаю, яма будет метра два, не меньше, – задумался тот. – Чтобы в нем можно было хоть стоять… А крыши нет – наверное, была из бревен. Сгнила. Правда, дерева нам совсем не попадается…
– Так это когда оно здесь было! – возразил Дима, попутно прикидывая – могли ли бревна целиком сгнить лет за сто пятьдесят? В этих вопросах он был совершенно неопытен. – Ребята, как вы думаете, сколько времени это все займет?
– Смотря что, – резонно ответил старший. – Если все это раскопать, расчистить – то, может, недели две. А если еще на что-то наткнемся – тогда не знаю. Мы никогда раньше таким не занимались.
– Прямо как на раскопках, – подтвердил восторженный Иштымбек. Дима кивнул и, глядя на его довольное лицо, решил, что насчет древних могил им в общежитии ничего не сообщили. Пожелав таджикам удачи, он зашел в дом.
– Вот лекарство, – начал было он, подходя к Елене Ивановне. Судя по ее виду, она вполне пришла в себя и теперь полусидела на постели, опираясь спиной на подложенные подушки, собранные Марфой по всему дому. Однако его услужливость не встретила понимания.
– Сам его пей! – Женщина метнула на него едкий неприязненный взгляд. – Откуда я знаю, что там!
– Елена Ивановна, – устало подала голос Марфа, сидевшая за столом. Когда вошел Дима, она дремала, положив голову на сложенные перед собой руки. – Что вы придумываете? Какой нам смысл вас травить?
– Какой? – разъяренно выпрямилась та, резко садясь в постели. – А дом? А Людина доля? А наша дача?! Я ее наследница, если уж на то пошло! Вы нам деньги должны!
– Ух, – поморщилась Марфа и махнула рукой, словно отгоняя надоедливую муху. – Нужны нам ваши деньги! Хотите – отдадим?
– Да? – насторожилась та. – А ты-то что суетишься? Не ты брала!
– Ну и что? Вы же и меня невесть в чем обвиняете. Дима, сколько вложила Люда в покупку дома?
– Половину. Двадцать пять тысяч долларов. Марфа, не думаешь же ты…
– Как раз думаю, – она растерла ладонями сонное лицо. Взгляд стал блестящим и внимательным. – Елена Ивановна, вы знаете, что ваша дочь дала Диме деньги без расписки?
Вместо ответа женщина издала невразумительное рычание. Она задыхалась от злобы, переводя лихорадочно горящий взгляд с Марфы на Диму и обратно, словно выбирая, на кого броситься первым делом.
– Люда доверяла ему, в отличие от вас. – Нравоучительный тон должен был еще больше бесить гостью, и Дима сделал предостерегающий знак, но Марфа не удостоила его и взглядом. – Она отдала ему деньги, не внесла своего имени в договор купли-продажи, словом – в глазах закона она вообще не давала ему никаких денег и не является собственницей этого участка. Что скажете?
– Я добьюсь… – захлебывалась обрывками слов женщина, чье лицо стало положительно страшным. – Сволочи… Докажу! Мерзав…
– Елена Ивановна, вы сами сказали, что являетесь ее наследницей. Пока Люды нет, вы в любом случае можете что-то за нее решать, – рассудительно продолжала Марфа, не обращая внимания на состояние собеседницы. – Я знаю, что этот дом вам не нужен, а Люда хотела его купить из какого-то каприза. Может, она успела об этом пожалеть. Хотите, я отдам вам ее деньги? Все двадцать пять тысяч долларов?
– Марфа, – Дима отчаянно дергал ее за рукав, – зачем?! Люда же еще не… Что она скажет, если…
– Вы согласны? – Та отцепила его руку, даже не взглянув на него. – Деньги я могу дать хоть завтра. Придется ехать в Москву, в банк.
– Тебе это зачем? – выговорила наконец Елена Ивановна, временно лишившаяся дара речи.
– А затем, что вы не будете больше думать, будто мы что-то сделали с вашей дочерью, которую, между прочим, тоже любили! – веско заявила та. – И чтобы вы получили обратно свои деньги – ведь проданная дача была ваша. Я просто возьму с вас расписку, что вы получили обратно всю сумму, данную вашей дочерью в долг Диме для приобретения дома по этому адресу. Дата, паспортные данные, подпись. Все.
– Так ты свои деньги отдашь? – все еще не верила Елена Ивановна. Она, видимо, растерялась, взгляд стал беспомощным и жалким. Уверенность в себе эта женщина ощущала, лишь когда злилась.
– Ну да, свои. А Дима потом мне их отдаст. Он ведь, в конце концов, хозяин. – Марфа взглянула на собеседницу ласковым прямым взглядом. – Вот и подумайте, стоит нам ссориться? Никто вас не обманывает, не грабит, а тем более – не травит. Примите лекарство!
И та покорилась. Марфа надломила две стеклянные ампулы, вылила их содержимое в стопку, развела водой и даже посочувствовала больной, пожаловавшейся, что лекарство отвратительно горькое.
– Значит, деньги завтра? – отдышавшись, уточнила Елена Ивановна, откидываясь на подушки, заботливо взбитые Марфой.
– Завтра, – подтвердила та. – Хотите – поедем в банк вместе?
Но та не согласилась – убеждение, что она не должна покидать Александрова из-за дочери, стойко укрепилось в сознании женщины. Марфа чуть поджала губы, и Дима отлично ее понял. Присутствие при раскопках такого свидетеля ничего хорошего не сулило, тем более сейчас, когда рабочие все больше углублялись в засыпанный землей подвал. По мнению Димы, если где и должен был храниться клад – так это там.
– Нет, ты уж сама съездишь и привезешь. – Елена Ивановна прикрыла глаза, ее дыхание постепенно становилось глубже и ровнее. – Тут и Гриша при смерти, и Людка, сердцем чую, тоже где-то здесь… И в милиции меня просили далеко не уезжать.
– Почему? – удивилась Марфа, кутавшая ей ноги старым ватным одеялом. – При чем тут вы?
– А я все рассказала про Люду. И что она хотела исчезнуть понарошку, и что просила меня подыграть… И что теперь третий день не звонит. Они меня попросили письменные показания дать – я дала.
– О господи! – Дима прикрыл глаза ладонью. – Зачем вы это сделали?!
– Как зачем? Чтобы ее искали!
– Да ее же искали! Что вы наговорили?! Если они вам поверят, то прекратят розыск и будут правы! Не искать же всякую, которой вздумается морочить голову…
– Постой, – оборвала его на опасном месте Марфа, – ты не прав. Насколько я понимаю, вы, Елена Ивановна, просто кое-что уточнили, да? Вы же не просили прекратить поиски?
– Да какая разница! – воскликнул Дима. У него было такое ощущение, что ему нанесли удар под дых. – Они же будут только рады избавиться от лишнего геморроя! Формально оставят в розыске, а копать перестанут! Получится, как с тем мальчиком, который кричал понарошку «Волки, волки!», а когда волки прибежали по-настоящему, на помощь никто не пришел, и его сожрали!
– Да что я такого сделала? – окончательно растерялась Елена Ивановна. – Не надо было туда ходить?
– В общем, не надо, наверное, – пожала плечами Марфа. – Но я особой беды не вижу.
– А я вижу! – рявкнул Дима, выведенный из себя ее олимпийским спокойствием. – Если бы хоть знали, у каких знакомых в Александрове она пряталась, – был бы толк! Они бы хоть туда сходили…
– Да я сама бы туда сходила, – мрачно ответила Елена Ивановна, которая явно прониклась его словами. – Не знаю, вроде они на меня не сердились… Переспрашивали только и по кабинетам погоняли… А так все выслушали, записали…
Дима безнадежно махнул рукой. В этот миг у него впервые появилось ощущение настоящей катастрофы. Мать, желая Люде исключительно добра, скомпрометировала ее в глазах закона как симулянтку. Марфа, выкупая долю подруги, мягко и настойчиво отстраняла ее от дела окончательно. Все было ясно без слов, все казалось логичным и даже великодушным – если Люда не вернется, почему из-за ее авантюры должна страдать пожилая женщина? А Люда не вернется…
Он встретил взгляд Марфы – внимательный и вопрошающий. Отвел глаза:
– Пойду посмотрю на рабочих.
– Да, и сходи в магазин, – попросила та. Ее голос звучал буднично, и трудно было поверить в то, что только что она морально похоронила подругу. – Купи чего-нибудь, что полежит без холодильника. Консервы, хлеб, колбаса, фрукты… Сообразишь?
Дима молча вышел и, не задерживаясь в саду, оказался в переулке. И снова его поразило то, насколько легче здесь дышалось – с плеч как будто упала тяжелая ноша. «А если все бросить? – пришла ему в голову крамольная мысль. – Я купил этот дом десять дней назад, даже свидетельства о госрегистрации права еще не получил… А столько уже случилось! Марфе нужна победа, она была нужна и Люде… А мне?» Он впервые задал себе этот вопрос и не смог ответить. Желал ли он найти клад? Верил ли в него по-настоящему или только поддавался чужому влиянию? Стал бы он начинать эти раскопки, если бы рядом не оказалось Марфы?
«Никогда! – В этом он не сомневался. – Я бы ждал, когда придет кто-то и все сделает за меня, а ведь я не лентяй! Я просто… Не хочу найти этот клад. Вот именно – не хочу!»
Эта мысль была такой ясной и ослепительной, что он остановился посреди переулка, забыв, куда идет. Если бы его сейчас окликнули, он бы подскочил – настолько ушел в себя.
«Не хочу? В самом деле не хочу… – Он снова пошел, медленно, не глядя на дорогу, разговаривая с собой. – Тогда почему я должен? Деньги Люды… Но это я должен отдать их Елене Ивановне. Могу? Могу, у меня как раз нужная сумма в банковской ячейке. Мы с Людой планировали потратить их на раскопки. Марфа? Сказать ей, что ее участие не нужно, заплатить за все ее хлопоты, возместить расходы… Не позволять платить Елене Ивановне! А… Что дальше?»
При мысли о возможной реакции подруги ему стало не по себе, но все же это было пустяком по сравнению с тем ужасом, который он испытывал перед раскопками. Марфа устроит истерику, возможно полезет драться и уж, конечно, пригрозит оглаской. Она не из тех, кто смиряется с дисквалификацией посреди дистанции. Она – чемпионка. Ему вспомнился рассказ Люды о том, как Марфа несправедливо была обойдена золотой медалью в школе и от этого так захворала, что попала в больницу. Что с ней будет теперь? Диму мучило детское желание убежать, спрятаться и предоставить событиям распутываться самим. Ведь это так просто – рядом станция, даже отсюда слышно, как идут поезда… «Поезда? Нет, их почему-то не слышно. А я ведь иду к станции?»
Дима остановился и с удивлением огляделся. Задумавшись, он свернул не в тот переулок и теперь медленно, но верно удалялся от искомой цели – продуктового магазина у станции. Здесь все было незнакомо и казалось заброшенным. Тупик, окруженный стенами каких-то ветхих складских помещений, штабеля ржавых рельсов вдоль дороги, под ногами – куски асфальта, положенного лет двадцать назад, не меньше. И ни души, если не считать нескольких бродячих собак, робко поглядывавших на незнакомца, забредшего в их пустынное царство. «Будто на другой планете. Как я сюда забрел?»
За спиной послышались чьи-то торопливые шаги. Дима обернулся и увидел Марфу. Она бежала, чуть прихрамывая, и на ходу взмахивала рукой. Дима пошел к ней навстречу, и она остановилась, с трудом переводя дух и поправляя спутанные волосы.
– Что случилось? – с тревогой спросил он. – Елена Ивановна? Или… Нашли что-то?
– Нет, но ты… – Марфа судорожно глотнула воздух, – куда ты идешь?
– Сам не знаю. – Он огляделся. – Задумался, свернул не туда. А ты что – забеспокоилась? Решила, что заблужусь?
– Боже мой. – Она нерешительно протянула руки, положила ладони ему на плечи, испытующе заглянула в лицо. Ее взгляд, неуверенный и вопросительный, казалось, стремился обыскать его душу. – Мне показалось, что ты уходишь совсем… Не знаю, что-то кольнуло меня, когда ты вышел из дома… Я пошла за тобой, окликнула, но ты не слышал… А потом свернул не туда. Я стояла в переулке, ждала, что ты вернешься, но тебя не было… Я испугалась! Ты… Сердишься?
– За что? – Он отвел глаза, осторожно, стараясь не обидеть женщину, снял ее руки с плеч. Марфа прерывисто вздохнула и вдруг сильно, чуть не до боли, обняла его:
– Сердишься! Но пойми, я только хотела ее успокоить! Она в таком состоянии… Ты же видел – как узнала, что получит свои деньги, сразу стала вести себя по-человечески.
– А что скажет Люда, если вернется и мама предъявит ей такую расписочку, как ты просила?
Марфа чуть ослабила хватку, отстранилась, заглядывая ему в лицо:
– Она не вернется. Неужели ты в это еще веришь?
– Я не знаю. – На этот раз он освободился резче, и женщина покорно опустила руки. – С твоей стороны очень благородно отдать эти деньги ее матери… Но лучше это сделаю я.
– Почему?! – Марфа стиснула пальцы так, что послышался хруст суставов. – Какая муха тебя укусила? Ты расстроился из-за того, что я придумала этот выкуп? Или из-за того, что Елена Ивановна наговорила в милиции?
– Я из-за себя расстроился, – отрезал он. – Знаешь, я благодарен тебе за участие, но… Раскопки нужно остановить. Твои расходы я возмещу, и на этом… В общем, становимся.
Некоторое время Марфа молча смотрела – не на него, а сквозь него, то ли на ржавые рельсы, то ли на заколоченные склады, то ли на стаю бродячих собак, подкравшихся поближе к людям в надежде на подачку. Выражение ее лица не изменилось, взгляд не выражал ровно ничего – она как будто впала в летаргический сон с открытыми глазами. Был момент, когда и ему все это показалось сном – и тупиковый переулок, дремлющий под ярким майским солнцем, и женщина с застывшим бледным лицом, смотрящая ему за плечо пустыми зелеными глазами, и даже он сам, неизвестно как здесь оказавшийся. Несмело тявкнула собака. Марфа вздрогнула и очнулась.
– Неужели ты не понимаешь, что остановить ничего нельзя? – спросила она ровным, чуть сочувственным тоном, каким говорят с человеком, не понимающим очевидных вещей.
– Можно и нужно.
– Значит, ты даешь деньги Елене Ивановне, мне, отсылаешь нас прочь, достаешь клад… Так? – Она все еще говорила очень спокойно, глаза сохраняли отсутствующее выражение, и Дима видел – все это только маскировка ее истинного состояния. И очень скоро эта маскировка не выдержит давления изнутри…
– Я не собираюсь доставать клад. – Он тоже постарался придать голосу спокойствие. – Без тебя все равно пороху не хватит.
– И ты считаешь меня компаньонкой?
– Разумеется. Ты во все посвящена, ты в деле… Ты вообще его главный двигатель.
– Так зачем останавливаться? – Она чуть оттаяла, в ее голосе послышались живые, тревожные нотки. – Все идет отлично, мы откапываем подвал. Таджики будут молчать! Я прибавлю им еще премиальные, а проблемы с законом им самим не нужны. Скажи, отчего ты вдруг… Плохое настроение? Почудилось что-то?
Теперь она говорила почти нежно, но Дима никак не мог заставить себя взглянуть ей в глаза. Ему чудилось, что он снова встретит тот застывший мертвый взгляд, взгляд – бронированное стекло, в которое билась изнутри яростная буря.
– Да, мы компаньоны, но не забывай, что владелец участка – я, – твердо сказал он. – И у меня есть свое мнение насчет раскопок. Их надо временно остановить. Даю слово, что без тебя ничего не трону.
– Да какой в этом смысл?! – В отчаянии воскликнула она. – Пять минут назад ты об этом не думал! Что случилось?
– Не знаю, поймешь ли ты… Мне кажется, сейчас не время.
– Постой, – она лихорадочно кусала губы, – ты думаешь, мы привлекаем слишком много внимания? Сейчас тут и милиция, и Людина мать… Бельский вот некстати умирает…
– В самом деле, что бы ему немного подождать! Никакого воспитания! – съязвил Дима. – Опомнись, сумасшедшая! Мы же ведем себя как отморозки, которым на все плевать! А прежде всего – на Люду! Ты что – совсем озверела с этим кладом? Подожди!
– Чего?! – грозно рявкнула она, подавшись вперед и сжав кулаки. – Что за истерика?! Ты струсил?!
– Мы займемся раскопками, когда вернется Люда.
– Она не вернется! – Женщина прижала ладони к груди и покачала головой, глядя на Диму как на сумасшедшего. – Никто ее не ждет, кроме тебя и ее матери! Но та не в себе, а ты… До глупости наивен! Неужели не понимаешь, что с ней все кончено?
Он молча обошел ее и направился в сторону станции. Марфа последовала за ним по пятам, сперва уговаривая и упрекая, потом, когда навстречу стали попадаться прохожие, молча. Дима остановился на платформе. Налево была касса. Направо тянулись продуктовые магазины. Часы на перроне показывали половину первого. Дима удивленно сверил их со своими – ему казалось, что это утро тянется бесконечно.
– Дима, раскопки уже нельзя остановить. – Марфа сказала это очень тихо, но он расслышал, даже среди шума привокзальной площади. – Мы зашли слишком далеко. Неужели ты бросишь меня? Уедешь?
Он молча взглянул на кассы. Перед окошком стояла небольшая очередь, скоро должна была отправиться электричка на Москву.
– Останься, хотя бы на один день. – Ее голос прозвучал умоляюще, и у него отчего-то сжалось сердце. – Только на один! Мне… Самой страшно.
Все так же молча он повернулся и пошел к продуктовым магазинам, на ходу доставая из кармана деньги и не оглядываясь на женщину, следовавшую за ним по пятам как тень.
Даша дремлет, свернувшись калачиком на одном конце широкой деревянной скамьи, на другом она развесила кое-какие лохмотья, для просушки. Оцепенение, сковавшее ее разум и тело в первые часы после ареста, прошло. Оглядевшись в своей темнице, Даша убеждается, что здесь не так уж страшно. Стены сухие, в углу – охапка ржаной соломы, в которую Даша зарылась было для тепла, но тут же выскочила – заели блохи. Есть большой ковш с водой, ломоть хлеба, не такого уж черствого, но главное – есть окошко. Пробито оно высоко, забрано толстой кованой решеткой, однако в него можно разглядеть небо. Будь этот день солнечным – в каменной клетке было бы светло, но Даше сейчас больше по душе сумерки. За толстой каменной стеной шумит ливень, и Даша, прикрыв глаза, слушает ровный, густой шелест водяных струй. Странно, но здесь ей лучше, чем в монастырской келье. Прошел первоначальный тошный страх, сердце бьется тише, и, хотя голова болит и горит, мысли прояснились. Даша знает, что теперь от нее ничего уже не зависит – все будет, как решит сам царь, а значит, ничего не остается, как заранее покориться. Виновна ли она? Да, кругом. Если и удастся оправдаться в своей несчастной беременности, то вину за самовольное отлучение из монастыря ей с себя не снять. Но странно – она спокойна, и если вздрагивает порой, то лишь от холода, навеки, кажется, въевшегося в ее кости. Был у нее богатый отчий дом, были матушкины ласки, сладкая еда, дорогие наряды, раболепие слуг и томные девичьи мечты о женихе-князе – все ушло. Была расправа, была матушкина смерть, был постриг и долгие, мертвящие дни в монастыре – прошло и это. Смерть ли ждет ее, или помилование – Даше все едино, все она примет как должное и не взбунтуется. Перенеся столько горя, пятнадцатилетняя девушка чувствует себя старухой, слишком зажившейся на свете, и ждет смерти чуть ли не с нетерпением. Она привычно молится, зевает, крестит рот и постепенно засыпает под ровный, уютный шум дождя за окошком.
Измучившись и душой и телом, Даша спит весь день, в полночь просыпается от голода, почти с закрытыми глазами съедает хлеб, снова ложится и проваливается в крепкий сон без сновидений. Никто к ней не входит, не тревожит – так сладко ей не приходилось спать в монастыре. Проснувшись на другое утро, девушка удивляется и даже смеется своей сонливости. На ее щеках проступает слабый румянец – тень прежнего, щедрого, яблочного. Она умывается из ковшика, набрасывает на голову платок, оправляет и отряхивает от высохшей грязи одежду. В окошке виднеется синее яркое небо – день сегодня солнечный. Даша встает на цыпочки, но выглянуть ей не удается. Побродив по своей каменной клетке, она снова присаживается на лавку. Даша отдохнула, ей хочется двигаться, разговаривать, видеть людей. Отчего ее до сих пор не берут на допрос? Ее не заковали, не бросили в темный каменный мешок, не пугали пытками, не морили голодом… Что это значит? Быть может, ей помогает Арина-блаженненькая? Даша молится про себя, чтобы это было так. Других заступников у нее в слободе нет, а прежнее родство да знакомство лучше вовсе забыть – оно скорее погубит, чем спасет.
Девушке неведомо, что еще вчера, сразу после ее ареста, в Хотьковскую обитель были посланы царские люди, а к вечеру в камерах прибавилось двое заключенных. То были: старая инокиня Руфина, принявшая арест с безмятежным спокойствием, и сама настоятельница обители, едва живая от страха. Обе были допрошены еще в Хотькове, и с удивительным результатом. На требование позвать из кельи постриженную в инокини дочь казначея Фуникова (так велел спрашивать царь), игуменья завела глаза к потолку, расписанному сценами из жития родителей преподобного Сергия, схимонахов Кириллы и Марии, и заявила, что та скоропостижно скончалась «тому три дни», и даже уже погребена. Когда же ей без всякого почтения к сану заявили, что она врет, игуменья затряслась всем оплывшим телом, как тронутый ножом студень, и взвыла, что ни к чему не причастна. Вызванная прямо с молитвы Руфина показала больше и говорила толковее. Она прямо заявила, что девушка, догадавшись о своей беременности, повредилась умом и бежала, а мертвое тело, которое похоронили на монастырском кладбище вместо инокини Дориды, принадлежит неизвестной побродяжке, кстати умершей в тот же день от горячки прямо на паперти собора. Это и навело игуменью на мысль, как избежать наказания за дурной присмотр за вверенными ей подчиненными. Усмотрев в этой смерти перст судьбы, она в строжайшем секрете устроила погребение, возложив после этого все упования на то, что беглая инокиня постарается укрыться как следует. Того, что та прямиком отправится в Александрову слободу, куда и человек с чистой совестью боялся показаться, игуменье даже в страшном сне не могло привидеться.
Преступление игуменьи бесспорно, и, зная ревностное отношение царя к монастырскому уставу, на арестованную смотрят уже как на покойницу.
Результаты допросов доложены государю сегодня рано утром, до обедни. Дело беглой инокини занимает его чрезвычайно – едва не более, чем переписка с датским королем Фредериком, которого царь Иван убеждает сделаться своим союзником в борьбе против Польши, Литвы и Швеции. Это дело на время отвлекает мысли Ивана от тяжкого удара – одновременно с осадой русскими войсками Ревеля начались шведско-датские мирные переговоры. Такой союз – почти что верный приговор русскому продвижению к Балтике, и царь не спит которую ночь, засыпая Фредерика красноречивыми, убедительными и льстивыми посланиями. Спешно формируется большой отряд опричников, из самых свирепых – для усиления войска под Ревелем. Продолжаются аресты и допросы среди ближайшего окружения царя – долгое эхо новгородской измены. Что в сравнении со всем этим крохотная девичья жизнь, покорно сжавшаяся в тюрьме в ожидании приговора? Но, прикрывая налитые кровью, воспаленные от бессонных ночей глаза, царь думает и о ней.
Дарья Фуникова – дочь изменника, инокиня Дорида – беглая развратница. Не повредилась ли она в самом деле умом, решившись прийти прямо в Александрову слободу, к нему в гости? Не было ли у нее какой цели? Не научена ли кем против царя? Девушку обыскали, но ни оружия, ни яда при ней не было. На ней не было даже нательного креста, и на вопрос, куда он делся, арестованная ответила лишь горькими слезами. Руфина говорит, что ее соседка по келье безумна, игуменья… Та ничего уже не говорит – вытянув из нее правду, ей зашили губы железными скобками – дабы было неповадно лгать царским посланным. Над всею Хотьковской обителью нависла черная тень начинающегося сыска. Разврат! Иван устало и насмешливо кривит губы, подносит к ним кубок с лекарством. Русский царь всегда либо просто болен, либо очень болен – так доносят о нем своим государям иностранные послы. Ему только что исполнилось сорок лет, но выглядит он как человек, проживший долгую и страшную жизнь. Бледное лицо глубоко изрезано морщинами, горькими – на высоком челе, чувственными – возле твердых полных губ. Рыжевато-русые волосы, сильно поредевшие от болезней и «сердечных тревог», почти полностью поседели. Бывают минуты, когда одни лишь светлые, яркие глаза живут на этом свинцово-бледном лице, но и их острый взгляд, то меркнущий, то пламенеющий, порой бывает неподвижен, как у бессильного старца. «Я стар уже, – говорил он в беседе с обласканным им Магнусом, намекая на то, что, возможно, сделает датского герцога наследником российского престола. – Нет горестей, каких бы я не испытал, и нет уже ничего нового в них для меня. Мне платят злом за добро и ненавистью за любовь». Очарованный доверительными царскими речами Магнус отправился на штурм Ревеля в уверенности, что его ждет не только ливонская, но вскоре и русская корона. Он был бы жестоко смущен и сбит с толку, если бы мог видеть провожавший его взгляд Ивана. Царь смотрел ему вслед со жгучей надеждой и одновременно с брезгливым презрением. За его цели шел сражаться союзник… Но и протестант, поклонник Лютера, извратившего догматы веры и поправшего древний монастырский устав. Тем, кто близко знает Ивана, известно, как презирает он исповедующих любую веру, кроме православия. Но еще худшими врагами православия, нежели иноверцев, царь почитает самих православных, оскверняющих святыни и забывающих заповеди. Иноверцев он либо сторонится, либо склоняет в свою веру, но сбившихся с пути православных овец безжалостно вырезает, дабы сохранить чистоту всего Божьего стада.
И вот инокиня Дорида – беглая, беременная, опального рода. Одной причины из трех было бы довольно, чтобы выставить ее нагую на позор, а после бросить на сжирание голодным псам… Иван делает еще один глоток и отставляет кубок с лекарством. Оно сильно горчит и оставляет во рту металлический привкус, но ему давно все равно – что есть, что пить. Вкус к жизни утрачен, когда – он и не помнит. Царь не находит его ни в пьяном разгуле, ни в безудержном разврате, ни в кровавой бане лютых расправ, о которых после слагают по кабакам запретные песни… На Ивана находит одна из тех нередких минут, когда ему хочется вонзить ногти в грудь и разодрать ее, чтобы добраться до измученного, оцепеневшего сердца. Царь тяжело дышит, забившись в угол высокого резного кресла, зябко кутается в груду мехов, судорожно всхлипывает и, дрожа, стискивает кулаки, раня себе пальцы массивными бесценными перстнями. Нервное напряжение, в котором он живет постоянно, терзает его, ища выхода, и капризно воплощается то в гневе, то в разврате, то в молитвенном экстазе. Чем кончится припадок – не знает никто, даже сам Иван. Его болезнь непредсказуема, как Божья кара, а жестокость доходит до таких пределов, что царя, губящего свою душу, жалеют даже те, кого он невинно посылает на пытки и смерть.
Ивану холодно, он стискивает зубы, натягивая на грудь куньи меха, прикрывает глаза. Еще только утро, а этот приступ уже второй. На дворе солнечно, но в его низких покоях почти темно – свет едва струится сквозь чешуйчатые слюдяные окна. Рядом с его креслом – двое дьяков, у дверей, на почтительном расстоянии, немецкий лекарь, ожидающий, когда государь примет лекарство. Шпион, как все иностранцы при дворе… А все же не опасней своих, домашних шпионов, продающих его кровь, его дело, его бессонные думы иностранным государям.
Найдя одного предателя, находишь их целый десяток… Кто еще? Тот? Этот? Любой! Верных нет.
Иван постепенно превозмогает приступ, начинает дышать глубже, приподнимает отяжелевшие веки. Глаза цвета озерного льда темнеют, на лбу выступает испарина. Ему легче.
– Допрошены опричники по делу Фуниковой-Курцовой? – спрашивает он слабым, почти равнодушным голосом и делает еще один глоток. Дьяк вытягивается в струнку:
– Допрошены. Сознались и под стражу взяты Степан Елецкий и Феодор Олферьев.
– Ишь, псы, – с отеческой усмешкой замечает Иван, – ведь я им девку портить не приказывал. Ну да, уж не переделаешь. Что говорят – в беспамятстве была?
– Олферьев показывает – да, – бойко отчитывается дьяк, довольный тем, что разглядел улыбку на царском лице, – а Елецкий говорит, что лица-то не видал, сарафан ей на голову задрал, а так будто лежала смирно – не вырывалася.
– Псы, право… – Опущенные уголки рта подергиваются – Иван уже по-настоящему улыбается, укоризненно покачивая головой. По палате проносится еще слышный вздох – мрачное утро, кажется, миновало. Немецкий лекарь сияет, списывая хорошее настроение царя на действие приготовленного им нового снадобья.
– А что мати пресвятая игуменья? – Лицо Ивана приобретает елейно-желчное выражение. – Все ли угощением нашим, слободским довольна?
– А довольна так, государь, что и высказать не в силах! – дерзко и весело отвечает дьяк, и покои оглашаются хохотом царя. Он откидывается на спинку кресла и отмахивается тяжелой от сверкающих перстней рукой. Дьяки почтительно и бесшумно смеются, немец у двери позволяет себе лишь нерешительную улыбку. Иван резко обрывает смех и выпрямляется в кресле, не касаясь спинки. Дьяки, не дыша, поедают его глазами.
– Что ж, – Иван говорит медленно и веско, тяжело роняя каждое слово, – коли мать-игуменья полагает, что инокиня Дорида от горячки померла – я с нею спорить не стану. В животе моих подданных я властен, в смерти же нет. Ну а что приняли ее тут крутенько – пущай не сердится, да и урона ей в том нету никакого – молиться и с этаким ртом возможно, ко Господу любая молитва доходна.
Иван делает паузу, и слышен лишь частый скрип пера – дьяк составляет решение по делу беглой инокини. «Почитать умершею», – выводит он, нимало не удивляясь противоречию между царским приговором и наказанием солгавшей по тому же поводу игуменьи. С этого момента инокиня Дорида считается погребенной в Хотьковской обители. Ничего не подозревающая об этом Даша сидит с ногами на лавке в своей камере, боязливо высматривая крысу, только что нырнувшую в охапку соломы.
– Девицу же Дарью Фуникову-Курцову, потерпевшую от названных опричников, – продолжал Иван, так же медленно и веско, – наградить сту рублями и назначить ей мужа из сих двоих по ее выбору. Чего тебя этак корячит?
Царь замечает, что дьяк как-то особенно сутулится, выводя последние слова, и сжимает губы, будто отведав чего-то кислого.
– Не изволь гневаться, государь, – смиренно отвечает тот. – Степан Елецкий женат.
– Ну, так выдать за Олферьева! – И царь отсылает всех прочь резким движение руки. Минута – и в покоях остается он один. Иван закрывает глаза и видит крепостные стены осажденного Ревеля. Скоро первые заморозки, встанут дороги и реки, и он двинет на запад новые войска. Смешны те, кто всерьез думает, что он хочет возложить на себя ливонскую корону. Он идет на запад лишь затем, чтобы сохранить свою. Бездействие – это гибель, и нападать необходимо, даже заранее зная, что потерпишь поражение. Эти горькие истины неведомы царям, счастливо правящим в спокойные времена, и слишком хорошо известны Ивану. Сквозь слюдяное окно тускло пробивается солнечный свет и кладет матовые блики на его скорбно склоненное лицо. С соборной колокольни доносится первый, густой удар колокола, зовущего к обедне. Царь тяжело поднимается и, взяв посох, медленно шествует к двери, волоча за собой наполовину упавший с широкого плеча охабень, расшитый золотом и драгоценными камнями. «Тиран московский носит на своем подоле годовой торговый оборот своего государства», – с вежливым и насмешливым удивлением писал на родину английский посланник. У двери Иван сбрасывает охабень одним движением плеча и остается в грубой черной рясе, такой же, в какие наряжаются к этому часу все его опричники.