Текст книги "Айсберг"
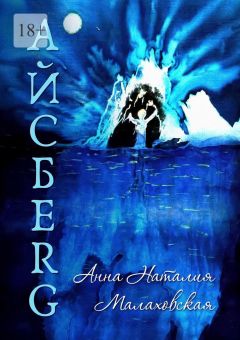
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
2 глава.
Выделили
1955
Николай Арсеньевич
И почему ты мне рот зажимаешь, почему мне не даёшь высказаться? Когда после войны было так туго с продуктами питания, а мы вернулись в разбомблённый город Ленинград, от нашей старой квартиры не осталось камня на камне, и нас поселили в каком-то дерьмовом помещении, где была гостиная, она же и спальня для моей матери и сестры, и больше ничего. И меня, как представителя не того пола, не такого, как они сами, они выселили меня спать в ванную – нет, не в ванную, не просто в эту комнату, а в саму ванну, и положили, постелили там какую-то одежду на самое дно, а поверх матрасик сообразили – и прощай. Когда они мылись в этой самой ванне, то все эти приспособления вытаскивали, а потом надо было насухо вытереть полотенцем – и прощай – с концами – можно ложиться спать, забираться.
– Выделили, – как сказал тебе твой отец недоё… ный, что они, мол, мне выделили, оказывается, это отдельное помещение, ванную комнату, чтоб я мог со своим М.П. (мужским полом) там разбираться. И с таким гордым подтекстом прозвучало из его уст это слово, и было чем гордиться, ведь он зверел, зверел, да так и не дозверел до конца. И плакал наутро, что мог тебя вчера вечером прикончить, вот так же, как я, – прикончил все эти издевательства, все эти косые взгляды, все эти словеса, что, мол, Инночка, как она хорошо учится, и как её в институте все любят, и как она на бабушку свою похожа, на Розвиту… А я на кого похож?.. на деда, что ли? Ничтожество – нет, так прямо не произносилось это слово, но оно витало в воздухе, непроизнесённое, потому что я никуда не поступил, ни в какой институт, и вообще только работал кем попало. И ни разу не услышал доброго слова от той, кому полагалось бы, казалось бы! По биологическим законам мать просто обязана любить своего детёныша, но вот не получилось почему-то, и она всю свою любовь, которая лилась из неё как река, выливала на одного единственного человека на свете, и это была моя сестра Инночка, как её называли, а не Мила, как звали другую родственницу. И не похожа эта Милочка на мою сестрицу белобрысую, а на свою мать похожа – и это ничего. А брат её похож как раз на мою сестрицу. Но дело не в том и даже не в красивой внешности, потому что любовь не по внешности раздают и квадратные метры тоже не по внешности, знал и уродов, которым досталось всё. А вот мне ничего не досталось. И ты можешь смотреть на меня как на устрашающий пример, а мне просто не досталось ничего, и прежде всего не досталось любви матери, и как это так бывает, когда растение не поливают, оно сгибается и чахнет, прежде чем умереть, но когда с человеком то же самое делают, он звереет. И почему твой отец зверел, хотя ему всё досталось и в самом огромном избытке, который только можно себе представить, и от матери, и от жены, и от девочек, от дочек, он просто купался в любви, плавал в ней, а всё же зверел? Почему – этого я не могу сказать и не мог даже поверить, а вот мне совсем не хватало любви, и это было как спусковой крючок.
Безопасными бритвами в ту пору ещё не пользовались. Вот ты вспоминаешь, как твой отец жужжал, выбривая себе щёки каким-то беленьким кругленьким приспособлением под названием «Спутник», а у меня в руках была небезопасная. У меня в руке был нож. И это было в той самой так называемой гостиной, где они спали ночью, а сейчас серый свет из окон падал и освещал большой стол со стульями и мисочку для бритья с мыльным раствором и с кисточкой, и вот с этой намыленной мордой перед зеркалом я и брился – счищал с себя неприличную чешую, которая выдавала во мне человека не того пола и сословия, а грубого мужика – мужицкое отродье. Не в гениального папочку, а в его ничем не прославившегося отца, так сказать. Или ещё глубже – в того крепостного Фёдора, из которого дед произошёл. Негодный отпрыск, нелюбимый навсегда, навек, и ничем эту долю не растормозить, ничем наплыв издевательского блеска в глазах не прервать, в этих светлых, красивых и беспощадных. И было только одно слово, которое она бросила мне тогда, как собаке корку хлеба – мол, подавись:
– А ты ещё не начал уроки готовить для подготовительного курса? А ты ещё постель свою не убрал?
Выделили! Это так твой отец выразился, что они, мол, ВЫДЕЛИЛИ мне отдельное помещение и отдельный сосуд, так сказать, куда мне помещать своё тело было очень неудобно, и всё-таки – отдельное. Без них. Подальше. Выгнали. Ширмочку не могли поставить в той обширной гостиной, где сами почивали на широких постелях?
И было ещё одно слово, которое я уже не запомнил. А в руке у меня был нож – эта бритва небезопасная – ведь это и есть – нож. И что-то окровавленное потом на полу. Вот и всё. И больше ничего не прибавишь.
3 глава.
Глава семьи
1959
Алексей Владимирович
– Я – ГЛАВА СЕМЬИ! – как будто в шутку, и не волосатым кулаком себя в грудь ударять, а вполне приличным кулаком, как цивилизованному человеку полагается. Но так ли это на самом деле? Кто глава, тому голову на плечах иметь полагается, но с головой было что-то не то, и после контузии приступы, про которые говорили, что будто бы эпилепсия, и лечили как-то не так, как надо было бы лечить, но потом эти приступы прекратились на какое-то время, и мне казалось, что уже всё, вылечился и насовсем – пока не озверел окончательно. И как это произошло, и в чём тут вина не моя, а кого-то другого, кто во мне сидит и мною погоняет?
И это не про то, почему не удалось совершить такую революцию, которая изменила бы жизнь к лучшему, а не к худшему. Это про то, что собственных детей убивать нельзя. И даже несобственных. И даже если не знал, от кого тот ребёнок, красивый на вид, то всё равно его убивать было нельзя. А что говорят про чёрную магию, так я в это не поверю. Ну что может какой-то сельский ксёндз, на что хватило бы его сил? Нет, тут должны быть научные причины, и посеянное однажды, на заре туманной юности, семя зла не могло не взойти. Просто прижать рот подушкой. Или – ремнём по голой спине, невзирая и не слушая криков, оглушённый изнутри собственным безумием, которое кричит громче собственного ребёнка, и я уже не знаю, кричал ли этот ребёнок, или горько плакал, или и вообще не плакал, в шоке распластанный под моими зверскими ударами ремнём по голой, по нежной ещё детской, и вспухали тут же розовые полосы красноватые, и кровь выступала уже, а я всё хлестал и хлестал, не подчиняясь моему собственному разуму, который шептал: остановись – опомнись – отстань – и устала рука наконец, и ребёнок выскользнул – из-под ремня – и куда-то в двери – и пропал – а там в дверях на стуле возле тарелки с супом сидела младшенькая, вся в мою бабушку, и с белым непонятным лицом. В тот день никто не ел никакого супа и вообще ничего. И я заставил себя превратиться назад в человека, и подогрел остывший суп, и всовывал побелевшей доченьке ложку за ложкой в рот, а у неё зубы стучали. Зубами стучала по этим краям ложки, но суп послушно глотала, и на меня смотрела с ужасом.
А что поделаешь теперь, и как мне разучиться превращаться не в того, кем я являюсь на самом деле, а в кого-то другого, кем я никогда не был, но вот почему-то приходится – раз за разом – это меня настигает, и тогда я сам не свой и прячу от себя все ножи, не хочу той участи, что настигла моего двоюродного брата, зарезавшего собственную сестру в приступе такого же, может быть, ослепляющего безумия?
4 глава.
Не получится молчать
1931—1955
Инна Арсеньевна
У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ МОЛЧАТЬ И НЕ ЗАКРИЧАТЬ ВО ВЕСЬ ГОЛОС!
Ты даёшь право вещать свои поганые истины кровопийцам и убийцам, а кто скажет о нас, замороженных навсегда, как та маленькая Люсенька, закостеневшая, заледеневшая в своём ужасе перед происходящим, и что муж стукнет и её так, как отец бивал в своё время – кулаком по макушке?
Вот ты говоришь – народ – а из кого состоит народ? Из убивавших и из убитых, третьего не дано, но иногда удавалось забиваться в какую-нибудь норку и молчать, молчать до самой смерти, чтобы не разболтать всего того, чего насмотрелась в своей недожизненной жизни – жизни без всякой радости, без играющих лучей на запястье руки, без всех этих украшений, которые приносят другим, может быть, что-то похожее на восторг, но всё равно ведь не убежишь, когда за тобой погонится, и кто это будет: отец, муж или родной брат? Ты об этом не подумала? И когда сапогом в морду за то, что с температурой под сорок обед не сготовила мужу – это разве не обидно, скажешь? И это можно проглотить, перетерпеть, чтобы потом бегать по врачам от боли в желудке, уже совсем непереносимой? Или что только тебя одну – сапогом в лицо да за то самое, что не сготовила? А ты ещё спрашиваешь, почему революция не получилась такой, как она была задумана, с развевающимся красивым полотном, сияющим по всему свету, чтобы всем стало хорошо. А революция не может получиться с таким народом, какой он есть – сапогом по личику – по этому непревзойдённому по своей красоте личику, в которое сначала вышитой подушкой, потом просто кулаком, а потом уже и сапогом, даже и не снятым с ноги – удар!
А кого и ножом. Но не всех. Не у всех под рукой лезвие оказалось, но кулак-то, он есть у всех таких, которым – из нас самих, из нашего родства непоправимого – избивать захочется. И нога найдётся у всех. В сапог одетая. И ударить. А кто помешал? Иисус Христос помешал, которому они по вечерам молятся и все свои долги на него сваливают? Не помешал ещё ни разу. И родная партия, к которой тоже прибегали жаловаться – не в те времена, нет, тех времён ты уже не застала, но были ведь и такие времена, когда казалось, что всё это – на самом деле – и развевающееся знамя, такое красивое на вид, нет, совсем не как пролитая кровь, потому что я и кровь такую ужасную, лужей на полу, видела, и это была не чужая кровь, а когда лежишь на полу и видишь, что из тебя выливается на землю толчками, нет, не на землю, но это уже всё равно, потому что не остановить, и ты видишь, как над тобой склоняется с ножом и с ножа тоже что-то капает, что-то красное, и начинаешь понимать, что это – конец всего, и прекрасного образования, и той зародившейся нежной влюблённости – пока только нежной, но никакой другой уже не будет, Инна Арсеньевна, и вообще ничего не будет, и свет гаснет в глазах… подёргивается плёнкой… чьи-то шаги по лестнице… больше ничего.
5 глава.
Вылитая Лизонька
Ирина Алексеевна
…То, что нарывает сейчас – этот отрывок про убийство. Он устанавливается на этом месте Айсберга и зовёт этот момент описать, эту гостиную, полукругом выходящую на вольное пространство и, может быть, на реку. Мне даже кажется порой, что на Мойку, недалеко от «Баррикады», но в этом я не уверена, а в чём уверена, так это в том, что в этой комнате было больше, чем два окна, выходящие на этот простор внизу, под домом. Вижу большой стол посреди комнаты и мисочку для бритья в углу слева, на краю стола. Вижу серый скучный свет из окон, словно бы нависающих над этой предположительно рекой внизу. И потом не вижу ничего: ни серого освещения, ни кисточки для бритья. Ничто. Чёрная покрышка мгновения – и даже не чёрная, а вообще никакая – пропуск. А потом на полу, под столом – ближе к двери, которая слева оказалась – вижу тёмную лужу, которая прибывает. Увеличивается в размерах. И свет, включившийся в прихожей, как будто бы у меня над головой. И голоса на лестнице, что за этой прихожей… за светом над головой.
Впервые эту историю об убийстве я узнала от внучки дяди Сени, брата моего деда, от моей троюродной сестры Танечки, с которой мы подружились как-то раз… и не вспомнить, как мы с нею познакомились, но хорошо помнится, как мы с нею встречались на Большом проспекте Петроградской и обсуждали те до крайности важные события, которые случаются в жизни в этот переходный период от семнадцати до двадцати лет – а потом дверь закрывается, и – прощай! Привет вам с кисточкой! Начинается новая, неприятная своею непробиваемостью, как панцирь черепахи, другая – брачная жизнь. Нет, это была, конечно, не ЖИЗНЬ в полном смысле этого слова, а какое-то неинтересное уже ни для какого юношеского обсуждения полу-существование…
Но, скорее всего, познакомилась я с этой своей родственницей на том самом празднике у дяди Сени, когда и прозвучали его странные слова, оказавшиеся для меня роковым предвестием. Случилось это в 1965 году, когда мне было семнадцать лет, и я, оторвавшись от каких-то срочных дел, прибежала на праздник к родственнику своего отца – в самый последний момент, когда все уже сидели за накрытым столом и первые тосты за здоровье юбиляра были уже, как видно, произнесены и выпиты… – ничем другим не могу объяснить тот несдержанный возглас, который вырвался у дяди Сени, как только я вступила тогда на порог.
Увидев меня, он привскочил на месте и воскликнул:
– Какая красавица! Вылитая Лизонька! Знай наших!
Только теперь, складывая два и два, понимаю, как важно было этому человеку снять с себя то страшное напряжение подспудного позора, что витало над этой семьёй после убийства сестры братом – его родных детей. Как нестерпимо хотелось ему произнести во время своего юбилея доброе слово о его родных – и прежде всего о своей любимой сестре Лизоньке, о той самой, с которой моему отцу в детстве так нравилось общаться, потому что, если верить его словам, «с нею можно было поговорить обо всём». И которая скончалась от родильной горячки в том самом заведении, в котором и мне устроили ту же самую болезнь и ту же самую смерть.
Но достаточное ли это обоснование – это чисто внешнее сходство, утверждаемое братом покойной и не вполне подтверждаемое фотоматериалом? Даже если предположить, что брату виднее, чем фотоаппарату, – виднее это сходство, в которое входят не только черты лица, но и походка, жесты, манера поднимать глаза и говорить – ну пусть да, пусть во мне просвечивала его сестра – достаточное ли это обоснование для того, чтобы и мне самой пришлось умирать от той же самой заразы и в том же самом учреждении через сорок лет после того, как нерадивые медработники погубили там мою двоюродную бабушку?
Закричав, что я так уж похожа на его сестру Лизоньку, не предвестил ли мне этот тогдашний юбиляр её судьбу?
21.01.1970
…Как только я выпила горячего сладкого чаю из стакана, отхлебнула, сделала пару глотков, и не помню, куда я девала потом этот стакан, может быть, я его отставила куда-нибудь, но этого не вспомнить никак, потому что я тут же очутилась в этой чёрной комнате, в которой не было ни потолка, ни пола и ни стен… но всё-таки это была почему-то комната. Это был не беспредельный чёрный простор, это было сжатое по размерам помещение.
Я не запомнила лица той старой женщины, которая предложила мне стакан чаю: это было простое и доброе лицо, не отягощённое ни излишней красотой, ни уродством, никакими заметными чертами: просто приятное, и доброе, и слегка испуганное лицо очень скромной служительницы этого заведения, где мучили людей. Да, она была совсем не выдающаяся и словно бы пряталась где-то на задворках – в том самом месте в конце коридора, вроде бы за стеклянной перегородкой, откуда можно было принести стакан чаю. Откуда она мне этот стакан с горячим чаем и принесла: первый добрый жест за все дни пыток в этом заведении беспощадного хамства. Наверняка она была просто санитаркой, а не медсестрой: медсёстры пробегали мимо той каталки, где после родов мне пришлось лежать, проносились с гордо вскинутой головой, не удостаивая меня ни единым взглядом.
Вспоминается выражение «ни окон, ни дверей» вместе с вопросом – а как же они туда попадали, в избушку на курьих ножках, эти описанные в сказках мои товарищи по несчастью? А может быть, так и попадали, как я попала в это чёрное помещение, выпив горячего чаю – и чай оказался ключом, который помог мне войти в эту странную обитель?
Там, внутри, на чёрном полу, которого не было, стояла босиком растрёпанная старуха в ночной рубашке – и кричала. Я узнала в ней мою всегда сдержанную и до крайности аккуратно причёсанную бабушку, мать моей матери, которую и представить себе не могла бы никогда в жизни в таком виде. И поэтому я молчала, онемев от ужаса. Не осмелившись подойти к ней и спросить, в чём дело.
В чём было дело тогда, в тот вечер – я узнала только через месяц, когда мне разрешили подняться с постели и выписали из больницы. В тот самый день, когда я умирала от родильной горячки, у моей бабушки случился инфаркт – и она кричала, потому что ей запрещали пить. Сделать хоть глоток воды. В тот самый миг, когда мне повезло отхлебнуть глоток чаю, бабушке не дали пить, и она кричала:
– Какие вы жадные! Хоть глоточек! – хотя и понимала, что во время инфаркта пить ни за что нельзя, но ей в тот миг было не до понимания и не до осознания чего бы то ни было…
6 глава.
Ослепительная
Елизавета Фёдоровна
Не мне судить о том, какой вы, мои родственники, после моей смерти обозвали мою жизнь, но ведь это была только смерть, только конец жизни, в том самом родильном доме, в котором пришлось помучиться и тебе. А сама-то жизнь до этого момента смерти… ты знаешь, какой она была, моя жизнь? Если уж говорить, то надо поговорить обо всём, а не только о смерти.
Не у всех первый брак бывает удачным, но у меня вышло так, что мой самый первый замечательный человек в моей жизни обратил ко мне своё сияющее на закате лицо, снял шлем, прикрывающий не только голову, но и глаза – это главное, глаза, чтобы ничто не мешало видеть во время полёта, – и улыбнулся.
Вот тебе говорила другая твоя тётя, что в те годы, в довоенный период, люди были какие-то особенно благородные, и ты не знаешь, как с этим сообщением поступить, выставить ли его напоказ или убрать с глаз подальше, чтоб не смущать своих слушателей и читателей непроверенными данными. Открытки с фронта Гражданской войны ты ведь держала в руках – открытки, в которых красный командир обращается к своим сёстрам с преувеличенной вежливостью и на «вы». И вот что это было такое: настоящее благородство, такая приподнятость над землёй или вежливость, застрявшая в старорежимном воспитании?
А мне запомнился вот этот миг, когда он стоял у своего миниатюрного самолётика в этом шлеме, сдвинув его на затылок, и волос видно не было, только шлем, как у пришельца из далёких миров, и солнце, застоявшееся под чёрной тучей, вдруг решило размять ноги, и пробило щель в этой громаде, и со всей силой окатило и его лицо и всю его фигуру.

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«Видение в поезде»
А он стоял, опираясь о крыло, и о чём-то весело переговаривался со своим подопечным, с товарищем, о каких-то технических деталях или, может быть, неполадках, и я не могла не залюбоваться. Вдруг, как какое-то откровение и с неба, конечно же, из чистоты небесной, меня окатило сознание того, что да, наше дело правое, и потому-то мы и победили, и появилась теперь, после всех драк и землетрясений, твёрдая почва под ногами, на которой выросли вот такие – крепко стоящие на этой земле и без промаха поднимающиеся в воздух над землёй, как будто и в полёте действующие твёрдо, без всякого колебания, без всяких недомолвок.
Вот таким он был – отец моих будущих девочек, недоживших и до второго году от роду. А что было бы с ними во время следующей войны, и в блокаду, и без матери – об этом и подумать не могу, и всё же не это безобразие ужасных послеродовых мук впечаталось и запечатлелось во мне навсегда, а вот этот миг на лётном поле, когда он под солнечным блеском снял вдруг свой шлем, и золотистые волосы рассыпались яркой шапкой, и он поглядел на меня – сначала просто бросил взгляд, всё ещё из тех смешливых перебранок со своим то ли начальником по службе, то ли подчинённым, такой слегка залихватский был этот взгляд, такой немного покровительственный; и вдруг, когда разглядел меня, всё это стало слезать с него, как позолота, как вредная плёнка, и взгляд вдруг оказался серьёзным и вопросительным. Как он потом мне объяснил, в тот момент он спрашивал себя, и не только себя, а всё вокруг, он спрашивал: «Как это может вот такая красота – красотища – вообще помещаться на этой грешной земле?!!!» Так он выразился потом, и не мне судить о том, какой вы, мои родственники, после моей смерти обозвали мою жизнь, но ведь это была только смерть, только конец жизни, а сама-то жизнь до этого момента смерти была ослепительная! И вот тебе ответ на вопрос о благородстве предвоенного поколения, вывалявшегося в грязи и кровавых погромах времён Гражданской войны – откуда мой любимый такой выискался и как он произошёл на свет из всей тьмы и слякоти предыдущих поколений, я не очень-то и расспрашивала, а было в нём – да, в нём было это ощущение полёта, а не буксования по грязи в жирных чёрных колеях.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































