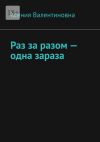Текст книги "Айсберг"
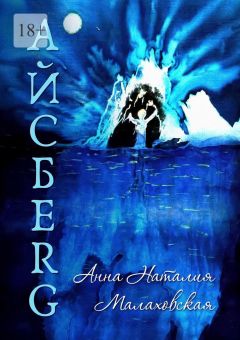
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
На третьем этаже:
1911—1917
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Владимир Фёдорович, третье поколение
Алексей Владимирович, второе поколение
1 глава.
Подполье
Владимир Фёдорович
Каким образом, пробираясь тёмными закоулками, укрываться от полиции, и как узнавать, кто из встречных, из прохожих, как будто просто так стоящих на углу, окажется шпиком? Вот тебе показалось складнее всё это вычеркнуть из памяти, всё то, что твоя бывшая любимая подруга, объясняя, как отличать подсматривающих и доносящих, назвала словом «грязь». И действительно, и мне тоже в точности так же, как и тебе, приближение к этим людям или как будто бы людям ударяло прежде всего по желудку, и хотелось, проходя пещерами вытекающих друг из друга сумрачных дворов, выплеснуть вот прямо тут, на камни, всё то, чем накормили меня поутру добрые мои товарищи. А спускаясь с лестницы с самого высокого этажа как бы не оступиться, нарвавшись на шпика, который только и думает о том, как бы подставить тебе ножку, а не на простого пьяницу, который лижет край бутылки, недопитой и произносит втихомолку непонятные слова. И, конечно же, и у меня был товарищ-фронтовик, уже посидевший в тюрьмах и научивший меня, как отличать подслушивающих и за дверью стоящих от нормальных человеческих существ, не повреждённых ещё до такой степени царистским режимом.
Я проходил теми же дворами порой, наступая на пятки будущим поколениям моих собственных потомков и не понимая, уж точно что не понимая того, что моим внукам и правнукам придётся бороться почти такими же способами…
Ну не в точности такими же, ну в области технической репродукции текстов за семьдесят с лишним лет что-то, может быть, и изменилось – но не так уж и много, а в области подличанья и подглядывания, в области этого дурного духа, что идёт от доносчиков и стукачей – не изменилось вообще ничего! И теперь ты спрашиваешь, почему не удалась наша революция, вот почти уже сто лет назад готовившаяся и протекавшая. И я тебя о том же самом теперь спрашиваю: а почему и твоя революция не удалась, а превратилась, пусть не вдруг, но превратилась ведь в такое же дерьмо, которое стоит только смести с тротуаров и поливальной машиной все эти ленты демонстраций и праздничные крики замести, струёй прокочерыжить и смыть, как застарелое дерьмо? Кто виноват – как говорилось ещё и до моего рождения – кто виноват и что теперь делать?
Это усмотреть надо и подглядывать, как в щёлочку, за всеми этими выплесками и ураганами сногсшибающих взрывов энергии – откуда они взялись у нашего почивающего мертвецким сном, вечно пьянствующего и вечно смиренного – в смиренности своей прозябающего – народа?
А что касается так называемого подполья, то оно существовало уж, конечно, не где-то внизу и не в подвалах, а вот где именно я сам обитался, скрываясь от полиции все эти шесть лет до настоящего переворота – объяснять не стану. Не хочу навевать на тебя скуку перечислением адресов тайных явок и конспиративных квартир. Это могло бы оказаться кому-то другому интересно и в другие времена, в годы настоящего расцвета – первого такого, золотистого, как будто на гребне победы расцвета нашей революции, когда казалось, что всё-то мы сделали именно так, как сделать было необходимо, и что дело наше правое и поэтому мы победили. А во что превратилась наша победа, чёрной шапкой закрыв себе лицо, и после этого срыва всех, как, умиляясь, писал Чернышевский, «декораций» – вот после этого срыва уже никому наши тайные места сборищ не покажутся чем-то достойным хоть какого-то внимания. Да, это было в Петербурге, который в войну переименовали в Петроград, и мне больше нравилось это вот наименование – Петроград! Как-то веселей и задорнее звучало и призывало на борьбу! И мне нравилось себя называть петроградским рабочим, хотя по профессии я был ведь чертёжником, а это чуть-чуть повыше простого машиностроителя на заводе, который потом назвали именем Ленина, а тогда я никакого Ленина не знал. Ленин свалился нам на голову чуть ли не в последнюю минуту и вдруг заделался руководителем того процесса, который ведь я сам с моими товарищами готовил – мы его готовили ровно двенадцать лет после неудавшейся революции 1905 года. А тут вдруг, понимаете ли, приехал, говорят, и на вокзале, и все как ополоумели, и надо же это понимать, что все, ну почти все были в ажиотаже и в азарте этой борьбы! После удачного переворота в феврале у всех уже мозги были слегка набекрень, и тут вот просто – как масло в огонь или спичку поднести к сухой бочке с непротухшим порохом!
2 глава.
Всего два слова
1918
Розвита
Вот ты представь себе, что ты живёшь и говоришь каждый день много слов и детям ведь, и внукам, а от тебя останется только два слова, невпопад сказанные и неизвестно ещё как и кем перевранные, и для красоты или для каких других целей, политических, чтобы самих себя похвалить или приукрасить.
…И что я отговорила его, Володеньку моего, взять эту роскошную квартиру возле Эрмитажа, которую ему за его заслуги в этом небогоугодном деле дали – я сама! Сказала, что мне тяжело будет таскать с кухни супницы или кастрюли по этому бесконечному коридору – ну и что? А ты попробуй-ка потаскай! И неужели не могли запомнить от меня хоть чего-нибудь более вразумительного, хоть чего-то… а не этих двух слов, чтобы пришлось моей жизни просыпаться сквозь пальцы как песок, эти мелкие песчинки, не задевшие самую суть. Ну вот только то и запомнили, что бросила я после революции своего бывшего супруга и жила с сыном, и что его проживать в этих барских хоромах ведь это я, значит, не пустила, не позволила – ощутить себя господином, и рядом со дворцом царей, повелителей всея Руси – ну что ты тут поделаешь? Как будто бы свели всю мою жизнь к этим двум эпизодам, вынырнувшим на поверхность из-под всего остального и главного, оставшегося, как айсберг, под водой!
3 глава.
Ни эллина, ни иудея
1919
Владимир Фёдорович
Дорога ведёт всё дальше в прошлое. «На Дону и в Замостье тлеют белые кости», – и это ты ещё помнишь, как пели тебе твои родители эту песню некрасивую среди других песен – попригожее? А чем она некрасивая, эта песня? Чем она и тебя тогда ужасала: тем, что кости незакопанные, лежат на виду у всех, чтоб о чём-то таком напоминать…
Кости были не белые. Кости были такие же, как у всех. Все люди равны. Когда они, растерзанные, лежат на земле, раскинув руки, то оказывается, что все они на самом деле – равны, несмотря на напяленные на них знаки отличия – биологически равны и отличаются от скотов, от лошадей убитых, например, не так уж чтобы очень. И там и тут, из морды лошади и из человеческого лица, глядят на меня эти ужасные глаза. О которых я вспоминать не буду, не буду, но думал о них, может быть, и тогда – в ту самую секунду – когда увидел впервые засиявшие на солнце, как корона, – и солнце в её волосах было не как чудо, а оно и было настоящим, непридуманным чудом, и эти глаза – как звёздочки, и какого они цвета – нет, неправда, что они были оранжевые, они были золотистые и медовые, того настоявшегося на солнце цвета, янтарного, может быть, и я пропал в этих глазах и навсегда запомнил это имя – когда я проводил рукой по её волосам, то оно как бы лилось и выливалось из моей души, это имя, это льющееся имя, и ты никогда не узнаешь, какой красавицей она была в этот миг, как всё её лицо просияло, и мне показалось, что я очутился уж не знаю где, то ли в раю, который разрисовали нам негодные священники, то ли вообще на том свете. На этом такого не бывает.
И это – посреди стонов раненых, и свистков паровоза, и грохота, грохота этих ярко-красных рычагов, которые двигали его колёса, и рядом с топкой, и вот тут высверкнули вдруг эти волосы, как корона, надо всем светом, и это было неясно, как оно, такое, вообще может быть – всё это не предусматривалось революционным законом, все эти перегибы – перелазы – перебегания на какой-нибудь другой свет. Но Великая Любовь осуществилась. Несмотря на всю эту боль, и грязь, и грохот, и толчки поезда, – она осуществилась, и впервые – впервые – я задумался о смысле всей этой жизни в целом, а стоило ли устраивать всю эту бойню, а имели ли «мы» на это право, а не лучше ли было устроить всё это совсем по-другому, без истязания уже умирающих людей по обе стороны фронта, без издыхающих коней с их ужасными, с таким упрёком устремлёнными на меня, именно на меня, прямо на меня огромными очами.
А эти её очи – как звёзды. Как звёздочки. Не конские, но и не человечьи – не простого человека очи, а как будто ангела какого-то, хотя я и не верил ни в каких существ богоподобных, но вот встретил. И в теплушке получилось так, что мы с нею впервые вместе перекусили, и тут-то я и узнал её льющееся, вытекающее как будто у меня из самого сердца имя. Льющееся. Бесподобно прекрасное и даже больше того, потому что для такой красоты и слов-то таких в языке не имеется, и по долгу службы мне не полагается верить во все эти переходы и перетекания из нашего, оснащённого боевой техникой для убийства людей мира, в мир какой-то другой, в котором не будет ни иудея, ни эллина – вот эти слова мне почему-то запомнились, из всех их проповедей – ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины… Вот это уж очень вспыхнуло у меня перед глазами, это самое место в той библии, что читал непрерывно мой отец, отрываясь только порой, чтоб избить кого-нибудь из нас или крепким словом с подлой подоплёкой поставить нас на место.
А как это по-нашему, по-новому? Как это по нашей, так сказать, религии? Свобода, равенство и братство. Интернационал. Ни эллина, ни иудея.
4 глава.
Ленин был неправ
1934
Владимир Фёдорович
На заре печальной юности этот самый момент, когда стало ясно, что революция не удалась.
…Я заслужил, может быть. Я сам – на глубине души заслужил – за то, что я предал свою великую любовь. Но только я сам, а не весь народ – весь мир – вся наша страна, да что там говорить – вся наша планета, все те «океаны и страны», по которым мы собирались ведь «развеять наше красное знамя труда». И если кто-то говорит, что это – тоже религия и что потому-то и пришлось взрывать храмы, чтоб ничто не мешало насаждать религию новую – ну что же, пусть так. Хоть горшком назови это новое, как переливающийся алый цвет сверкающее, что мы хотели ведь внести в мир!
И убивая. Да, вносили, убивая, ведь на войне, которую потом стали называть Гражданской, но это была война одного человечества против другого, одной религии против другой. Хотя если покопаться… что, я библию не читал, что ли? А с какой это книгой в обнимку почивал мой отец, отрываясь только, чтоб покурить среди ночи? Что, я не вычитал, что ли, что они, эти церковники проклятые, всё наперекор делают, чем стоит написано в Новом завете? Нет, неправ был Ленин – Ленин был неправ, когда говорил, что революцию надо делать с тем народом, с теми людьми, какие они есть. Если делать революцию с теми людьми, какие они есть, то из проповедей Нового завета получится инквизиция и религиозные войны, а из идеи коммунизма и самого светлого на земле будущего получится то, что уже получилось. Из христианства получится инквизиция, а из коммунизма – Гулаг.
Разве призывал Иисус Христос сжигать библиотеки и разрывать на куски живых людей только за то, что у них другая вера? И кто приказал им делать всё наперекор Его указаниям? Кто приказал нам, так это известно. Можно по пальцам их всех пересчитать, кто приказывал.
Но что дело дойдёт до этого самого конца… Когда я выдрал телефон с мясом из стены, потому что слушать не стерпел того, что он говорил мне, и это был не сам телефон и даже не мой старый друг, потому что и его арестовали в тот день, а это была его плачущая, рыдающая в трубку жена и рвущая на себе волосы, что как же это может быть, что вдруг арестованы все-все…
Как это арестованы? И кем это – арестованы? Ведь мы, молодые, совсем ещё юные тогда, в октябре 1917 года, мы и были организаторами этого планомерного завоевания власти – так кто же мог их, моих соратников и друзей, замазать каким-то чёрным слоем выдумки, каким-то, прости за выражение, дерьмом, кто же мог их всех так опозорить, что пришлось их… РАССТРЕЛЯТЬ? ТЫ МОЖЕШЬ САМО ЭТО СЛОВО В РОТ ВЗЯТЬ? Как это может быть? Как это вообще – возможно?
5 глава.
Шапку забыл
НАДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА
Алексей Владимирович
…Это на моих глазах происходило.
Я в этот день был у бабушки – я это называю у бабушки, не у папы, – и в этот день папа был дома. Ему уже было пора уходить на улицу в конце дня, а папа что-то разговаривал по телефону. Ну, потом раздаётся там… громкий грохот. В общем, короче говоря, какой-то разговор по телефону, который вывел его совершенно из себя, он схватил, – коммунальная квартира, коммунальный телефон, – сорвал его со стены и грохнул об пол. Я очень перепугался. Мне кажется, что это было ещё в 34-м году, потому что это не в мой случайный приезд, мы тогда ещё жили в Москве…
Помню хорошо, что я тогда очень испугался, что с папой творится. Вызвали, видимо, врача… После этого я узнал, что его взяли в больницу. Видимо, в психиатрическую больницу. По телефону я узнавал… ну, узнал, что папа вроде поправился, выписали его, но несколько месяцев он там провёл, в больнице, или, мне даже кажется, что в санатории он был. Бывали психиатрические санатории? Ну, могли по другой причине медицинской его отправить, но, в общем, он несколько месяцев провёл в больнице. И это тоже делало понятным бабушкино отношение к этому, потому что из какого-то не очень вразумительного разговора, – то ли это от бабушки идёт, то ли это от Кима идёт, или от кого-то, но какая-то такая была информация, что папа очень ощущал – вот это. Он-то знал гораздо больше, чем я знал, папа-то – сам; он и с бабушкой, наверное, своими опасениями делился, – так что у неё отношение к тому, что папа вовремя умер, то есть что до него не добрались. Такая фраза была.
Мне это как-то очень… это идёт на уровне моего предположения, но всё-таки какие-то мелкие факты или фразы какие-то отдельные заставили меня так предположить, что он услышал какую-то очередную новость… Ну, что его могло вот так вот взбесить? Значит, ещё кого-то взяли. Ты бы сказала… на его месте бы крикнула: «Эй – не может этого быть!» А он вот схватил – то, что было под рукой… Ну, и общее состояние, соответственно, было такое, что его взяли в больницу.
Так что это тяжёлое очень время. Я думаю, что если бы не эта политика партии, – назовём, Сталина лучше – политика Сталина, – то, может быть, у него не было бы ни этой болезни, ни такой ранней смерти. Если это могло его настолько вывести из себя, это могло быть причиной и инсульта, и инфаркта, и чего угодно. Вот такая, – как сказать, – жизнь тяжёлая.
А мне надо было уже уходить, и я потом долго себе не мог простить, что, знаешь…
Катя: Шапку оставил.
Алёша: Не шапку, а кепку.
Ну вот. Я ушёл домой. А куда – домой? А мы в 34-м году в августе уехали из Москвы. Значит, самый последний срок – это могло быть лето 34-го года – это событие, с яростью. И, только придя домой, я заметил, что я кепку забыл. Другой кепки не было, это было лето, и я не почувствовал необходимости… так что это понятно, почему я забыл. И никак не мог заставить себя пойти опять туда, к бабушке, и говорить с ней, что я кепку забыл, ещё что-то… Может быть, потом я эту кепку забрал, но какое-то длительное время, – несколько недель, наверное, – я всё ещё не мог: пойти – не пойти, пойти – не пойти. И меня это очень смущало, что я убежал как трус.
Ирина Алексеевна: Сколько лет тебе было тогда?
Алексей Владимирович: Тринадцать.
6 глава.
Тот станет всем
ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА
Владимир Фёдорович
Это завоевание власти… оно было не только планомерным, но и почти бескровным, ведь в моём родном городе крови почти и не было, а был поголовный, всех охвативший восторг, словно бы все выбежали сами из себя наружу и пели, и орали, и в воздух стреляли от напряжения всех сил, потому что мы перевалили за черту возможного, перелезли через все преграды и поломали их при этом, и песни – да, без песен всего этого и вообразить невозможно, а ты вот представь, что когда целая толпа – и нет, это не толпа была, а это весь народ как один человек поет, что кто был ничем, тот станет всем, то как этому не поверить? И я ведь и сам чувствовал себя в детстве как ничто, и я и был ничем, а тем более мои прекрасные сёстры, вот они-то и были совсем уж «ничем», и как только папаша не прибил насмерть младшенькую, Люсеньку, которая потом и до смерти всю жизнь прожила в страхе!
А теперь поют эти красные, эти полыхающие огнём слова – «мы свой, мы новый мир построим» – и все верят этим словам! Да, в глазах – вера, а в глотках – песня. Это не песня – держи выше – это даже и не гимн уже, а это – исповедание веры! С Интернационалом. И чем это отличается, прости, от тех самых слов, затесавшихся в отцовской засаленной книге, о том, что не будет ни эллина, ни иудея? Ну чем был плох наш вариант той же самой великой мечты? А тем самым он и был плох, что мы сами никуда не годились и не умели держать себя в руках, не умели быть теми, кем мечтали стать – тем самым «всем» – или и на самом деле понимали это «всё» как попытку перейти в состояние разнузданного разгильдяйства и ничего-не-делания? Чтобы и самим стать теми самыми, с кем мы же и боролись – не ради мечты о братском мире, а ради того, чтобы всё продолжалось тем же порядком и богатые угнетали бедных, только в богатые – во власть имущие – стали попадать по другому признаку, по другим критериям, по критериям – кто подлее, тот и пролезет повыше, а кто самый подлый, тот, как Антихрист, на самую верхушку власти и начнёт глотать – и не подавится – всех тех, кто по старинке – внизу – всё ещё полощут алыми знамёнами в небесах, распевая песню о том, что кто был ничем, тот станет всем.
Вот он и стал – всем. Только он один всем и стал. Тот, кто был полным ничтожеством. Нет, не таким «ничто», как бедная моя младшая сестричка, а настоящим, кованным из железа, обработанного особым способом, и я знаю, каким это способом из простого железа такие сплавы получаются, но каким образом из такого человеческого отребья такие в латы закованные злодеи-подлецы получаются и какие для этого потребны температурные условия – до сих пор не дойду умом. Нет, это не змея была, пригретая на груди кого-то другого, который мечтал уж слишком истово. Нет, это был обыкновенный кусок железного дерьма. Так я скажу. И какие температурные условия приготовили из этого дерьма то «всё», о котором-то и поётся в песне – это секрет.
Первый этаж: 1952—1970
Айсберг выплывает из воды
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Николай Арсеньевич, внук Фёдора Фёдоровича,
второе поколение
Инна Арсеньевна, внучка Фёдора Фёдоровича,
второе поколение
Алексей Владимирович, внук Фёдора Фёдоровича,
второе поколение
Ирина Алексеевна, правнучка Фёдора Фёдоровича,
первое поколение
Елизавета Фёдоровна, дочь Фёдора Фёдоровича,
третье поколение
1 глава.
Ледовитый океан
Ирина Алексеевна
Мне довелось её увидеть: эту Люсю, которая за сорок лет успела превратиться из той беленькой девочки, что предстаёт перед нами на семейной фотографии рядом со своей мамой Розвитой, во взрослую ТЁТЮ. В тётю Люсю – младшую сестру моего деда Володи. Того самого, который в 1911 году ушёл из дому в так называемое подполье.
Было ли это в 1952 или в 1953 году, не вспомню, но что это было точно до рождения моей младшей сестры, а следовательно, до 1954 года, это помню точно. Помню себя одиноким единственным ребёнком, а не заботливой старшей сестрой.
Помню, как я сижу в этой комнате в гостях у папиной тёти на диване перед столом – слева от меня на стуле сидит моя мама, за ней, ещё левее – папа, а во главе стола, против мамы, сидит сама хозяйка дома – Люся.
Я никогда, ни до, ни после, не испытала такого высокомерного, такого, как в лёд стеклянный заключённого презрения с высоты некоей надменности, которое она передавала – эта дама, гордая неизвестно чем, она сидела спиной к окнам, расположенным по обе стороны от стола, и она сидела лицом к нам, к своим гостям, и передавала оттуда что-то моей матери, сидевшей против неё. Может быть, она передавала те самые пирожки, прославившие её мать, бабушку моего отца, со сказочным именем Розвита, которую я не видела никогда. А что какие-то особые пирожки она сотворяла, об этом я была наслышана, хотя ни о каких рецептах речи не было ни разу – стало быть, унесла моя прабабушка эту тайну с собой в могилу.
Но то, что мне пришлось пережить в тот вечер «в гостях» у младшей дочери этой Розвиты, было самое неприятное воспоминание первоначальных дней моей жизни. То, как она передавала это замороженное в своём высокомерии нечто моей матери – а надо сказать, что в той своей молодости моя мать была красоты несказанной, и все окружающие это видели и реагировали соответственно: кто с открытым, а кто и с чуть прикрытым восхищением. И поскольку одежду на неё шила бывшая сотрудница её бабушки, поставщицы моды царскому двору, так что платье на ней сидело как влитое, а на голове у неё возвышалась, как всегда, корона из красиво уложенных волос. И вот с такой Красавицей эта тётя обращалась как с последней… даже не знаю, как назвать то униженное до последней степени, то распростёртое в пыли у чьих-то ног существо, каким это высокомерие тёти Люси пыталось сделать мою родную мамочку. Это высокомерие, которое надменная старуха в начале 50-х XX века как бы передавала моей матери как какую-то хрустальную, замороженную до дна – плевательницу, как мне захотелось сказать.
Я сидела справа от мамы на диване, и по стенке этого дивана у меня над головой ходуном ходил, елозил и бил меня ногами по голове какой-то мальчуган, тёти Люсин сын по имени Димка, и куда бы я от него ни отодвигалась, ни пыталась забиться в угол, он никак не мог прекратить своих приставаний. Что он в будущем будет так же непонятно мучить свою дочь, а потом и собаку, в этот момент моего детства я, конечно, знать не могла, и это не облегчило бы моих тогдашних страданий. А почему заледеневшая тётя Люся не отогнала его от меня, пятилетней малютки? И чем она так гордилась, словно была непробиваемой ипостасью ледяной, а не снежной королевы?
Это нечто, что она передавала моей матери через стол – это была невидимая, но ощутимая ваза изо льда несмываемого превосходства. И я не могла понять, чем могла так уж гордиться эта ничем, кроме высокомерия, не примечательная старая женщина, проживающая в тесной комнате с окнами во двор – где-то, как мне кажется, на Моховой. И ещё стеклянная дверь из неровного стекла с узорами, ведущая на кухню, мне запомнилась в этот день, и пирожки на подносе, почивавшие в кухне на столе справа от входа. И я умоляла моих родителей никогда, ну никогда в жизни не водить меня к этой якобы родственнице, отличающейся от других наших родственников так, как Ледовитый океан отличается от яркого тёплого юга.
А через много-много лет моя собственная сестра, которая в раннем детстве была до того беленькой, что её чуть ли не за альбиноса почитали, посетила эту тётю Люсю. И у неё сложилось совсем другое впечатление от этого посещения. И чем это изменение было вызвано: то ли внешностью посетительницы, блондинки с серыми глазищами, то ли изменившимся возрастом хозяйки дома, никто никогда уже не узнает. А только произнесла моя сестра, наречённая по моему указанию тем же именем, что и Люся, после этого посещения такие странные слова:
– Она такой интересный человек! Представь себе: она всю жизнь боялась!
Это стеклянное, замороженное внутри, что она передавала моей матери вместе с тем сосудом через стол – а стол в той комнате не был таким уж долгим, чтобы руки, протянутые с одной стороны, не могли донестись до рук, протянутых им навстречу, и значит, эти руки встретились или почти встретились, подхватив тяжёлую вазу, – но это не ваза была с угощением уже не помню каким, а это было стеклянное сооружение для передачи холода замороженности, остановки жизненного тепла: для того, что она, Люся, дочь своего отца Фёдора Фёдоровича, передавала жене своего племянника – замороженную суть генетического кода. И после всех высказываний её предков, оказавшихся под конец разговорчивыми, становится ясным, какую недобрую ношу она в тот день моей матери передавала. Это была не ледяная ваза, а запечатанное предвестие жгучей реальности своего рода:
– Вот ты куда вошла, голубушка! И нет и не будет тебе пощады!
И это было во много раз тяжелей, чем то, что её собственный сын вытворял в тот миг, выплясывая, как безумный разгильдяй, на плечах и на макушке у крошечной по сравнению с ним дочери моей матери. Дикие пляски Димки – это был только симптом – один из симптомов той грозной будущности, что назревала в воздухе и скапливалась, пытаясь прорваться в непредсказуемых вспышках внутрисемейного террора. Той, что из предгрозовых раскатов воплотилась в семье её брата Сени через три года, а в самой семье моей матери через шесть лет – но воплотилась.
Действительно ли Фёдор Макарович убил графского сыночка, крошечного новорожденного мальчика в 1859 году, этого никто не может доказать. Но то, что в 1955 году правнук Фёдора первого занёс руку и окровавил себя навсегда – этого никто отрицать не сможет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.