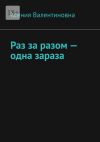Текст книги "Айсберг"
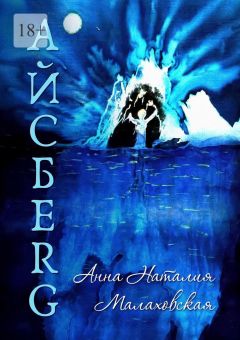
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
8 глава.
Трусость
Барин
И надо было быть мне таким дураком, таким идиотом полным и непробиваемым, чтоб не заметить в моём подчинённом и теперь уже, после всех моих обучений и наставлений, как будто по своей воле подчинённом, и не в рабе подчинённом, а как будто бы в том, кому доверять можно было, в сотруднике моём, – не заметить в нём пробивающегося из-под всех его невероятно умных изречений подспудного огня пережаренной, из глубины веков идущей ненависти! И то, что все люди станут братьями, он понял на свой лад, а именно, что, во-первых, не сёстрами, и что тех, кто оказался в стороне от этого всемирного равенства и братства, можно обижать и бить, и не только бить кулаком, как своих подчинённых били господа – иногда порой забыв свою как будто бы благородную суть и высь, а вот тем самым и бить, что не для битья ведь предназначено, а обижать не по-человечески и как никакой скот, никакой самец свою самку не обидит, ни один зверь, так сказать, а то, что люди хуже зверей, и намного, и что таким осатаневшим мерзавцем окажется мой – нет, не раб, а воспитанник и ученик! Как только я своим невежеством поставил его в положение настоящего раба, заставив по приказу стать законным мужем моей наложницы – как все его благородные побуждения слетели с него, как будто штаны с него содрали, и он обнаружил свою омерзительную – ну что ты скажешь? Что это я виноват? Но если б я это знал, я бы в землю его закопал вместе со всеми его высокопарными изречениями!
Но я не знал и знать не хотел. И до того был в панике, узнав о её беременности, что уехал в город и праздновал там со своими друзьями-собутыльниками, в ужасе ожидая рождения своего потомка, не то сына, не то внука, и как это может быть одновременно, и сын, и внук, вот это мне теперь стало казаться чудовищным каким-то преступлением, и я не знал, как это отзовётся на моём… потомке ведь? А что ему день всего жить на земле придётся, день и ночь и потом уже, наутро, сгинуть, закрыть навеки свои глаза – об этом и помыслить ведь не мог! И все эти невероятно глубокие изречения моего не раба, а сотрудника по выработке совсем замечательных идей о том, как переработать человеческое общество из общества скотов в настоящее человеческое и соответствующее красивым таким, прекрасным идеалам, все эти невероятные изречения такого конца не предвещали ведь, не могли, не сумели бы предвестить!
И как-нибудь исправить – хоть что-нибудь – вывести мою дочь из этой могилы, из этого заточения в плену у бывшего моего раба… дать ему зарплату после отмены ведь крепостного права – его отменили, и всего-то через два года после этого убийства потаённого…
Убить его самого, на худой конец? Вот этого мне тогда не пришло в голову, что отлучить его от моей родной дочери после законного замужества, оказавшегося для неё еженощной пыткой, можно было только при помощи самого простого и единственного примитивного способа – при помощи убийства. Но разве кто-нибудь мне сказал тогда, чем для неё обернётся этот брак? И почему я в ту пору, выпуская их всех на свободу, не позаботился о том, чтоб они могли бы жить хоть в каких-то приличных условиях, и не пожелал увидеть, как развивается в тени всех этих общественных сдвигов и перемещений не только моя обречённая дочь, но и её, так сказать, сын, единственный оставшийся в живых после всех остальных моих внуков, мертворождённых и закопанных в землю до того, как они могли бы вдохнуть хоть один глоток живого воздуха!
И теперь ты можешь меня презирать и наплевать на все мои возвышенные теории о благе всего товарищества на земле, и наплевать на мою великую любовь и на святость, которую увидел в лице моей подвластной мне рабыни, но она не согласилась быть рабыней, и это вот её несогласие передалось по наследству, эта вот раскалённая ненависть, и мятная прохладная нежность, и святость – да, именно святость и способность эту святость и пережить, и воплотить – вот это и передалось, всё настоящее передалось по наследству, а моя собственная трусость, моя паника, когда волосы на голове дыбом встали от страха… вот как я хотел бы понадеяться, чтоб оно не передалось от меня, по крайней мере. А что передалось от моего раба вместе с его такими уж невероятно глубокими измышлениями – так это уж точно не трусость, а это что-то замкнутое в глубине веков и от первых носорогов, скорее всего, идущее, от скотины омерзительной, а совсем не от господина, воинственного как будто по своему благородному роду, с синей кровью – голубых кровей – и с тусклой, протухшей в глубине души панической трусостью!
9 глава.
Запретный чулан
Фёдор Макарович
А что ребёнок, на другой год родившийся, умер, так на то воля Господня. Так она сказала. И что второй умер, ещё не раскрыв глаз и не вздохнув – тоже воля Господня. Но после третьего умершего уже прозрела наконец. И к тому самому ксёндзу обратилась с просьбой переломить как-нибудь эту волю – Господню. Как будто какой-то там затрапезный священник может отдавать приказы самому Господу Богу, которого вроде бы и нет, но иногда вот Он появляется и поступает тогда – в таких случаях – уж очень несправедливо.
И придумал ксёндз этот доморощенный трюк, приёмчик такой, про который не знаю, что и сказать, глубина моей мысли до дна бездны смысла этого трюка не достаёт – придумал окрестить следующего, четвёртого по счёту, ребёнка именем отца – моим, стало быть, именем. И четвёртый ребёнок не умер. Остался в живых, на радость его матери – вот теперь у неё оказался тот, кого она могла любить, и ласкать его по вечерам, и заглядывать ему в глаза по утрам, ожидая от него каких-нибудь совершенно сногсшибательных истин.
А была ли в ходу чёрная магия, когда тот же ксёндз крестил моего четвёртого по счёту первенца Фёдором Фёдоровичем? Никто не знает. Но подозрение падает, ведь на всех его потомках отразилось что-то… не к ночи будь сказано… что-то такое, волосатое как будто, и чёрное, и словно бы передал тот ксёндз моей Неназванной как мешок неоткрытый, чтоб не открывать, но использовать – чтоб не умер проживавший в те дни у неё в глубине мой сын. Мой ребёнок – или всё-таки не мой? Неужели и через столько лет могло ещё затесаться это неназванное подозрение, что ребёнок всё-таки мог бы оказаться не совсем моим, несмотря на все мои неприличные для крепостного мысли и её неподходящую для крепостной невероятную красоту?
А теперь вы уж сами разбирайтесь. Всё, я сказал, что можно было высказать словами. А чего словами недоскажешь, досказывайте сами: и про ум, которым вроде бы кто-то – Господь ли или кто-то другой – не обидел, и про красоту, которая успеха всё-таки не принесла. Решайте сами, кого винить, а кого на щит поднимать, кем гордиться, а кого – с глаз подальше, в чулан запретный заталкивать. Теперь это – ваше дело.
10 глава.
Подушка
Марина
Подушка. Не подушка, а подушечка, обшитая по бортикам блестящей тесьмой. Вышитая розочками из господского сада. Говорят, что Сама её вышивала, и розочки те в стакане перед ней поставили, чтоб уж совсем на живые похожи вышли.

Фото из архива Анны-Наталии Малаховской
Вышивала и не думала уж, конечно, что не на добро, а на самое высшее на свете зло вышивает. Что как топор, и ржавый, и грязный, обрушится эта, с розоватыми, с неяркими цветами подушечка на лицо… нет, ещё не на лицо, а на личико, на крошечный лик, божественный в своей красоте, в неземной, как захотелось мне сказать, вот Бог его и взял. Хотя я и знаю совершенно точно, кто его забрал, когда я заснула и руку свою, обнимавшую моего первенца, отпустила.
Каким взглядом поглядел! Как змею и длинную, и липкую запустил. И ни слова. Мы обменялись взглядами. Поутру. Когда луч солнца, как золотистая пороша, затрепетал на шёлковом одеяле, на большой белой пухлой подушке и наконец добрался до личика самого прекрасного на свете. И сразу всё стало ясно! Если б ещё родился девочкой, то отговориться – можно было. Вполне возможно! Ведь мы с ним… с барином… вроде бы даже похожи. По красоте. Но мой первенький и единственный любимый из всех-всех народившихся потом оказался мальчишкой. Барчуком. И пощады ему не ожидалось.
Это я поняла уже по тому змеиному взгляду, тёмно-коричневому на вид, который запустил в меня он – эта учёная обезьяна. И решила вообще не засыпать. Тем более что он громко плакал, мой любимчик, моё солнышко ясное, мой свет – плакал и звал к себе – к нам – своего настоящего батьку. Того самого, который отдал нас на поругание, на подлые шуточки по ночам и злобные окрики долгими днями и в конце концов – на растерзание.
И почему он сам, барин, выбрал этого грубого Фёдора мне в мужья? Что в нём такого уж выдающегося обнаружил? Неужели не было и получше мальчишек во дворе? Вот Гришка, например. Может, и не разобрался бы во всех этих барских затеях, но и меня не стал бы обижать так грубо. Не стал бы гнев на мне срывать. Не столько в нём ненависти, застоявшейся и спрессованной, как уголь, которым топят барские камины.
И не убил бы. Бога побоялся бы. Но барин решил – меня, такую, как я была, на своей обезьяне учёной женить. А что значит – женить? Это грубое, и нахрапистое, и вонючее всё равно, несмотря на привитую господином привычку умываться – но скотский-то дух разве вымоешь?
Что это может быть так жестоко и стыдно, то самое, что с барином было так ласково и легко! Хотя я и знала, что это был грех – грешные объятия – но грех был завлекающе прекрасен. А законные супружеские «объятия» – так омерзительно жестоки.
Что такое грех? Что один грех влечёт за собой другой, об этом я уже догадалась. Но что этот грех был – мой? Могла ли я – крепостная не по воспитанию, но по званию – моему хозяину отказать?
И что убить себя – это грех – это ксёндз сказал. Когда я прибежала к нему среди зимы, накинув только платок. «Терпи», – сказал. Что всё наладится и устоится. И что ненависть супруга моего вполне можно понять и оценить. Но что убийцей мой супруг станет – этого не сказал. А ведь если бы я с горя бросилась тогда под колёса – пока ещё и беременности незаметно было – тогда не прикоснулась бы эта вышитая подушка к личику самого прекрасного небожителя на свете!
Когда на другое утро я раскрыла глаза и увидела на большой белой подушке возле себя бездыханное тельце младенца, я поймала вызывающий взгляд супруга. Нет, не виноватый. А вот такой, какова и вся его подлая порода: и наглый, и настаивающий на своём.
– Да, убил! – говорил этот взгляд, и да, вот так, этой подушкой, которую вышивала твоя несбывшаяся свекровь. Вышивала и не знала, что орудие смерти для своего родного внука вышивает.
11 глава.
Головой об стену
Марина
Выхлестнулся ответ на вопрос, неспрошенный:
– А как оно было на самом деле? – и там стоит какая-то вмятина, как будто кто-то пытался замять и, как это говорится, что замять как будто бы для ясности, но ясности никакой не получилось, а получилась только скомканная боль. И сколько я над первенцем своим, над самым лучшим своим сыночком убивалась – а барин не показывался на глаза, и так скажи сама, как эту любовь мне было из сердца выкорчевать? И не знала ведь я тогда, что не только любовником, мил сердечным другом он мне приходился, а что отдал он этой скотине стоеросовой не кого-нибудь чужого, не блядь какую-то подзаборную, не потаскуху, а свою родную дочь, и запечатал, и со всеми гербами и прочими печатями, что отдаёт он меня своему секретарю, своему поверенному, на растерзание – на брачное выдёргивание из моей души последней даже и не надежды – какая уж там надежда – надежда похоронена и в земле крепко спит, на воскресение не надеется. А отдал он меня на поругание, которое в то время называлось словечком нехорошим, и не буду его тебе повторять, а только знай, что хуже того изнасилования и во сне не увидишь, и не приведи Господи: никому такого не пожелаю. И не родилось у меня дочки, девочки не получилось, а это ведь была у меня последняя надежда, что родится, может быть, не такая, как этот мужик стоеросовый, что таскал меня по ночам за волосы и бил головой об стену, а родится – ну вот такая, как я сама была в детстве – и весёлая, и заливалась соловьём, и кто-то шепнул мне разок, что голос у меня как у матери моей непревзойдённой, как говорят, по красоте, и что родила она меня и померла в родах, и даже холмик показали, и посадила я там цветочки, и ходила всё туда, и просила свою родную матушку, чтоб послала она мне девочку, а не сына. И как он по ночам зубы стискивал и ворошил меня, вонзаясь, и приговаривал:
– Сына мне родишь, сына!
А я поутру на холмик тот бежала и просила её, ни разу не повидавшую меня, я просила её: «Пошли мне девочку, и пусть будет весёлая такая, как я была когда-то весёлая ведь, говорят, и пусть будет беленькая, как ты, говорят, была – со светящимися волосами», – как-то так они объяснили мне и подчёркивали, что не пустил тебя барин повидаться с твоей родной матерью и перед смертью даже. И как ты по мамке своей тосковала… а где была, проживала у своих господ в няньках эта твоя мать, моя ведь бабушка – об этом не говорили, видно, и сами этого не знали, а только как горевала ты по матери и какие песни про эту разлуку пела, и все ведь эти песни во мне отпечатались, и я их повторяю – про себя, чтоб никто, не дай господи, не услышал, потому что зову изнутри себя самой:
– Ну выйди на свет, появись – из меня, из пленной наложницы злого вонючего раба – крестьянина – барской учёной обезьяны, но как он со мной поступал, так только зверь с добычей поступает, которую он пожирает каждый день и всё не нажрётся, всё месть свою не успокоит, это он так мстит – барину своему – через меня – и даже не знает, не донеслось до него, чья я такая, и откуда такая взялась, и каких я кровей.
А я раскапываю эту могилу – не руками, конечно, а только своими песнями, – и зову тебя, потонувшую во мне, как в заводи, как в чёрной яме – отзовись, моя любимая матушка, моя не виданная никогда, и пошли мне белоснежную, беленькую, как ты сама была, девочку в родные дочки! И буду я её беречь и назову тогда твоим именем, таким домашним, таким тёплым, как вздох – нет, как всхлип – Аксинья – Ксюшенька – вот как мне та бабка старая сказала, та, что вытаскивала меня когда-то из чресл моей любимой, моей невидимой, что звали тебя таким простецким именем, а не Амалией, как этот барин все уши мне прожужжал со своей первой любовью. Что это у него такая великая, стало быть, первая любовь началась однажды в сумрачный день и во время грозы. И все эти рассказы – мне, ребёнку, дочери своей потайной, про свою, стало быть, измену, что ли? И как это назвать? И что, заподозрив беременность у меня, у своей дочери, выдал он меня замуж за своего холопа непотребного – и головой об стену, а я потом кровь со стены отмывай!
Откуда же мне было знать тогда, что не дочки мне надо было ждать, а внучки – девочки со светлыми, как у тебя когда-то были, волосиками на голове, и другой внучки – постарше, про которую все говорили потом, уже после моей смерти, что пошла она – да, в свою бабушку, а стало быть, в меня пошла, и стало быть, моя жизнь не совсем пропащая, не совсем никчёмная была. Но я её не повидала. А что и ей в родах придётся помереть – это чья вина? И что и её внучке была уготована и та же самая судьба – это откуда тянется, скажи, из какого поколения, из какого кромешного ада протягивается эта нить?
12 глава.
В лесу
За могильным холмиком, на плешивом краю оврага, в буреломе, среди упавших ветвей и подросших новых побегов…

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«Вход в царство смерти»
Ощущая себя в роли того самого «полубарана», о котором разглагольствовал когда-то её злосчастный муж, – для рабов «чистюля», для господ уж совсем перепачканная – не потому ли она зачастила в лес, что ожидала и надеялась на какую-то ДРУГУЮ встречу? Правда ли, что не только могилку своей матери, этот незаметный бугорок, поливала она слезами и рассказывала ей всё-всё, и про того, который предал и отдал на съедение, и про того, который жрал её за ночью ночь – правда ли, что поднимала она порой свою склонённую голову и искала глазами того, кто подойдёт к ней – сквозь скрестившиеся ветви кустов?
Нет, не подойдёт, но взгляд свой запустит и мимо стволов, запятнанных листвой, глянет вдруг – и она его поймает снова – взгляд этих глаз, которые ни за что не предадут! Если среди людей нет ни одного на всей земле, с кем бы поговорить по-человечески, то почему бы по-волчьи не пробормотать – вот то же самое всё, что кому-то из живых надо же, надо высказать и заплакать не только в обнимку с сырой землёй!
Правда ли, что она мечтала приручить эту волчицу – мать детей, резвящихся за гребнем овражьего края? И что волчица не тронула её, признав в ней такую же мать, как и она сама – разглядев затаившегося в её теле детёныша, такого же зверька, как и её веселящиеся в зарослях дети?
13 глава.
Osud
Так по-чешски называется судьба: ОСУД. Осуждение. Представляется смертельно-холодный зал, где бестрепетные судьи выносят приговоры…
Марину утешить не получается, и после её смерти не получается добиться никакого смягчения её участи или облегчения вины её обидчика – или обидчиков – потому что оба, и муж, и любовник-он-же-отец, постарались на славу, чтобы сделать её участь безысходной. И никакая бабушка не вылезла из-под земли, из утешительной бездны могилы, чтоб приласкать её напоследок и растопить в себе боль её объятий – куда там растопить! Марина пострадала из-за того, что её отец купил её мать, чтобы играться в неприличные игрушки? Или и правда существует такой огромный зал, куда приводят человека и начинают судить за те преступления, что совершили его предки?
Леокадия провинилась, а отдуваться ни в чём не повинной девочке, которая не сама себя рожала и не сама себя зачинала, которая никому не покупала таких живых игрушек? Так ведь? Или и её потомкам придётся и дальше расплачиваться за это преступление Леокадии – а может быть, вдобавок ещё и за убитого ребёнка, правнука этой доброй Марининой бабушки? Существует ли этот смертельно-холодный зал, где выносятся эти приговоры как осуд – судьба, как осуждение на казнь за те дела, о которых ты и представления не имела и которые скрыты за семью скрижалями в недрах семи поколений до твоего рождения?
И на фоне этого беспощадного холода осуда чего стоит уверение, что человек «сам кузнец своего счастья»? Попробовала бы Марина взять свою судьбу в свои руки – вот вы себе представьте, как она стоит у наковальни с молотом и пытается что-то сковать, например, подкову как символ счастья, а железяка с наковальни вырывается, чтобы ужалить её и без того израненное тело! Так ли будет и с её потомками? Удастся ли им поверить в то, что они способны сами, невзирая ни на какие окрики и хрипы со стороны запретного чулана, сковать себе новенькое блестящее счастье?
14 глава.
На зелёный луг
Волшебница Вероника сказала, что Марину надо привести на зелёный луг. Но на этот раз попасть на тот диванчик в светлице у Вероники, на диванчик с лиловыми покрышками, на котором до сих пор проходили сеансы у Вероники, не удалось. Сеанс проходил по телефону, и из моей собственной комнаты я позвонила этой отдалённой от меня женщине, и лежала на собственном своём белокрылом лежбище с мобилкой, прижатой к уху, и вслушивалась в произносимые Вероникой на другом конце провода Слова.
И понимала их так, что надо создать в своём воображении луг с поющими травками и разнообразными пробегающими по земле многоцветными насекомыми, и потом, когда всё это увидишь как вживую, надо пригласить на этот луг измученную Марину с убитым младенцем. Пригласить: что это значит? Просто попросить внутри себя, и потом покажется, что там, на этом лугу и среди этих стеблей, голыми ногами тысячекратно изнасилованная стоит женщина. Не приглядываясь особенно к её лицу, можно было поверить, что это та самая Марина и есть, неправедно рождённая сама и несправедливо осуждённая в том зале суда, где её осудили за все её – якобы её – грехи, хотя её грехами они не были, и о том, что она вступила в предосудительную связь с собственным отцом, она ведь никакого представления не имела – при жизни! А вот неправедные судьи осудили её, и теперь надо ведь этот несправедливый приговор с неё снять и заодно – с ничем не провинившегося ребёнка, только-только появившегося на свет.
Истерзанная мадонна с задушенным младенцем – вот так стояла она на том серебряном лугу, а почему луг стал постепенно в серебро перетекать, я не заметила, а заметила только, как червячок какой-то по мизинцу её босой ноги переползал, слева как будто: её белые ножки траву на этом лугу примяли, и трава решила поседеть от горя, а голова младенца свешивалась набок, и ему было уже ничего не объяснить – и через двести почти что лет после своей смерти он оставался таким же безымянным и не способным воспринимать какие бы то ни было человеческие слова.
И Вероника произнесла почему-то имя – архангел Михаэль – что этого архангела надо попросить отвести этих двоих в тот «Свет», что располагался у них за спиной. На горизонте разгоралась полоска какого-то вроде бы и действительно Просветления, и неразборчивая фигура в беловатом балахоне повела их туда – мадонну со свисающим с её рук мёртвым грузом ребёнком. И в конце концов они оказались на горизонте, уменьшившись до размеров стеблей травы, а потом весь этот мир смылся куда-то: и на горизонте просиявшая заря, и весь луг с его зелёной как будто бы травой и с тем червячком небольшого роста, проползавшим когда-то по мизинцу правой ноги отмучившейся Марины.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.