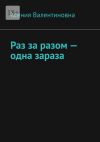Текст книги "Айсберг"
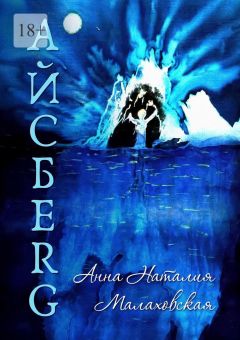
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
7 глава.
Как укусить себя за хвост?
Ирина Алексеевна
Вот такие слова вымолвила Лизонька, эта красавица, погибшая до времени на поле битвы за Жизнь, где ей была уготована смерть, и не только ей самой, но и её дочерям, новорожденным малышкам, которые, если бы им удалось остаться в живых, оказались бы моими добрыми помощницами, как другая моя тётя, сестра моей матери, родившаяся за год до них. И очевидно, oна ничего не знала о своих предках – о наших общих предках – а если бы узнала?
И что сказал бы мой дед-революционер, если бы он узнал обо всём, что мне наговорили мои предки, начиная с седьмого поколения? Ведь для него эти люди были его собственными предками, и всего лишь в третьем и в четвёртом поколении! То есть та белокурая девочка с яркими волосами, вступившая в тёмный зал, где по стенам поблескивали зеркала, для него она не была его прапрапра, а была ведь всего-навсего его прабабушкой, и она направлялась тогда – сейчас – для неё это – сейчас, когда она слышит чьи-то сдавленные рыдания, и ей чудится почему-то, что кто-то вторит её собственной несмываемой тоске – «мне в сердце кто-то камнем бил» – что кто-то зовёт её и ждёт её жалости, её сочувствия бедному ребёнку, затравленному…
Вот чем он был затравлен, она тогда не знала – ещё не знала – что грудами сладостей и леденцов на палочке и всеми и всегда исполняющимися желаниями был он затравлен: всем тем, что нам и не снилось! И поэтому, когда одно-единственное желание – желание взаимной любви в ответ на его безмерную и как будто мистическую страсть – оказалось неисполнимым – вдруг, как же это может быть вообще? – вот это страдание оказалось для него таким непосильным: там и тогда в этой комнате, располагавшейся справа от входа в зал и от узких и длинных окон, выходивших на двор.
И он звал кого-то. Звал на помощь. Потому что если бы не подошла к нему в тот миг эта белеющая на фоне заоконной темноты фигура, он так и умер бы тогда – растоптанный непомерной ношей неразделённой любви. А для того, кто никогда не любил вообще никого, этот отказ в любви от первого любимого, полюбившегося, от той, к которой воспылал всем разумом и всей душой – оказался смертельным ударом. Как воспаление, эта страсть на его губах – и он действительно тогда умирал и был беззащитным в своём страдании.
И вот тут бы повернуть назад. Но повернуть назад не получилось. Не случилось такого чуда, и девочка, ведомая своим страданием, которое было как близнец, как двойняшка тому другому страданию, что слышалось тихим сдавленным рыданием с белеющей постели из-под перин, наваленных, как скомканные облака… и плачущего не узнала, а потому присела на край постели и прикоснулась к нему рукой.
Ну что же тут такого и чему тут возмущаться? И почему непотребные потомки орут, и возмущаются, и топают ногами, и докричаться не могут, а выговаривают только такие слова, которых не хочу повторять?..
Нашли друг друга две измученные души. Два страдания слились в одно – которое из страдания… как будто подтолкнули чашу весов, и страдание перевернулось в воздухе, как тёмная монета, что сверкнула на лету своим блистающим боком. Как та самая чёрная луна, что на миг превратилась в ангела – как будто бы в ангела…

Картина Анны-Наталии Малаховской «Серебряный замок»
Но ведь превращение состоялось. И для той, которая утешала плачущего – в этот миг – страдание из её руки перетекло в его руку, и там, где эти два страдания столкнулись, ответная горечь перешла, перевоплотилась в эту прохладную мятность, в эту мятную нежность, почти холодящую дыхание.
Ну что вы скажете, блюстители справедливости, на этот раз и в этот миг? Эксплуататор, барчук, тот, на которого надо нападать с развевающимися алыми знамёнами и душить, грабить, давить, – вот такие они, эксплуататоры, и с ними следует ведь поступать таким образом? Это ты выучил назубок? Борец за дело справедливости, наконец, а не только справедливости для рабочих и крестьян: «Господ – долой, Помещиков – долой!»
Вот если бы декабристы… если бы удалось друзьям Пушкина добиться отмены крепостного «права», то есть бесправия до того года… ДО того! Тогда этой сцены в 1842 году просто не могло бы произойти! И барчонок, увидев ангела на дороге, выпрыгнул бы, может быть, из себя самого и заболел бы от внезапной любви, но приобрести эту девочку он бы не смог!
И – прощай, борец за права рабочих и крестьян! Тебя бы просто НИКОГДА НЕ БЫЛО В ЖИВЫХ – ни среди живых, ни среди уже умерших тебя было бы не отыскать. Никто и не знал бы – и никогда бы не узнал, что вот такой товарищ открыл однажды глаза и посмотрел на белый свет. Согласен ты на такую расправу над самим собой? Что бы ты сказал, если бы тебе удалось причаститься этого жгучего вина и прогорклого хлеба обнажённых признаний твоих же собственных предков?
Распятые, распяленные по пяти поколениям, растопырившие свои крылья-пёрышки – братья-курицы – в нетопленной горькой зале не узнаёте самих себя – и той, что пожалела, хотя её саму никто жалеть даже и не собирался, и того, кого она пожалела, а он эту жалость ангелу неведомому приписал! С этого всё началось. Всё началось с жалости. И не когда богатый бедную пожалел, а наоборот, когда бедняга рабыня случайно и по недоразумению пожалела палача своей собственной души.
Вот если бы тебе в тот миг, когда ты летом 1934-го вырывал ведь телефон из стены, признайся – вот если бы тебе сказали, что не только все твои друзья-товарищи арестованы на таком-рассяком съезде партии, а показали бы в придачу вот эту историю твоих же собственных недорезанных предков, то какова была бы в этом случае твоя реакция? Что ты смог бы почувствовать – и какими словами заговорить?
8 глава.
Alle menschen werden brueder11
«Все люди станут братьями» – из «Оды к Радости» Бетховена на стихи Шиллера.
[Закрыть]
Владимир Фёдорович
И теперь я вижу всё написанное до сих пор – всё, что вышло наружу – и понимаю, что я мстил собственному деду и прадеду за тех в моём роду, кого эти мужчины растоптали ногами, и что, по сути, революция была местью за изнасилование тысячелетнее.
И убитый младенец, и совращённая малолетняя, и всё это с привкусом издевки над Кантом и с попыткой присобачиться к высказыванию Шиллера. Вот взять сейчас эти все их признания и запустить бы этой рукописью в того прежнего, который до меня тут жил на этих потрохах ненавистного мне дома – и не на отца надо мне выливать своё негодование, а на этих двух, двоих, подружившихся ненароком под сурдинку о том, что все люди станут братьями – ах, как романтично! И поверю, что Шиллер ничего плохого в виду не имел, никакой этой неразберихи в чреве моей невиданной бабушки, что барские и рабские потомки там как-нибудь приживутся вместе и помирятся – а ведь если бы… если бы первого сына моей бабушки мой дед стоеросовый не прибил, то этот младенец и вырос бы братом моего отца… и у меня был бы тогда дядя барских кровей…
Да что там говорить!
Это выражение о том, что все люди станут братьями, как вот теперь не стыдно распевать и не только в концертных залах, – да оно ведь сбылось уже тогда, когда этот отпрыск барский распрекрасный затягивал девочку неумытую к себе в постель…
Так кто же я сам, кто же я тогда и на какую частицу своего кровяного состава сам… как это отвратно, а надо ведь выдать эту тайну, что красный командир сам состоит до некоторой степени не только из раба вонючего – убийцы невинного младенца, но и из этого избалованного вконец и без совести, ну вообще ни на чуток у него совести, из красавца такого…
А как на братика моего посмотреть, так вроде и поверить можно в красоту внешнюю; а на сестрицу прекрасную и вообще… обалдеешь… и не вспомнишь ни отца, ни мать, а вот только какую-то совсем белоголовую, когда на младшенькую глянешь и все недобрые приключения нашей прапра прозреваешь… и как она, дура, плачущего барчонка пожалела – а ведь не пожалела бы, так сама осталась бы жива, а нас всех не было бы на свете – просто не было бы – шаром покати – и никто бы о нас не вспомнил, и в Википедии сведений никаких не было бы о том, как это удалось, чтобы действительно если не все, как это померещилось Шиллеру под конец его жизни, стали братьями, а вот как он точно написал в своей юности, что «нищие станут братьями князьям». Ну, после того как князь затянет к себе в постель невесту кого-нибудь из этих нищих, то немудрено… а, кстати, такой ведь даже и обычай существовал в те недавние времена, когда по двору в своих нищенских одеяниях и вправду бегали сплошные братья и сёстры князей и прочих графинчиков. Да про это и до Бомарше с его «Женитьбой Фигаро» добираться не надо, хватит Моцарта послушать в опере, который простейшим языком об этом всё объяснил, как это тогда называлось: «правом первой ночи»… вот вам и братья князьям!
Так что же это получается? И кто я такой на самом деле? Вот это мои ведь руки. И почему мне не нравилось, когда папаша размазывал по столу эти свои грязные шуточки? Почему сестрицы убегали, заслышав его неприличные выражения за столом? Кто мы такие есть? Братья и сёстры этим ненасытным эксплуататорам? Как мы можем их победить, если любая победа выворачивает нас наизнанку и превращает в подобие тех, кем мы ведь и являемся на самом деле – если как следует поскрести нашу родословную?!!
Имя
И тебя хотели тем же самым проклятым именем назвать, чтоб владеть, значит, всем миром: то ли в мою честь, то ли в честь Владимира Ильича, то ли в память о тогда ещё и не родившемся подонке. С подонков-то всё и начинается, с тех, кто на самом дне начинают свою деятельность, проползают там этак тишком, по скользкому дну переставляя свои вонючие лапки, ну а уж потом…
Да, и тебе предстояла та же участь, но вот Другая мать, Мать-природа не позволила, снабдив тебя не тем устройством, что у человека между ног располагается. И поэтому выпала тебе не та честь и не та часть завещанного нам всем «богатства»: мне – сама знаешь что, а тебе – родильная горячка. Вот видишь, как всё просто? Ну, а во второй тебе завещанной участи это не я постарался. Я к своим сыновьям руку не приложил и не занёс ни разу для удара, но вот во втором, не от первой любви рождённом, я это примечал и не раз – как он свою родную мать кулаками в живот ещё в подростковом возрасте, а что было потом… Нет, что первый мой сыночек, ангелоподобный херувим, на такое способен окажется, в этом не моя вина, а папаши моего стоеросового, это как пить дать, или ещё на шажок поглубже: от его отца, от этого Фёдора-убийцы, эти избиения к твоему отцу, моему сыну, перешли, перетекли, перевалились – как наркотическая зависимость. Вот прямо так и подскочили, прямо в руки, когда он сам ни сном ни духом, даже и не помышлял ни о чём таком безмерном… И ведь после уже, после Колиного злодейства, прятал сам от себя ножи, а вот и без ножа не удержался – батька мой подталкивал, а изнутри него и ещё один живодёр. И не один, конечно, они все там как матрёшки в матрёшках сидят и кто чем погоняет: кто плёткой, а кто и просто ремнём.
А на меня вот это «богатство» не перешло, на меня другая подлость перелезла. И если рассмотреть, от кого это на меня перелезло, перескочило или как-нибудь по-другому переползло, то ведь и до самого начала дойдёшь…
Вот посмотри, из чего нам всем выбирать.
Безответная любовь, смертельные роды или подступающая, как из-под земли, жажда бить, бить, бить, пока не забьёшь до смерти, – налетай, разбирай, кому что от расщедрившихся предков досталось!
У меня вот любовь безответной не была. Моя любовь по мне плакала и через сорок лет после того, как я её бросил вместе с этим ангелоподобным ребёночком, моим сыночком от первого брака, от первого и счастливого, а и всего-то пару лет и три месяца этот брак был счастливым, пока я не начал думать не тем местом, которым думать полагается… вот это-то мне точно от моих предков передалось!
Надводная часть айсберга.
Эпитафия.
От первого до седьмого поколения
Вон там сидит кто-то, справа от меня. А вернее, справа мерещится длинная скамейка, и там, вдали, на самом её конце, кто-то вроде бы сидит. Какое-то присутствие ощущается там… и как будто воспоминание о папином дяде, о том самом, который так громко воскликнул, что я на его сестру похожа, когда увидел меня в моём юном возрасте. Но тут он такой, каким я его видела, скорее всего, когда была совсем-совсем малюткой, в какое-то такое время, когда он не был ещё стариком, а был таким как бы джентльменом, вот так я его себе представляла. Что-то в нём утончённое… может быть, запах какой-то заморской сигареты? И улыбка такая странная, которую я никак не могу разгадать.
* * *
С некоторых пор я стала замечать, что там кто-то сидит, на самом краю скамьи, почти потонувшей в невидимости, справа от меня. На самом краю – это значит так далеко от меня, что дальше некуда, за ним – край – обрыв – в никуда. Сидит и с какой-то непонятной усмешкой… как я слышала про своего деда-революционера, что усмешка у него была какая-то поддразнивающая, а не та – обнимающая добрым юмором – какую я сама застала у моего другого деда, со стороны матери. Вот эта усмешка вызывает у меня вопросы – как бы приподнимает их, как край прилепившегося к дереву скамейки липового листка.
Над чем смеётся? Что его так уж рассмешило, что удержаться полностью, совсем, не в состоянии, но и расхохотаться в полное горло невмочь?
Я долго гадала, кто это такой мог бы быть: Сеня ли, папин дядя, которого я, вероятно, и в детстве когда-то видела, задолго до его восторженного возгласа за праздничным столом? В моём детстве этому дяде было не так уж много лет, не более шестидесяти, и он мог бы тогда держаться вот таким утончённым джентльменом, каким мне этот мой вроде как родственник на краю скамьи представляется. Что-то в нём подчёркнуто изысканное – не простое – не рубаха-парень и никогда таким не был – что-то, что я выгребаю со дна моей души и не могу этой его скромной усмешечки понять, надо мной ли он посмеивается или над общим течением событий в мире. И почему он мерещится именно мне? И понимаю так – догадываюсь – что если бы не это пятно света перед ним на земле, то я бы его и вовсе не увидела и не ощутила бы этого привкуса прохлады как будто мятной… привкуса, который у меня вызывает это ощущение, что он там сидит и на меня не то чтобы именно смотрит, а меня каким-то образом имеет в виду, и чего-то он дожидается, там, на самом краю скамейки с видом в никуда.
* * *
Где-то там, справа от меня, просвечивает вроде как скамья тёмного цвета, и в самом конце этой скамьи я чувствую, что вроде бы кто-то сидит. Понимаю, что это мужчина, и, может быть, дядя моего отца… нет, не мой любимый дедушка, отец моей матери – мой родной дедушка просто купался в солнце, а тут я вижу только расплывающийся кружок света на земле под тросточкой этого моего родственника. Его тросточка глянцевито поблескивает, из дорогого дерева и с набалдашником, которого я не вижу, как и родственника самого толком не различаю, а только ощущаю его меланхолическую усмешку – да, печальную, но всё же, как мне кажется, чуть-чуть просветлённую. Света там – только это пятно, что расплывается под пятой его дорогой тросточки. И этой своей не совсем улыбкой он расплавляет то пространство, что сейчас мерещится и пульсирует между нами. Да, он не хотел, чтоб меня кто-то из его потомков избивал и при этом так зверски, что моя собственная кожа в рeзультате обрушилась на меня и довела до смертельной болезни. Да, он не хотел, чтобы из-за отсутствия материнской любви Коля набросился на Инночку со смертельным исходом. Он не хотел, чтоб его потомки рождались с искривлённой психикой и с приступами безумия, опасными для окружающих.
Но ведь если бы он не совершил – то по невежеству, то по разгильдяйству, а то и из-за кромешной трусости – всех этих своих преступлений, начиная с непорочного зачатия и кончая насильственным браком, – никому из этих его потомков и вообще не удалось бы увидеть свет! Люди, родившиеся в результате преступлений, одного за другим, в течение шести поколений: можно ли его оправдать?
Не для того ли он там сидит, вдали от нас, чтобы дождаться нашего приговора?
ПЕРЕХОД ПО ТОНКОМУ МОСТКУ
Господин с тросточкой
Не всякое преступление так просто распознать, что это – именно преступление, а не что-нибудь другое. Например, любовь. Да, это слово я произносил тогда, да, именно это самое слово внушал и впихивал в ухо моей любимой – девочке ведь! Это ты пойми – девочке ведь совсем ещё маленькой, ну что это – одиннадцать лет, а если и двенадцать? Это теперь, в твои времена, девицы в этом возрасте и выкаблучиваются, и красятся, и впихивают себе и в ноздри, и во всё остальное чёрт знает что, и думают, что они уже – всё, готовые, нет, не скажу – женщины, это – не то слово. А эти барышни, многоэтажно накрашенные, думают о себе в большинстве случаев, что они – самки, готовые к совокуплению, и от представительниц животного мира недалеко ушли. Только серьгами в носу вместо соплей – вот так я скажу, как погляжу на них из этого далека, из поднебесья, так сказать, а вообще-то – ну что ты скажешь – мне тошно на них смотреть, с души воротит, и всё только самые худшие слова, как слёзы на глаза, навёртываются.
Но она ведь, моя маленькая девочка, она никакой самкой такой, с растопыренными ушами, на простой откровенный половой акт нацеленной, не была и себя ни в коей мере такой вот грязной, как я бы сказал, не мыслила – а по-вашему оно по-другому называется, это вам мерещится как что-то свободное и раскованное, а она свободу по-другому понимала. Для неё свобода означала уж, конечно, к родимой матушке убежать, в её объятиях скрыться и ото всех в её нежности утонуть. И я не был для неё хорош в этом смысле слова – понимаешь? Я был ершистый какой-то… всё во мне торчком – для неё – и взгляд такой, как ножом её пырнул, этим взглядом… ну и всё остальное… Во мне не было ничего, ну просто вообще – ничего – похожего на то, что было в её матери для неё тёплого и живого. Она не была довольна моими прикосновениями, они ей были противны, даже и после того, как она согласилась играть эту роль, словно бы мы – сестрица и братец, и пыталась в своём уме на меня эту роль её братца Лёшеньки приспособить. Но это как-то не удавалось ей, бедной малютке, а приспособить на себя роль той самой жаркой… жар-птицы, может быть, как я её себе воображал – нет, это ей и в страшных снах не могло бы присниться.
И так вот наступил этот, я тебе скажу, как бы промежуточный период между тем, что было откровенным отвращением, и тем, что наступило потом, ближе к лету. И об этом она расскажет тебе, может быть, по-другому немножко, не так, как я бы мог тебе поведать, и с её точки зрения, может быть, и даже наверняка это всё протекало не так, как я это видел, но всё же…
1 глава.
Силы немереные
Аксинья
Зазвенели однажды капли, соскальзывая вниз по отросткам сосулек.
И звон этот был тихим и ненавязчивым, как будто подтверждал, что да – и как будто пяткой об землю под окном ударял, притоптывал: «да – пять – плять – дзинь» – такое красивое, как мне показалось в этот миг, созвучие, и напоминало первые звуки какой-то песни, одной из любимых, и захотелось запеть, и показалось, что да – хорошо выйти из дому, из помещения взаперти, и что надоело уже навсегда погружаться в свою неимоверную тоску, а пора уже выбраться из-под одеяла этого горя, как из лужи, и выглянуть в окно.
Никакого радостного освобождения из ненавистного замка сегодня не предстояло, и всё же – выбежать, просто так и зная даже, что до родного дома не добежишь. Выбежать просто в лес и бежать по лесу, мелькая между стволов и ветвей своими красными одёжками – теми, что подарил барчук взамен порвавшихся уже вконец тёмно-коричневых, что все в заплатках – а заплатки-то там дорогие, любимой рукой были вшитые когда-то в податливую ткань. Но всё равно бежать, и если в этом красном, то пусть в нём, хоть в каком-нибудь, только чтоб ловить на бегу эти капли с губ повисших на ветках сосулек, – а если поймает, то пусть, так тому и быть. И если разгорячённую от бега и краснощёкую теперь – вот в этот момент я ведь чувствую, как щёки мои горят – ну поцеловал, ну не укусил же? А что в том такого?
И остановиться и его руки с себя отцепить. И скинуть. И посмотреть ему в глаза. А сосульки падают с ветвей и тихо-тихо так позванивают при этом. Какая я глупая, что поверила, что будто бы он повернёт меня лицом к моей собственной жизни, которая без моей родимой матушки мне вовсе и не в жизнь! И знаю ведь я: на глубине души затаилось ведь это подозрение, что никогда он мне никакую матушку не купит! Зачем же я смотрю на него и спрашиваю об этом глазами, потому что губами – ртом спрашивать надоело, и ему, как я вижу, ведь это невмочь уже – слышать этот вопрос. Я спрашиваю его глазами и как будто нарочно отвожу глаза в сторону, чтобы он понял сам и догадался, что я – о том же самом и что нет у меня других желаний, и никаких его замороченных серёжек, которыми он позванивает вот сейчас у меня над ухом. И да, они правда похожи на эти ледяные сосульки – но выхватить их у него из руки и запустить вон в ту ворону, что расселась тут на дереве!
Нет, не решилась. Просто так ухожу, не досказав ему мою беду ни глазами, ни словами. И он плетётся за мной по мокрому снегу, потеряв всю свою прыть. Вся его прыть с него слетела, и чего он от меня добивается, не могу в точности понять, что это за «кохание» такое и что оно означает. Ну целует в щёки, а когда и в лоб попадает, а когда и в волосы зарывается и как безумный всхлипывать начинает, и я ведь чувствую, как его слёзы по моим волосам текут, мне ведь мокро от этого становится, но чего он добивается всем этим? Чтоб меня разжалобить? Чтоб я свою матушку родную разлюбила, а взамен его полюбила? А как это может быть: полюбить неродного? Чтоб и я его поцеловала разок, хоть в его макушку?
– Если исполнишь мою просьбу… – говорю. Не словами, конечно, не языком, а говорю, как умею – взглядом, – то тогда, – и я показала ему на его макушку.
– Если я исполню твою просьбу, – повторил он уже словами – а дальше уже не понял и посмотрел с таким вопросом – вопрос этот поставил между нами. Что тогда и при чём тут его макушка? И хватает опять, и я опять отдираю его руки. Надоело уже с ним драться. Устаю от драки. А хотела ведь просто в лесу… Но драться приходится, потому что не пойму уже этого, ну какая это теперь игра, ведь он старше меня и сильнее, и мне его руки противные не отодрать, и он уже как змея какая-то залезает мне под воротник и расстёгивает и целует там что-то, в шею и под шею, и как будто жалит своими губами – вот от этого отдёрнуться и убежать. Как от раскалённого железа.
Что это со мной: и силы прибавились – и оттолкнула со всех сил – забыла, что я его младше! А силы-то у меня – немереные! И стоим, взглядами меряемся: кто кого? У кого глаза сильнее жаром пышут? Кто победит?
И он сник. Голову опустил, руки разжал – и уходит по сырому снегу, проваливаясь глубоко в каждый сугроб.
Насолила я ему. Понял он – догадался наконец – что я – не о том, о чём он. Что он о чём-то другом живёт, хотя братом себя порой называет и пытается меня развеселить.
И я ухожу в лес. Всё дальше внутрь и по краю оврага, и лес, проснувшийся уже после зимы, этими светло-жёлтыми веточками тянется к моему лицу и понимает меня – насквозь. Лес о том же, о чём я, позванивает своей капелью. Лес меня понимает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.