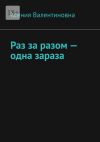Текст книги "Айсберг"
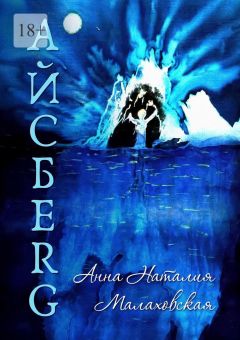
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
24 глава.
Прорубь
Барчук
Кто это вырубил эту прорубь во льду так, что в точности подходит по размеру к этой жёлтой в глубине, к этой уже совсем не чёрной луне с причитающимся ей ангелом в придачу? Но теперь это не я умер, как собирался ведь тогда, а с самим этим ангелом то самое и случилось, к чему я тогда стремился ведь всей душой! И почему эта яма, эта дыра во льду такая по размеру, что мне уж никак не вместить в неё своё человеческое тело?
Луна плещется там и разбрасывает по бокам свои жёлтые осколки. Никакая она не голубая и не сиреневая даже, а просто жёлтая, мёртвая, как давно высохший желток. И если я наклоняюсь над ней и стою на коленях, как я стоял недавно, да и всего-то месяцев девять назад, когда срывал с себя всю свою проклятую одежду и барином, господином над ней быть не хотел, то теперь я вижу не своё лицо в проруби, а такую же чёрную дырку. С золотым венчиком вокруг – в окоём дыры в никуда, в это небо, которое теперь внизу.

Картина Анны-Наталии Малаховской «Затмение солнца»
И я хочу заговорить с Аксиньей. Теперь уже язык не повернётся вымолвить её игрушечное имя, это её притворное, которое я ей выдумал, начитавшись Шиллера. Нацепил на неё, как бляшку, и самое вероятное, что из самолюбования – а перед кем? Да, наверное, перед самим собой, а перед кем мне ещё любоваться? Друзей-то у меня – нет. И одна только была… сестра?.. «Alle Menschen wеrden Brueder» («Все люди станут братьями») – а почему не сёстрами? Почему этот мой любимый Шиллер, такой уж учёный и прогрессивный до того, что его песни по всему миру и через сто лет, и через сто веков петь будут, а сестёр-то и не заметил? Да наплевать на Шиллера, я и сам не заметил, что Божья благодать – что вот она. И руку протянуть и зачерпнуть воды из проруби. Такая замерзающая вода, и чёрная совсем, в глубине. Если внутрь не пролезть, чтоб с головой накрыло и сразу, и умереть, и задохнуться, и пусть не такой ужасной, вероломной, такой несправедливой до самых, до самых залежей Божьей несправедливости смертью, то всё же хоть немного перед самой смертью помучиться. И умереть, и войти в эту чёрную глубину, и что я ей тогда скажу, когда встречу там, на этом месте, на этой самой подземной глубине? Или в небе, но это ведь одно и то же… хотя самоубийц, говорят, что в небо не пускают, но и просто убийц не пускают. А разве я – не убийца, и самый настоящий, и врача… побоялся? Постеснялся? Мурыжить её не стеснялся ведь? И куртку срывать, и манжеты отрывать – это как, не стыдно? И притворяться, что ни за что не хочу быть господином, чтоб только её нежность заслужить? Неужели я притворялся тогда, чтобы разбудить её… жалость? Ну что-то в ней было ведь, а не то оттолкнула бы она меня и после всех этих биений об стену головой, а не то – не предложила бы мне стать её союзником, чтобы вместе обдумать планы побега!
А куда бежать-то? И кто нас примет, и кто нас принял бы, если б мы и убежали? Пожалела бы нас её мать Прасковья, сама рабыня, без места, без прописки, как теперь, в ваше время, говорят, сама – принадлежность своего господина, как стол, как диван – вот как и Кант писал, и это мне стыдно, да, стыдно было читать, что женщина должна быть утварью, как стол или как шкаф, но этого я не пойму, и с этим я напрочь не согласен, и Аксинья уж точно не была ни как стол, ни как шкаф, и она меня понимала! До этого самого дня, до мига, когда… И тогда всё рухнуло, и если бить этот лёд ногами, или, может быть, принести ледоруб… И да, я хочу туда, вглубь, и да, пускай холодно и не то слово, что холодно, а оно обжигает, эта чёрная, от моего лица ставшая чёрной, луна обжигает, и на, бери меня, я не могу оставаться на берегу, когда её на этом берегу нет, а то, что от неё осталось, я это видеть не могу, и жалко покрикивающее что-то, словно б от неё осталось что-то, словно какая-то рука или нога её ещё живёт, когда она сама умерла, и это так несправедливо и даже противно!
И лёд оказался всё-таки приветливей ко мне, чем этот подлый, бесстыжий Бог, якобы на небе, как бы не так, этот Бог, который показал мне в ней невиданную благодать, а потом отнял её, оторвал, разорвал меня самого на куски, как я тогда рвал свою одежду!

Картина Анны-Наталии Малаховской «Молитва»
Лёд оказался податливей, и я вошёл в глубину: в чёрную сначала, в обжигающую потом, а через миг, через один только вздох – оглушил и навеки, и завертел, и я не помню, что я говорил там, в глубине, ей, поднимающейся в небо, как будто по ступеням, как будто есть там какие-то ступени, или возникли, специально, нарочно для неё, чтоб ей удобней было подниматься, и я помню наизусть, какое было у неё там лицо, и как будто шла она в своей старой, в застиранной рубашке и с венчиком над головой, а меня на эти ступени не пустили, эти ступени были не для меня, и подо мной они расступались, как этот лёд, и я сам ничего не мог ей сказать и объяснить, почему это так вышло и что я не хотел, ни за что, что я просто не мог хотеть никакой её смерти, а особенно такого, что произошло. И никогда я с ней ничего такого не делал и ей ничего такого не причинял, а причинил, и сам того не замечая, только тому Ангелу, которым она стала ненароком, и превратилась в моих глазах, сама не догадываясь о том. А как это было тогда любить этого Ангела неземного, что и до самых седых волос не забыть!
25 глава.
Где Аксинья?
Барчук
Кто меня из ямы вытаскивал, этого мне не сказали. Это только потом, когда на него воз с сеном упал, подсказал кто-то – смотрите, а ведь это он хозяина нашего когда-то, того, из проруби, мол, спасал, а теперь вот Бог наказал его за это доброе – как будто бы доброе – дело!
А тогда, когда я очнулся и обнаружил себя на той же самой кровати, где Ангел ко мне приходил, я тут же спросил:
– Где Аксинья?
– Амалия твоя? – пропел, осведомился чей-то нежный голосок, и я продрал глаза и онемел: кто же это был у моей постели? А это матушка моя была, но только голоса такого, искривлённого добротой и странным таким воодушевлением, я у неё до сих пор – ни разу – не слыхивал. А голос у неё всегда до сих пор был словно камень, словно в подвале запертый и только чуть сочился, как сквозь скважину. Какие ещё чудеса с ней настали?
И послышались по коридору шаги, и скрипнула дверь, и вошла в пёстром наряде – да, почему-то в таком разноцветном, каких у нас в доме среди слуг отродясь не бывало, – вошла нянька, ладно причёсанная, и с косой вокруг головы, а на руках у неё чирикало какое-то…
– Вот тебе твоя Амалия, – пропела ещё приторней, ещё слаще моя «родная матушка», как мне теперь с отвращением захотелось её назвать.
– Отдайте её Прасковье, – сказал я и отвернулся к стене. Не хотел даже видеть это орудие убийства – и взглянуть не хотел.
– Ну уж нет! – взвизгнула моя правоверная и выхватила ребёнка из рук кормилицы.
– Тя-тя-тя, ня-ня-ня, – очень утвердительно, с оттенком прагматизма в голосе промолвила малютка и ручкой потянулась к серьгам в ушах застарелой блондинки – да, моя мать когда-то блондинкой была, я ещё смутно припоминаю, в молодости она была такая, ничего себе, только не любила меня никогда и отца моего… скорее всего, тихо ненавидела, так мне тогда казалось, и допускала до себя – подпускала к себе – разве что по праздникам. А тут её будто кто-то подменил. И сияет, и на месте подпрыгивает, и заискивающе так малютке в глаза заглядывает, и вот серёжку-то сняла и ей отдаёт, а та в ротик к себе засунула и выплюнула – фу, гадость, мол, какая!
– Отдайте её Прасковье, – повторил я, как бы отдирая от себя всю эту грязь подколодную, что со мной приключилась, и помимо моей воли, и без моего осознания, хоть любого, хоть какого осознания ведь не было тогда! Но если в первый раз не получилось… уйти из всей этой тошнотворности этой так называемой жизни, это ещё не значит, что и второй раз не получится, и второй, и третий, если понадобится, потому что обитаться здесь, во всём этом омерзении, не хочу и не собираюсь!
Сколько веков я пребывал в небытии, в тех местах, где нет вообще ничего, мне потом не сказали. Но видно, что не один месяц, так сказать, если считать по верхнему, по человеческому счёту, потому что ведь чтоб научиться говорить «ня-ня-ня» и «тя-тя-тя», на это тоже нужно время. И за это время что-то отпало в моём уме, это как пить дать, ведь почему я спросил сразу же и первым делом о том, где Аксинья: забыл, стало быть, что её уже нет? Моей единственной и верной… подруги? Или сестры, как надеялась она сама? И как выяснилось потом, все эти месяцы или годы пытался я своим не совсем здоровым мозгом рассудить и разобрать по косточкам, куда же мы с нею могли бы убежать, если бы того ужасного и до мозга костей несправедливого не случилось бы – того, что нечаянно произошло.
Мне всё ещё не хотелось выпускать её из рук, забывать её нежного и такого прохладного, как вкус мяты, прикосновения, и я мечтал, почти мечтал, что выход всё-таки найду и куда бежать обнаружу, если напрячь свои умственные способности, то… Не топтать ногами драгоценности – что за детская прихоть! – а собрать их, наоборот, собрать все те драгоценные украшения, не чтоб их носить и господином выставляться, а чтоб продать. Вот именно, чтоб продать… и куда же тогда? В городах есть отели и постоялые дворы, где не спрашивают, кто ты, господин или беглый раб. Но, кажется, там всё же какие-то документы спрашивают. Но документы можно было бы подделать. И вписать в них для неё какое-нибудь совсем другое имя – не Аксинья и не Амалия. На неё надеть все эти побрякушки, чтоб её приняли ну пусть не за дворянку, владычицу поместий и усадеб, а, например, за дочь какого-нибудь богатого купца. А кстати, кем был её отец? Я про него так ничего и не слышал, всё только про матушку и про её родного братика, на которого я оказался почему-то похож – вот так, да! «Alle Menschen wеrden Brueder!»
А ведь где-то есть же человеки такие, как этот Шиллер, которые думают так же, как он! Вот таких бы найти. И им было бы всё равно, что я – беглый пан, а она – беглая рабыня. И мы могли бы там, у них, зажить… я бы научил её какому-нибудь другому языку, лучше всего французскому, потому что её собственный язык её тут же бы и выдал – кто она такая! В волосах божья благодать, на личике – святость, а во рту позорный язык, свойственный лишь рабам, язык порабощённого народа, и его можно заменить другим, не так мгновенно, как я свою одежду растоптал, но всё-таки заменить можно. Ведь на вид, если в одинаковой одежде, мы с нею не отличались так уж сильно. На лице у неё и на теле не обнаруживалось никакого позорного рабского клейма. На лице у неё не видно было, что она – принадлежала мне по закону – за деньги купленная! – и надо изменить эти позорные, нечеловеческие законы!
«Нищий будет братом князю», – как в той же песне Шиллера значится, и ведь не он один так думает. А всё же революция во Франции загнулась, и не в последний раз, если посмотреть из глубины веков, то и через пару лет после всех этих событий и вторая революция там же загнётся, и нам с Аксиньей пришлось бы дожить до седых волос, чтоб найти хоть одну страну в Европе, куда убежать – разве что в Америку? Вот этого мне почему-то в голову не пришло. И обвенчаться где-нибудь по пути, чтоб получить какой-то действительный документ, и тогда… При том что много денег – тогда ждать не до седых волос, а только до совершеннолетия моего, и переезжать не просто по земле, а по воде переезжать, в ту страну, где «нет для нас ни чёрных, ни цветных», как пелось много лет спустя и не в Америке, а в совсем другой державе, но вот захотелось мне почему-то – вспомнилась эта весёлая песня, которая и не так долго будет расцветать и питать своим соком разноцветное население земли, не так долго, как измышления пьяного Шиллера, а всё же…
Понять, что он имел в виду, можно только при условии, если не упустить из виду этого «опьянения огнём», о котором говорится во второй строчке этого его гимна: «Мы входим, пьяные от огня, небесная, в твоё святилище» (это про Радость). Но если нищие станут братьями князьям, как сказано в следующей строфе и как мне очень бы хотелось, то как это будет на самом деле: все вместе станут нищими или все вместе станут князьями? Ни того ни другого не представить, и всё же надо что-то придумать, что-то третье, такое общество, в котором мне не придётся – не пришлось бы – топтать ногами свою роскошную одежду, а моей любимой не пришлось бы бегать по двору в застиранной рубашке и в рваных лаптях на босу ногу!
26 глава.
Ребёнок родился в процессе игры
Никанор
И умерла в родах белокурая Аксинья, которую оторвали от родных, от милой её сердцу деревеньки в предгорьях Карпат. Родила не мальчика, а девчонку и совсем не блондинку. И умерла потом в жару после родов, не повидав матери, но повидав дочь свою с чёрным хохолком на головке и обняв эту черноволосую, она провалилась в ту самую комнату без потолка и без пола, в которой ты побывала во сне предсмертном, и кто из предков послал тогда добрую старушку тебя оттуда вызволить, не тебе об этом узнать, а кто-то из них эту старую женщину подтолкнул подойти к каталке с умирающей и заглянуть ей в глаза.
А когда выросла дочь Аксиньи, то стала с чёрной, как у отца волосы были, косой и с огромными карими, почти чёрными глазами – и ничего не знала о своей матери – кто она и откуда была. Знала только, что по сути её изначально звали Аксиньей и что была белокурой, как солнышко, и заливалась и пела так хорошо, и что скучала, да так по мамке своей скучала, и что забеременела в первый же год, и родила, и померла в родах – не вынесло её сердце, – говорили, а может, и какое-то другое родильное несчастье приключилось, этого по тем временам никто не допытывался. И какой интерес об этом узнавать, отчего умерла крепостная в родах в возрасте, который для рождения детей не предназначен.
Так до тринадцати лет не дотянула, а родила девочку живую, и не отдали эту девочку её бабушке, хоть та и молила, и плакала, и в ногах у своего барина валялась – выкупи, мол, дочку моей Аксиньюшки! Загубили её, мою девочку ненаглядную, господа запольские – поляки, стало быть, и было ей за что эту польскую графскую семью ненавидеть.
Но не выкупили. Не согласилась другая бабушка – та самая графиня, что купила пару лет назад Аксинью в игрушки для своего отпрыска, – не согласилась отдать новорожденную девчонку – уж очень она ей её любимца в младенчестве напоминала. И приросла к ней душой, и взяла себе в приёмные дочери. И взгляд тот же, что у сына, и порхает она по комнатам, как он в детстве порхал, и смеётся так же заливисто – а как поёт! И невдомёк ей, что к песням тяга перешла к её воспитаннице, а на самом-то деле – к внучке – от той самой золотистоволосой Аксиньи, что загляделась когда-то на кружева на манжетах её отпрыска, её сына, потомка самых «благородных» кровей, а вот надо же, а вот от крепостной крестьянки дочку себе завёл и с одной наигрался вволю, а теперь и с дочкой поигрывает, так, для смеху, но дочкой не называет. Придумал ей имя странное – Марина, ну пусть будет – Марина.
A где Аксинью похоронили, никто ему не сказал и дочери не показал, и не было доброй души среди крестьян, чтоб показали малышке, где могила её матери, и так она ни о чём не знала, а барыня и её теперь баловала и ни в чём ей теперь не отказывала, как раньше не отказывала своему родненькому сыночку, и показывала, когда та подросла, и как вышивать гладью, и как высаживать в грядках ненаглядные цветы, и сама сажала.
И барыня была добрая ко всем и с таким привлекательным личиком, и кудри надо лбом и вокруг высокой причёски, и не очень светлые, не такие сияющие, как у Аксиньи, а с личиком таким словно бы удивлённым, и приподняты бровки, и всё сводит к положительному результату, что всё вроде бы хорошо и правильно и что девочка, ею купленная в подарок на именины сыну, забеременела не в срок и умерла, – и это словно бы ничего особенного, как издержки производства, ну надо было научиться ребёнку половой жизни, и как и с кем, как не с крепостными, а умерла, ну что ж, значит, на то воля Господня!
И вот этого Господа надо выковырять и искоренить, потому что только при таком Господе Боге, на которого вполне удобно можно свалить любую беду и любое своё преступление, и могут процветать человеки без совести – так, как будто совесть в кои-то веки отменили!
И вот выступает именно она, а не её супруг, который позарился когда-то на её удивлённое личико, а она выступает как зачинщица беды, а он ничего об этом не знал, чем его дитя развлекается на девичьей половине, в комнатах для крепостных служанок.
Невдомёк ему было, и другие у него имелись в ту пору стратегические планы, не про крепостных отнюдь, а он завёл себе любовницу на стороне и не опасался никаких неприятностей со стороны жены, и сына своего не избивал, вообще предоставлял всё воспитание своей жене, и не отягощал её супружескими обязанностями, и так она и проводила время, как цветочек на воле, а мать Аксиньи отдали в дом к другим помещикам после того, как она погасла душой, когда у неё отняли свет её души, и она не могла отрабатывать свои обязанности и обварила однажды по неосторожности ногу кому-то на кухне, и сослана была за это, и померла без дочери и без всякой помощи и сострадания, а просто как собаку в мешке её закопали в землю, с разбитой душой и без всякой надежды – без надежды хоть в кои-то веки увидеться с дочерью.
И эти две семьи создали одно живое существо, внешне совсем не похожее на свою мать Аксинью, а похожее всеми чертами и лица, и тела на своего зачинателя – ребёнок родился в процессе игры как побочный результат весёлых игрушек!
27 глава.
Источник беды
Леокадия
И кто бы мог подумать, что через семь поколений я это получу, эту пощёчину в лицо, и от кого? От всякой швали, от каких-то, не приведи господи, рабов, скабрёзников, на которых я при жизни и взгляда бросить пожалела бы! Прасковья какая-то, жалкая, грязная, с её обваренной ногой, которую она передала по наследству! Вот видите ли, она, которая была, уж конечно, меньше, чем даже то «ничто», что воспевается в современных вам песнях, вот она, грязная тварь, передала что-то там по наследству, через семь поколений просунула ногу свою обваренную, чтоб, значит, и дальше обваривать ноги, а мне, вот такой великолепной, ну вот уж совсем ничего не удалось, что ли, передать? А кто шить научил мою непутёвую внучку?
Да, внучку! Кто в её лице отразился, так сказать? А вы в её личико вгляделись? Конечно, уж не Прасковья, эта грязнуля, и не её покойный к тому времени «супруг», а попросту сожитель, и уж точно не белесая эта девчонка, не к ночи будь помянута, а я сама и отразилась! Что бровки у меня, видите ли, приподняты были всегда, это вы заметили, рабы мои поганые, что я всегда словно бы удивлялась, а как тут не удивиться, я и сейчас удивляюсь, вот сколько веков уже как на том свете, а всё не могу от удивления прийти в себя, сколько вы значения приписали этой девчонке подзаборной, которую мой сын одарил, так сказать, своим семенем – ну что вы все тут разорались? Да, одарил, я этого скрывать не стану! Да, я, как мать, я должна вступиться за своего сыночка, незаконно оболганного! И как я вообще могла в такой компании очутиться, этого до сих пор не пойму! Ну снизошёл мой сыночек ненаглядный, ну осчастливил разок подзаборную грязную девчонку, а мне после этого веки вечные и в подземелье, и на том самом свете от этой грязи не очиститься? Это как это так? Кто я – и кто вы, галдящие тут и во мне одной отыскавшие источник вины? Это кто ещё из нас всех, собравшихся тут как на корабле, как в лодке подводной у этих запертых дверей – кто из нас виноват? Акушерку я должна была вызвать? Руки этим своим старухам, роды принимавшим, вымыть и с мылом притом? Чтобы потом, через сто лет, мои собственные праправнучки в таких же муках не помирали? Да вы что, с ума тут все посходили? Не понимаете, уразуметь не можете различия между графиней и всякой дрянью подзаборной? А? Уже всякий стыд позабыли? А меня во время всех ваших революций проклятых никто с моего места не свергал, моего раба начальником над всем миром никто не назначал, моего ребёнка… да что там говорить! Как в корыте, я со всеми этими свиньями оказалась, барахтаюсь тут в грязи, как в окурках и огрызках жизни былой, на меня напяленной теперь, после смерти, как балахон какой-то. Да, не отказала я тогда моему сыночку в день его тринадцатилетия, между прочим! Да, купила я ему эту побрякушку, и да, волоски были у неё такие… особенные… яркие, можно сказать, тем и приглянулась, а что? И кто посмеет меня за это осудить? Такие были в мои времена законы, а какие в ваши времена поганые законы? Сами стыдитесь законов, ваших собственных, не нами, не нашим поколением возведённых в степень законов! И как только у вас языки не отвалятся меня – обвинять?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.