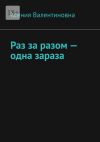Текст книги "Айсберг"
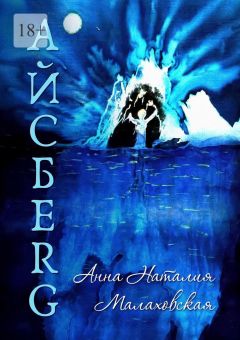
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
16 глава.
И это была ты?
И выздоровел барин-то молодой, и поумнел как будто на чуток после тяжёлого такого испытания, а про ангела и думать забыл, про свою любовь, как ему показалось, вторую, но забытую начисто, как будто уж так боялся, что дураком его станут величать и что мозги в его голове расплавятся и утекут, если он ангела этого вспомнит.
И когда вошёл он снова в комнату к Аксинье, то испугалась она такого бледного и совсем уже недетского лица. И он присел на диван и смотрел на неё строго: словно хотел наказать её за свой опрометчивый поступок, что увёз её от её родимой матушки, словно в ней видел вину, будто бы это она его на такое дело подвигла своей красотой, или решил навязать эту вину ей, навесить на неё объяснение этого своего преступления. А она придумывала, как бы начать с ним разговор об освобождении, чтобы выпустил он её на свободу, потому что помереть ему не удалось, и она сказала… Не придумала она, бедная девочка, ничего получше, помощнее, а вытащила из-за пазухи этот аргумент и огрела им молокососа этого, барчука, поумневшего как будто за время болезни, но не совсем.
– Я слышала, что к вам приходил ангел, – сказала она.
Он вздрогнул.
– Вы это уже забыли?
Он опустил голову и вдруг вспомнил, и всё: в глаза ему кто-то смотрел, ведь тогда у него не было лица, а смотрел в глаза и прикасался рукой…
И она тогда встала и приложила ему руку опять на то же самое место, чуть повыше запястья, и сказала:
– Отпустите меня на свободу, а то ангел придёт снова и не выпустит уже на этот раз!
– И вторую руку тоже! – произнёс он, сам не зная, на котором из двух языков, и приложил и её вторую руку к своему правому запястью, и понял тогда, кто это был тогда, в ту ночь, что лучше всего на свете была, и положил к ней на плечо голову и уловил то же самое мерцание, хотя это была не ночь, а день, и день серый и несолнечный, но он вспомнил и тот самый запах живого, человеческого и доброго, и те самые шелковистые руки, и понял тогда, что это – не просто сверкнувшая божья благодать – та, что в предгрозовом затишье показалась божьей, и что это не ангел с неба, а простая, но да, и до Божьей благодати дорастающая, та самая и с самой большой буквы – та, что он искал всю свою жизнь, и никто не мог этого ему дать, и игрушки любые подносили, и яства, и питьё, а только этого самого заветного никто ему дать не мог, и он сказал:
– И это была ты?
И поняла тут Аксинья, что промахнулась, и накрепко. Что не так надо было вести разговор, и что этим самым аргументом, который вытащила она из-за пазухи и думала тогда, что в нём – спасение – что им погубила себя навеки. Что не отпустит он её уже никогда и никуда, и до самой смерти будет морочить своей, видите ли, такой уж великой, такой несмываемой – ну назовите это, как хотите, и что частично мозги у него за время болезни расплавились или какая-то другая причина нашлась обалдеть или перестать подчиняться своему разуму.
17 глава.
Благодать красть нельзя?
Барчук
На негнущихся дверях бросился к дверям и замкнул на замок. Я теперь был как летящий вниз головой в пропасть или как сорвавшийся с цепи.

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«Видение в театре»
Божью благодать красть нельзя? Кто это сказал? Не только можно её – потрогать – но и нужно! Для того она и есть вообще, чтоб сорвать её, и вонзиться, и забыть вообще обо всём, и больше ничего, ничего никогда не будет. Ничего другого, кроме неё, этой благости, и припасть, и все соки, все эти тонкие ниточки или сосуды, или что это такое стоит в воздухе – растёт вокруг неё, как… незримое обычно, но сейчас это видно, эти светящиеся заросли, и в них нырнуть, и пить, и пить этот сок, который пульсирует и сквозит по жилам этих сосудов, и всё делает живым, и этого никто не должен видеть, и поэтому не стучите в дверь – не отопру!
И валяться у неё в ногах и биться головой об стену и сказать ей всё-всё, что я думаю обо всём, и нежить эти руки её, по которым пробегал там, внутри, священный ток жизни, и в заросли эти вторгаться, и там этот сок жизни пить, пить, чтоб только не захлебнуться…
18 глава.
С цепи сорвался
Аксинья
Когда море бушует у твоих ног, то нет и не будет тебе спасения, а когда начинается извержение вулкана, то убежать невмочь. Это я теперь так понимаю, что это тогда распростёрлось море, не робкие какие-нибудь ручейки слёз, жалкие, и которых можно пожалеть, как я пожалела тогда, когда он плакал тихо-тихо, как мой маленький братишка плакал когда-то, и поэтому я смогла его пожалеть – среди ночи. И тогда этого никто не узнал, моей жалости к нему, а теперь не узнать было невозможно, когда он рычал, как дикий зверь, который рвёт свою добычу, рвёт на куски, но он пока что не меня на куски разрывал, а своё нарядное убежище, и орал мне что-то в лицо, что никаким паном быть больше не хочет, никаким господином проклятым, и все эти кружева – вдрызг, и все жемчуга – по полу и ногами растоптать, и остаться совсем без ничего, потому что ничего другого на нём и не было, кроме этого возвышенного одеяния, отличающего его от всех прочих людей, а теперь он никаким господином быть не хотел и выходил из себя, как море выходит из берегов. А когда все эти кружева и манжеты лежали на берегу, перепутанные и растоптанные, то от всего его великолепия остался полуголый и почти неживой, в каких-то ошмётках, в лохмотьях, и успокоился наконец, потому что весь свой гнев выпустил на эти кружева на запястьях, на эти пуговицы на жилете. И как будто успокоился и лежал теперь, как море у ног, только чуть-чуть всхлипывая, и можно было бы даже и обойти его стороной, и выбраться из всего этого раздрызга, но море нежно плескалось там, под ногами, и умывало мои лодыжки своими слезами.
О чём теперь было говорить и как успокоить? Мне казалось всегда, что если человек тебя любит, то он ведь хочет тебе сделать хорошее? И разве не говорил ксёндз в церкви, что надо любить своих врагов? Поэтому я предположила тогда, что, может быть, он превратится назад в человека, если я предложу ему свою запасную рубашку: свою старую, в которой меня сюда привезли, и сняли с меня, и выстирали, но не отобрали. И я так ему и сказала тогда:
– Хочешь, дам тебе свою рубашку?
Дикого волка под окном, не волка, а овчарку, приручить не получилось бы, но у этого, у пана проклятого, который ведь не захотел больше быть паном и тем более проклятым, у него пробежала по спине как судорога от этих моих слов, и он вытер глаза этой моей застиранной рубашкой и сел на полу передо мной. И отпустил, из рук выпустил мои пятки.
– Что теперь будем делать? – спросила я. На своём собственном языке, и он теперь мог бы уже догадаться, что я не ангел и поэтому понимаю только один язык. Я хотела вернуть его к своей речи, чтоб он мог опомниться и как-нибудь превратиться – назад, пусть не в барина, барином быть он теперь отказался и насовсем, но он мог бы превратиться в кого-нибудь ну хоть немножко нормального – не в зверя и не в потоки слёз. О чём плакать? Ну, может быть, о том, что я его не люблю? Что я его отталкиваю, и ненавижу, и всегда прошусь только к своей матушке?
Вот теперь – после всего того безобразия, что он устроил у меня на полу, он вдруг утих и смотрел на меня как ребёнок. Как маленький совсем, и как будто я – его мама.
– Ну что теперь будем делать? – спросила я опять и тут заметила раны на его руках – что он сам себя поранил, когда бился об стены и об пол – не кровавые раны, а ссадины и синяки.
– Так! – сказала я. – Это всё надо убрать! – и он подчинился, и с радостью даже в лице. И я поняла так, что он никогда никому ещё не подчинялся, и ему это в новинку. Но если его так увидят, то решат, что это я его расцарапала, и меня высекут, как секли по приказу моих хозяев там – за разбитую синюю вазу, которую я уронила ведь не нарочно!
– Меня будут сечь, если увидят эти твои синяки.
– Сечь? – переспросил он, и видно, что он не понял этого слова. Видно, его никогда не секли.
– Сечь – это больно. Это очень больно! Розгами – по голому телу!
Он нахмурился – и повзрослел. В один миг.
– Тебя никто никогда не будет бить! – и добавил: – Теперь мы – друзья.
И сам надел мою рубашку. Она пришлась ему впору – видно, что похудел за время болезни.
– Теперь я – как ты! – попробовал он было обрадоваться, но я видела, что он всё ещё не наплакался, всё ещё слёзы наготове, и он перетекает снова в тот свой возраст, когда он был совсем маленьким и мамы ему не хватало, кого-то ему не хватало, чтобы уткнуться и выплакаться уж совсем, до конца. И я тогда решила спросить, чтоб выяснить наверняка:
– Почему ты плакал? – и указала на безобразие на полу.
Он стал эти кусочки складывать, эти разорванные манжеты, один к одному, и прошептал:
– Потому что я не хочу – не могу – я просто не могу – этого всего. Не хочу быть… – и он не договорил и снова скривился, так, что сейчас заплачет, и я сказала:
– Ну давай тогда будем так играть, что ты – не пан! Что ты кто-нибудь другой: как мой брат! Давай играть так, что как будто мы – брат и сестра? Я буду тебе сестра, и мы вместе отсюда – убежим. Давай?
Вместе с паном, который теперь не пан, и когда он снял свои кружева, когда без серебряных пряжек и пуговиц оказался, то кого-то он мне стал напоминать, и совсем не страшного, и глаза у него не светлые сами по себе, но светятся, вот сейчас почему-то такие как бы лучики пошли, и лоб тоже – светлый как будто. И он успокоился совсем, и я поняла так, что он не наигрался в детстве и что детства никакого у него, может быть, и не было, и играть было не с кем, а надо было всегда и с самого начала притворяться важным господином – паном во всех этих гадких кружевах, а ему хотелось поиграть, и я сказала ещё:
– А об этом мы никому не скажем! Да? Это будет наша с тобой тайна – ладно?
19 глава.
Почти полгода счастья
Барчук
Надо молчать и притворяться, что ничего этого и не было. Что я не разрывал свою одежду проклятую и не выбрался из её комнатки уже под вечер и не в своей рубашке. И надо было потом скрывать свои синяки и царапины. И надевать наутро – опять ту же самую. Как ту, что я разорвал? Но я выпросил другую, попроще. И велел все жемчуга спороть и кружева отрезать. И что это всё по сравнению с тем счастьем, что началось в моей жизни с тех пор и продолжалось – почти полгода?
Когда нас никто не видел, я называл её таким именем, как ей самой хотелось, а когда нас с нею видели – Амалией, как хотелось мне. Мы были теперь как союзники, и оставалось только придумать, как бы нам убежать на волю и вместе, и надо было что-нибудь придумать, действительно, но мы ведь уже не были больше врагами, и что я её купил, это так некрасиво звучит, это мы постарались забыть, это мы решили превратить в игре во что-нибудь другое, и повсюду у неё были тайны, вот откроешь ящик в столе, а в нём лежит тайна, перевязанная ниткой, или завёрнутая в платочек. И на осколках стекла она рисовала какие-то загадки, а я должен был догадываться, что это такое, и так хорошо мы с нею играли, пока не наступила эта тяжёлая осень, когда я стал понимать, что в ней что-то не так становится, и она изменилась в лице и побледнела, и играть ей совсем расхотелось. И сидела теперь неподвижная и говорила только:
– Отпусти меня к моей родимой матушке! – как будто забыла, что мы ведь друзья и что нам с нею так хорошо – было. А теперь – до свиданья! И всё вернулось в свои берега, в те ненавистные, и – «Купи ты мне мою родную матушку!»
20 глава.
Никанор
И до самого конца, до самого последнего дня она всё ещё надеялась, что он всё-таки пожалеет её и купит ей в подарок ту самую «матушку», о которой она тосковала всей душой.
Её прозорливости не хватало на то, чтоб догадаться, что он ей её родную матушку не купит никогда, потому что при матери заниматься всем тем, чем он надеялся заниматься с нею, всё же несподручно – даже если эта мать – крепостная рабыня, принадлежащая ему по праву рабовладения. Но он чуял, как собака чует издали опасность, что у матери оставалась какая-то другая власть и другое право, таящееся под покровом времён: да, он был её господином и она принадлежала ему по закону его времени, но всё же вставала откуда-то оттуда, из глубины веков, эта фигура, завёрнутая в покрывало с головой, и показывала ему, что она есть, хотя и не вполне понятно, кто она такая и в чём суть её власти.
21 глава.
Барчук
Это я мог забыть о том, что я – господин, это мне хотелось забыть, и поэтому я об этом начисто забыл… а у меня ведь всегда все желания сбывались! Господин для всех, кроме неё. А для неё, для Амалии моей – или Аксиньи, для маленькой девочки, заигравшейся в игрушки, для неё я стал как будто бы брат, но брат не совсем, потому что в ту ночь, о которой мы не вспоминали теперь и не повторяли ни разу, теперь, во время наших игр, того, что там происходило, сошествие будто бы какого-то там ангела, и что она в этого ангела превращалась, и что я затащил тогда этого ангела к себе в постель, а это был совсем и не ангел, а что это оказалось… и что тогда произошло, это самое, о чём не говорят, что надо скрывать, но скрывать не вышло, под конец уже было совсем никак не скрыть. Я этого не делал, сознательно не делал никогда, я только с нею играл, как с сёстрами играют, у кого сёстры от рождения есть. Но в бреду и в отчаянии и в ту ночь, когда луна была чёрная, тогда это случилось, о чём не хочу говорить, произносить это словами, и так вышло, что я сам загубил… а когда понял, что надо было вызывать врача, оказалось, что это уже поздно!
22 глава.
Окончательное и ужасное
Никанор
Надо лучше всмотреться в это окно, куда она, моя Аксинья, посылала все свои пожелания увидеться наконец со своей родимой матушкой, потому что не вовремя её оторвали от родного гнезда, и это было зимой, и вот среди заледенелого стекла она проделывала дырочку дыханием и говорила туда:
– Милая моя, родная матушка, где ты, отзовись!
И для неё вся природа за окном была воплощением не какой-то абстрактной Матери, а её собственной матушки, к которой хотелось прижаться и забыть обо всех играх её господина – предателя, как она его называла про себя, что он – предатель её души: сам смотрел на неё такими ласковыми глазами, так где же вся его любовь, если вывез из родного места – и даже повидаться с матушкой не позволяет!
И этот вот разрыв в его поведении между вроде бы ласковым и сердечным обращением и наплевательским отношением к ней как к вещи, – этот вот разрыв и расколол ей сердце!
И да, его не пустили на порог, когда она стонала в родах, и дверь закрыли, кто-то, неродные, а его оттащили, и он завывал, он выбежал на мороз и завывал от боли души, потому что проняло его и он сам понял – вот теперь только, за порогом дома и перед лицом злой луны, – теперь, в этот лютый декабрь, и из окошек бросались по снегу тени от переметнувшихся за окном: там внутри кто-то метался, будто знал, что там происходит что-то окончательное и ужасное, и такое, после чего уже и вся жизнь окажется невозможной и ненужной – так показалось тогда, и он кричал сам себе:
«Да, я убийца, я вор, я довёл свою любимую до такого позора, для чего я не послушался того тоненького голосочка во мне внутри, который шептал ведь, что человек – это не игрушка, и кто-то шептал на ухо, но это была не родная мать, а мать глядела всегда с одобрением, но я ведь и сам, и для чего сваливать вину на мать…
Это было так, как будто я – не человек со своей совестью, а нарисованный на бумаге барчонок с кружевами на манжетах, и нету во мне ничего, кроме этих манжет и бархатного костюмчика, будто и я сам всего-навсего вещь, пешка на шахматной доске, и двигаюсь по указаниям кого-то, кто до меня придумал все эти права и обязанности, и я веду себя не как выскочка, а как покорный баран, как будто привык быть как все, и не выскочить из этих обычаев, которые и меня засосали в себя, а кроме души, которая в подмётках теперь, что ещё во мне осталось? И если я – отец ребёнка, а я знаю ведь, что я отец и есть, то почему бы не заглянуть хоть разок…
Но там, в щели, я только мельком заметил… увидел это перекошенное от боли лицо, и красный рот, и что-то ещё красное на одеяле, наверное, это кровь, и она кричала, а они захлопнули дверь передо мной, и это и была дверь в вечность, в будущее, которое поджидает моих потомков, появившихся на свет как побочное действие неосторожной игры…»
22 глава.
Не пора, а дыра
Барчук
…Дверь разверзается – в преисподнюю, где красный орущий рот и всё лицо перекорёжено, и никаких сияющих белизной кудрей не разглядеть, а только:
– А-а-а! – и красное что-то пятном на подушке, на одеяле и на полу – льётся, капает, и меня выталкивают, передо мною захлопывают эту дверь, и вопль раздаётся ещё громче, а меня выгнали и чуть нос не прищемили, и какая-то в этой белой повязке в кудрявых полуседых космах старуха в запачканном чем-то переднике, в запачканном по подолу кровью, может быть, и прошипел кто-то другой, не она прошипела, она только рот свой беззубый скучерявила, а прошипел кто-то за спиной с ехидцей такой:
– Папаша!
Это я, значит, папаша? Я отец, я не знаю этого, не понимаю, как это вышло, что я стою вот на пороге вечности, предуготовленной моим потомкам, и меня из этой вечности выгоняют, они не хотят предоставить мне места в моей собственной предстоящей теперь вечности – да кто они такие? Как посмели? Разве я – не хозяин, и все они просто-напросто обезьяны, обязанные прыгать под мою дудочку?
Но вот тут, на грани преисподней, под эти крики и вопли, разрывающие всё внутри…

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«В корнях сквозит рассвет»
Это я постарался, я вывел её, ещё недавно целенькую, с белыми, почти белыми волосьями над этим нежным, да, слишком изнеженным личиком, да, я вывел её – из жизни – и поставил на этом берегу, на этом утёсе, и я сказал ей – бросайся в пропасть – ничего не говоря, а только проталкивая, да, подталкивая её сначала тихохонько так, и щипками, и объятиями, сладкими до изнеможения… это я её подтолкнул и буквально затолкал в это помещение, тесное и тугое и с кровавыми тряпками на полу – вот тебе вместо всех кружавчиков на рукавах, которыми я тебя в этот стыд и позор заманить пытался, и заманивал, да, целый год заманивал, несмотря на все твои слёзы на щеках, на твои просьбы немые повидаться тебе дать хоть чуток с родимой твоей матерью… а почему бы не прикупить?
– Не покупай ты мне этих жемчугов, – сказала она мне однажды, и сказала такое стыдное слово: – А купи ты мне мою родную матушку!
Ну как тут сердцу не разорваться? Но не разорвалось оно у меня тогда, и я словно позабыл, а жемчугов не купил, да и ничего больше ей покупать не стал, всё приговаривал про себя, что куплю ей… когда-нибудь… её старушку, ту Прасковью, с руками такими костлявыми и совсем на дочку свою, на девочку, не похожую, а куплю… когда-нибудь. И вот эта пора наступила – пора выполнять все обещания, потому что не пора, а дыра, эта пропасть, открывшаяся, как прорубь во льду, в её собственном теле прореха открылась, в живом – в мёртвое, в царство смерти, может быть, и прежде всего – в преисподнюю она открылась, эта дыра, и там сейчас громосят и грохочут какими-то вёдрами или чем там жестяным ударяют, как будто собрались черти на сковороде кого-то жарить, и эти крики уже…
Где эти крики, где этот голос завывающий, который ещё недавно был таким звонким, таким серебристым, когда она песни свои заунывные пела?
Нет никакого голоса. Её голоса. Нет. Вместо этого налетели, как чёрные пчёлы, оттуда, слева, из-за двери, другие голоса, какие-то мелкие, пришепетывающие, они словно чешут косяки дверей, и я снова их распахиваю, эти чёрные двери, и вторгаюсь, и они от меня отхлынули, и красный какой-то комочек не замечаю почти на руках у той самой ключницы с белой повязкой в серых космах, а вижу лицо – прекрасный лик – ступаю во что-то мокрое и липкое на полу и хочу подойти к ней – думаю, что подхожу – и этот жуткий, солёный…
…духом пахнуло солёным, и я оседаю куда-то, в кровь, может быть, я валюсь и оказываюсь в той самой комнате, абсолютно пустой, без потолка и без пола и где она стоит, не на полу, а стоит в чёрном воздухе по колено и всё ещё кричит, кричит, кричит…
23 глава.
Проклятие
Костлявая – тряпки чёрные едва держатся, свисают с ключиц, – и со злобной мордой, а не лицом, – никакого лица у неё не было и не водилось, а в поседевших, когда-то чёрных космах на голове беловатая такая повязка водилась, – выгнала меня, вот так прямо за плечи схватила и вытолкнула с порогу.
А кем она мне приходилась? А никем она мне не приходилась, да и той, что стонала у неё за спиной, справа от меня, тоже никем не приходилась, а власть себе забрала выталкивать – да кого – барина своего выталкивать с порога, да и чуть в грязь меня не повалила, я едва успел за косяк дверной уцепиться и устоял-таки на ногах, а что я там увидел, что мне раскрылось там, да, слева от всего этого ужаса и срама стояла она, с костлявыми скулами на злобной физиономии, а справа от неё валялся на полатях…
Вот даже не знаю, как это назвать, это было что-то такое, как в страшном сне… нет, ни в каком сне этого не увидишь, потому что ВНЕ, вне всяких представлений оно там ворочалось и орало на всю вселенную, и что это было, а это была ведь Она, ТА САМАЯ, которая – Моя Самая Первая Любовь? Моё наказание на всю оставшуюся жизнь? Но ведь это там на полатях не кусок освежёванного мяса ворочался и стонал, там человек, очумевший от боли какой-то запредельной, которую и болью-то назвать нельзя, и это был ужас, это был мрак, покрывающий всё, что ещё осталось от каких бы то ни было мыслей.
Оно там ворочалось и выкрикивало проклятия свои:
– Не пустили меня к родной моей матушке, черти вы проклятые, да будьте вы все прокляты навсегда, – и не знала, что дочку свою заманивает в ту же самую воронку зла и до конца и на всех её детей и праправнуков это проклятие распространит вот в этот миг умирания, может быть. Нет, это было хуже и намного невыносимей, чем просто какое-то там умирание на спокойной постелечке в кругу любимых и близких, это был вопль и скользь крови, вот что такое выкатилось ко мне навстречу из этого из всего, пока какая-то другая старуха это красное вылавливала своими немытыми с чёрными когтями руками – эта зараза прошла, конечно же, и как ей не пройти в эту раскрытую рану, а почему я, например, да, нечего сваливать на мою беспечную матушку, но ведь я сам – откладывал – на бог весть когда – а почему мытого и чистого лекаря всей моей семьи не вызвал, не выкопал, а хоть бы даже и из-под земли?
Не знал, когда именно это случится и произойдёт? Стыдился признаться, что это я, именно я, а не кто другой, довёл её, доморочил, дощекотал до этого состояния в жару и пылу проклятий? Да, ничего уже она не могла поделать в этот миг и никак сбежать – ну куда бежать, бросив своё тело окаянное на попечение двум зловещим старухам?
Да, хорошего ничего она не могла поделать, но сделала зато очень много плохого своими страшными словами!
Или это я сам сделал? Или это я сам виноват во всём, что случилось в этот день, 23 декабря 1842 года?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.