Текст книги "Айсберг"
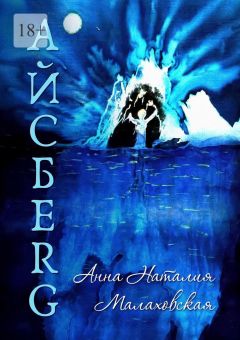
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
15 глава.
Прощание с волчицей
Отношения с волчицей не привели ни к какому хоть сколько-нибудь сияющему апогею, к которому как будто стремились и до которого могли бы добежать, если бы повествование о ней было бы нескромным вымыслом. Да и можно ли назвать Маринины встречи с волчицей именно отношениями, а не просто мечтой о том, что в глазах у какого-нибудь живого существа можно прочитать сострадание и поддержку?
Когда Марина лежала в смертельной горячке, эта волчица не вошла в человеческое жильё, чтоб взглянуть умирающей в глаза и – кто знает? – может быть, облизать ей руки и пышущий жаром лоб, как это могло бы сделать домашнее животное, собака или кошка. Но существо волчьей породы никто не может приручить, а Марина даже и не пыталась. Она только вглядывалась ей в глаза, своей волчице, продираясь взглядом сквозь переплетённые и как бы судорогой сведённые ветви в чащобе – и была довольна, когда встречала ответный взгляд жёлтых глаз с серого лица. Которое ей и в голову не пришло бы назвать мордой.
И если предположить, что случилось – могло бы случиться – такое нечаянное чудо, что эта смерть схватила бы её на том самом месте в лесу – на том её любимом холмике на взгорье над оврагом – что это была бы милосердная и внезапная смерть, и она бы лежала там, на траве, среди цветов и кустарников, раскинув руки – вот тогда могло бы случиться и то самое, на что она втайне надеялась – вот там, в этом лесу и на этом пригорке, волчица могла бы приблизиться к ней и взглянуть ей в глаза.
Но этого не произошло. Никаких смягчающих обстоятельств. Никакой доброй волчицы с понимающим взором не появилось в этот миг, одни тёмно-зелёные шторы с барскими выкрутасами по бокам на окне, сквозь которое надо смотреть на яркий закат некрасивого цвета выжженной свёклы и понимать, что видишь всё это в последний раз.
Что было дальше – никто не знает. Суждено ли ей было пережить те предсмертные и послесмертные приключения, которые всякий описывает на свой лад – всякий из тех, кому удалось по какой-то причине вернуться с того света?
Муж, тот самый, которому к тому времени уже давно не приходилось ни расцветать под солнцем барского восхищения, ни исполнять роль учёной обезьяны, увидев на постели мёртвое тело, вначале только выругался нехорошим словом, а потом отправился в питейное заведение. Ещё мелькнула у него было мыслишка такая – юркнула и ушла – мыслишка о том, как бы найти верёвку потолще, чтоб повеситься – и почему-то чердак ему представился в воображении, что с горя повеситься стоит – неизвестно, почему – именно на чердаке. Но после первой же стопочки побледнела эта мыслишка, и чердак, который представлялся ему чёрным и немым, как некая дыра в пространстве, перестал притягивать и в конце концов потерял всякую привлекательность.
Вот теперь – мордой об стол самого себя размазать, биться лбом в эти деревянные доски стола и приглашать всех собутыльников полюбоваться тем, как адски, как нестерпимо, как до самой жгучей невозможности любил он – да, любил! – свою покойницу. И пусть все это видят и знают, и даже волки в лесу, которые подпевали его звериному вою – а может быть, среди них была и та самая волчица, ощутившая на расстоянии боль внезапной утраты – об этом никто не взялся бы судить.
И когда с полу подобрали остатки того, что было когда-то удалой и речистой учёной обезьяной самого барина – догадались поискать и его сына. И кому-то пришло в голову заглянуть на тот самый чердак, где мальчонка уже привязывал верёвку к крюку на стене. И выхватила какая-то старуха, как говорили тогда, из рук у мальчика эту верёвку, и уволокла его к себе домой и уложила в одну постель со своими пацанами, пока его отца отливали вёдрами воды, и он, отряхиваясь, как мокрый гусь, не мог понять, где он и что с ним происходит.
На четвёртом этаже: 1867—1878
Ветка черёмухи
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Фёдор Фёдорович, сын Фёдора и Марины:
четвёртое поколение
Розвита, жена Фёдора: четвёртое поколение
Никанор, отец Аксиньи, дед Марины:
седьмое поколение
1 глава.
Ветка черёмухи
Фёдор Фёдорович
Размахнуться, чтоб вдарить ложкой в лоб зазевавшейся красотке, и вдруг на лету распознать взгляд собственной матери из этих самых детских очей, с ужасом глядящих на тебя.
Это тебе как? Можешь ты это хоть как-то вместить и раскусить изнутри, что это значит, когда твоя мать никогда не любила тебя, а только взглядом соскальзывала, а теперь эта вот копия её глядит на тебя несмываемым взглядом – осуждения? Да какого там осуждения – просто ярости взглядом глядит, как спичкой по лицу чиркнула – и умчалась, и нет её, а я тут расхлёбывай и самым важным в семье притворяйся, и как рявкнешь, это на младшенькую и в кого-то не разбери-пойми белоглавую, вот на неё как рявкнешь во всё горло, так она и затрясётся, как лист осиновый, и тут младенчик мой, самый старший, тот, про которого я думал когда-то, что вот не зря я её в жёны взял, хоть пацана мне родила – так вот этот старшенький, больно умён который, так он прямо с ненавистью такой поглядит – будто я дерьмо какое подзаборное, а не человек! Вот такая у меня жизнь была – как тебе такая жизнь, по нраву?
И что этот старшенький потом вытворять пошёл, из дому сбежал, где его кормили-поили – это моя будто вина? Так скажешь? Если б не распалялся я, как дикий зверь, может быть, и он остался бы дома? Как другой твой дед, которого якобы «драли» по пустякам, да всё-таки недодрали, до белого каления не довели, и загремел он, видите ли, в институт, наукам обучаться, вместо того чтоб, как мой, в шайку разбойников загреметь? Так помышляешь? Или всё ещё «подвигами» моего старшего сына гордишься – уже вроде бы и не ко времени? Уже вроде бы перестали его «героем Октября» величать и где не надо его причиндалы выставлять, билетик какой-то х*ёвенький… – как скажешь? Какое у тебя сейчас время на дворе? А у меня – никакого. Никакого времени нового не прибавляется, а только всё старое ворошу, и переворачиваю, и мечтаю сообразить наконец, за что мне такая непутёвая жизнь досталась: сначала мне, а потом и детям моим, и внукам, а теперь вот и тебе самой – в придачу.
А если с самого начала всё рассказывать, так что… Ничего хорошего и не рассказать.
Мамка меня не любила. Что батька драл как следует, и в хвост и в гриву, и по пустяку какому-нибудь избивал как сидорову козу – но это что за вопрос – у всех батьки такие. На то они и батьки, чтоб силу свою показывать и неусмиряемую ярость наружу выпускать. Но что мамка как-то глаза отводила, когда сталкивалась со мной глазами. Соскальзывала взглядом. Что-то недоговорённое, недосказанное.
– Чистое наказание! – говорила порой, стоило мне нашалить или сказать ей какую-нибудь дерзость. И ещё, потише: – Весь в батьку пошёл!
Какой-то я не такой для неё был. И что волосы чёрные, как проволоки, во все стороны торчали, никакие ножницы не брали – а я чем виноват, что таким уродился?
И уж как я ни старался, а ничем угодить ей не мог. Помню, как сорвал где-то в лесу распрекрасную ветку черёмухи и принёс ей домой, нёс и радовался, что посмотрит она на меня наконец-то так, как другие мамки на своих пацанов глядели, – нет, соскользнула взглядом.

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«Весна в деревне»
В кружку ветку эту поставила и даже спасибо сказать позабыла.
Неуверенная была и вздрагивала всегда, стоит только батькин голос заслышать. И болела, и болела, и скоро уж и померла. Так и не дождался я от неё ни ласкового слова, ни похвалы какой-нибудь, хоть совсем завалящей.
А батька зверел, зверел и под конец совсем озверел. Когда замахнулся он на меня красной какой-то табуреткой, из барского дома стибренной, ухватил я его за эту табуретку так, что и руку ему чуть не вывернул. Как он ни орал, похабными словами меня обзывая и что будто я подзаборный какой, не от своего отца рождённый, хотя все вокруг в один голос твердили, что мы с ним – в одно лицо, как две капли воды, только я помоложе, а так – как близнецы-братья. А он всё намекал и намекал, что я будто бы барское отродье, графинчиком меня обзывал и ещё всякими непотребными словами. Так и мамку он сам в могилу свёл. И рядом с её могилой – три могилки крошечные совсем, захоронения моих братьев и сестры одной, рождённых до меня – на одну из них батька плюнул, проходя мимо, во время похорон мамкиных.
Мамочка моя, так и не полюбившая меня до конца своей жизни, в молодости была красавицей несусветной – так поговаривали в деревне. И ещё много чего про неё поговаривали, чего уж я-то повторять не стану. Хоть и нелюбимый, а всё ж таки – сын, и не стану ересь какую-то стоеросовую выносить на всеобщее рассмотрение.
Только – уехать. Смыться подальше. И из деревни, и от батьки прежде всего.
2 глава.
Красная табуретка
Никанор
Что было после того, как старый ударил молодого табуреткой, из замка украденной?
А что там, внутри замка, все предметы мебели выглядели такими недоброкачественными существами со злыми лицами, как это показалось в ту первую ночь моей бедной доченьке, это не скажи. Как отсюда поглядеть, не все они были такими, словно только и ждали пырнуть, если не острым углом, так злобным взглядом. И была там красного бархата софа, на которой восседала, как правило, Сама, вышивая свои безделушечки и недоброй памяти подушку – ту, с бледными розочками, орудие убийства моего первого правнука, не наречённого даже никаким христианским именем перед смертью. И такого же фасона, как эта софа, затаилась там табуреточка, небольшая, чтоб ноги старушке удобно было возлагать на неё, на этом полудиванчике восседая. Так оно было предназначено само по себе, а на самом деле сидела на этой табуреточке невысокой моя хорошая девочка, Мариночка, сиротка с самого первого дня своего рождения, приближённая к этой старухе в позолоченных побрякушках так, что ближе не бывает – и умом, и сердцем. И отца и мать заменяла ей эта старуха, и баловала непомерно, но что тут поможет, какое баловство, когда исполнения её самого насущного желания эта старуха не смогла ей предоставить и не умереть – не в срок, как по вашим понятиям это теперь считается, что в сорок лет и не старуха совсем, а молодуха – ну а в наше время мало кто до сорока доживал, и почему этой нелюбимой мною, значит, родственнице – через внучку мы с нею ведь породнились – почему ей помереть приспичило в сорок лет, когда Мариночке и девяти не исполнилось ещё, об этом ведь никто не знает. И как ты понимаешь уже – начала догадываться – что появился потом… и какие разговоры пошли вокруг этой самой софы тёмно-красного бархата, и когда она, девочка моя ненаглядная, на этой же самой подставочке для ног сидела – это же тебе понятно и без слов? И что отцом он ей приходится, этот – красавец теперь, в его молодецком возрасте, а и всего-то на четырнадцать лет старше её самой – зачем он ей об этом ни слова не промолвил в тот самый первый раз – об этом как-то несподручно говорить, вот тут затаился секрет. Да это и вправду секрет, такой, за семью замками, потому что не поверю я такому нахальству моего невенчанного зятя, что он, малышку разглядев и её красоту осознав, не в дочери себе намечал, а уже с самого первого раза, в восьмилетней, наложницу себе заприметил…
Но о чём это я – ах да, об этой табуреточке, на которой моя внученька сидела и, подняв личико, в глаза теперь глядела – и уже не старой графине, а самому, значит, юному графу в его возрасте той самой красоты, которой Бог (или кто там одаряет сверху) одарил его не по силам. На то, чтоб красоту свою нести, тоже силы нужны, и немалые – нести и не опозориться. А если господа красотой одарены, так к ним всё так навстречу и летит, и кажется его слугам, что не зря господином он над ними поставлен, такой молодец распрекрасный. И забыл ли он мою доченьку светлоокую, он, сгубивший её жизнь ненароком? Не мерещилась ли она ему в этих залах по ночам в её длинной, до пят, белой рубашке и с её непревзойдёнными белокурыми локонами по плечам? И как не побоялся и на дочь её замахнуться – заглядеться – наобещать ей всяческих богатств и заманить наконец, и, может быть, даже и в ту же самую постель? Как ты думаешь, как это возможно – когда сызмальства, с малолетства, у человека исполняются все его самые непотребные желания, тогда и не думает он, и невдомёк ему, что некоторые желания исполнять ни в какую и ни при каких обстоятельствах!
А я тебе про эту табуретку говорил и пытался объяснить её роль в последующих событиях, потому что схватил её однажды стоеросовый муж моей внучки Марины и хряснул правнука моего по спине так, что только щепки разлетелись. Как ему стибрить эту подставочку для ног удалось и чем она ему так уж угодила, не мне судить, ведь он не застал того времени, когда на ней сидела Мариночка и вышивала вместе со своей бабушкой наречённой…
Но вот выволок и замахнулся – и хрясь об сына, которого за сына в иные минуты почитать отказывался. А подкрался сзади, как тебе это должно быть понятно, что когда сзади подкрадывается разбойник, то за руки его не ухватить и удар не удержать.
Что произошло после этого, я тебе не могу объяснить как следует, потому что было в тот момент не разглядеть, кто кого бьёт и чем, а только выбежал потом оттуда избитый сын, паренёк, мальчишка ещё, и больше уже к отцу не возвращался, и что с этим отцом его потом было, ни от кого не узнавал и узнать не пытался. И лежал ли этот Фёдор там избитый и с окровавленной головой, ничего сказать тебе не могу, а только что добрался этот мой правнук, а не чужой человек, до города, а каким образом, на повозке или как, не ведаю того, и поступил там в услужение к купцу богатому, и на белокурую девушку, из церкви выходящую, позарился и даже не понимал, и никто ему не подсказал, на кого эта девица была похожа и кто в её облике к нему подошёл в тот миг, чтобы не сбился он уж совсем с пути – Аксинья, моя доченька, сама и подошла. И не понял он, этот мальчишка, что не зря эта приёмная дочь немецкого богатея вошла в его сердце – навек. И не пришло ему в голову ни разу ни изменять ей – своей Розвите – ни поступать с нею так нехорошо, как его собственный отец поступал с его матерью. А что на своих детей, от неё рождённых, он замахивался и не раз – ну куда ж ты от этого уйдёшь, куда денешься, если веками так повелось, век за веком одно и то же. И то, что я ни Ксюшеньку мою, ни Алёшеньку малосильного никогда не тронул – да за это на меня пальцем показывали издали и посмеивались надо мной. Но сама посуди, как мне было их обижать? Когда он глазки поднимал, бывало, Лёшенька, и поглядит так исподлобья, так и плётка из руки вываливалась – сама – и только на руки его подхватить и закружить хотелось, словно я и не батька, а неизвестно какой чудак выискался. А что милую мою доченьку никогда не бивал – вот оттого, наверное, и не сломался у неё характер. Но это уж тебе судить, а не мне, потому что теперь я уже досказал свою повесть до конца и с тобой прощаюсь – навеки.
3 глава.
Табу-ретка
Фёдор первый и основной, тот, который без всяких голубых отзвуков в крови, таким уж полным идиотом не был, когда в запале называл своего сына графинчиком плюс всякие другие обвинения подзаборного характера на него навешивал. Названный его собственным именем Фёдор Фёдорович, заговоривший вдруг через много лет после своей смерти и возопивший почему-то ко мне, вот ко мне, к той самой, что сидит сейчас и записывает эти слова – так вот этот «Фёдор в квадрате» чего-то уж точно аристократического и к тому же подзаборного от своего незаконного деда наглотался, это уж как пить дать, и Фёдору первому, этой бывшей учёной обезьяне, находившейся в кои-то веки, во времена своей юности, в тесной близости со своим господином, как было не заметить этих тоненьких черт сходства?
И когда он подбирался к сыну сзади с этой табуреткой в руках, с этой позолоченной, с кривыми ножками и бархатом тёмно-кровавого цвета обитой… или цвета наилучшего французского вина, то… вот так ярко вспомнился ему тот момент, когда к господину своему, ярко шуршавшему какими-то шёлковыми нашивками по подолу сорочки, он сам в молодости и в счастье, вот в этом свежем ещё состоянии духа подошёл и обнаружил, своим нюхом распознал дух, от господина идущий, и, помогая тому сзади, помогая на него напяливать какой-то камзол, он погружался в этот дух, от графа идущий, в этот странный запах, от мужчины исходящий, но где-то ведь он нахлебался этого запаха – не он сам, а его кожа нежная, как девичья, и его бельё, такое поблескивающее в лучах заходящего солнца справа из окна, в этой комнате, служившей для переодевания…
В последних лучах солнца, пропихивая руку барина в рукав то ли сюртука, то ли камзола, он понял вдруг… И почему эта рука заплутала в тот миг во всех своих бархатных подтяжках и приспособлениях подспудного белья, этого никто бы не смог сказать.
Этот камзол был тёмного цвета и на плечи налезать отказывался, и его товарищ, брат по названию, а на самом деле попросту граф, почему-то рукой своей в рукав не попадал, и камердинер Фёдор подскочил и быстренько так и умело этот рукав на место и поставил, и руку господина своего, названного брата, в этот рукав, в эту пропасть или в туннель, в эту трубу из богатого материала сшитую, ввёл… руку ввёл и все складочки многослойного белья расправил, чтоб всё на нём сидело и сияло как следует.
И граф тогда остался доволен и выскочил из раздевалки к гостям, бросив взгляд благодарный на своего брата по названию, на своего раба, приучившегося уже ко всем барским прелестям жизни.
И вот этот запах, дух, то есть аромат или как там его ещё назвать… Фёдор, молодой крестьянин, годившийся графу ну разве что в самые младшие братья и гордившийся непомерно своим успехом у барской публики – он стоял, этим духом ошеломлённый и оглушённый, и поглаживал, только что-то поглаживал… бархат какой-то безумно красивого цвета, какого в ваши времена уж и не выделывают. Ни цвета такого фабричным вещам присвоить не удаётся, ни формы такой, искривлённой так ловко, словно бы на лапках стояла эта табуреточка, расколовшаяся потом на свои некрасивые части и улетевшая в никуда… совсем в никуда, и её даже не похоронили, а просто так сожгли, когда разбирали по штучке оставшиеся от Фёдора первого шмотки. А вот тогда, в тот момент перед очередным выходом на публику, в тот момент ещё вполне пригожего молодого человека, ещё не научившегося распускать свои непотребные прихоти…
Табуреточка в тот момент показалась ему не только символом барского могущества и изящества, но и связалась каким-то непостижимым образом с этим запахом, с ароматом, откровенно принадлежавшим той самой его тайной страсти, лютой страсти к Неназванной, про которую он тогда ещё и не помышлял, что она была любовницей графа. И к ней к самой никогда не посмел бы Фёдор прикоснуться даже взглядиком, взглядиком её ощупать с ног до головы – никогда! А вот табуреточку эту погладить, да, погладить и к ней прижаться своею щекой – щекой недавно научившегося бриться… и так и замереть в любовной обхватке с маленькой табуреточкой, но по размеру как раз и в точности для объятия подходящей. И заходиться от страстного туманного такого полувосторга-полусна, и чуть ли не целоваться с нею, хотя табуретка, как бы она ни была и мягка, и мила, никаким поцелуем ответить ведь не сумела бы? Это так нескладно по сути, эту мебелину прижимать к своей груди, этим мягким передом, этим красноватым сидением, а все её четыре лапки, нежненькие, торчали при этом в пространство, и если бы кто-то заприметил его за этим занятием, то несдобровать бы ему было тогда… в те времена, невозвратимые, лобызавшегося с табуреткой в тени раздевалки среди барского белья, обильно снабжённого запахом дамского аромата.
И поэтому стибрил – да, стибрил, даже и не догадываясь обо всех прочих приключениях этой хотя и прекрасной на вид, но всё же, как ни крути, а бездушной ведь части мебельного устройства барского дома. И стибрил, и любил, если посмотреть вглубь его души, то любил свою прежнюю молодецкую долю напоминающую… вещь? Ведь это вещь была всего-навсего, и хотя на четырёх ножках, но не собака и не кошка, и чтобы ею размахнуться и ударить, ведь не жалко же, а что она потом на куски раскололась об сына, об его спину, то и сына не жалко… Но почему же и сына оказалось не жалко, когда тот, ребёнок его по названию только, стоял и переодевался, и по форме спины, по тому переходу нежному и для мужчины уж совсем неподходящему, от шеи к плечу…
Догадался и озверел. И тот прежний запах, которого не было на этот момент, уже много лет этого духа в его помещении ведь не было – самого того запаха – но нежный изгиб плеча, и слишком тонкая кожа мальчика, и тот запах в душе воскресили и послужили доказательством, для отца неопровержимым.
А табуреточка красным цветом посверкивала и стояла рядом… И вот тут бы вцепиться когтями и всю эту нежную спину своего потомка разодрать, раскровавить, распластать, но табуреточка произнесла своё слово. В этот миг, когда Фёдора первого словно бы на качелях перекинуло в его прошлое, в прошлое счастливой Учёной обезьяны, табуретка сказала, что когтями не надо. И любимую свою, на четырёх ножках приседавшую слева от зеркала, почему-то схватили его лапы, когтями и шерстью вспыхнувшие в полутьме. Словно бы он и сам в кого-то другого тогда превратился, и пусть ненадолго, пусть только на миг, но и этого мгновения вполне хватило бы, чтоб проломить череп своему потомку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































