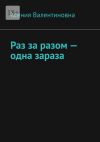Текст книги "Айсберг"
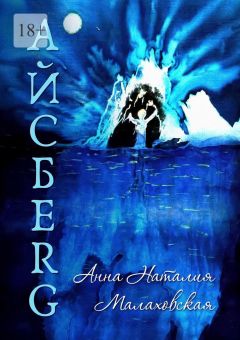
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
7 глава.
В траве
Господин с тросточкой
Полгода счастья – это значит, что было столько хороших моментов, что их бы хватило и на всю жизнь. У других такие моменты по капле выдавливаются: то там, то тут зазвенит минутка. А у меня это был полный вдох, как будто я набрал воздуха, вдохнул и рассмеялся, что жизнь, оказывается, может быть такая – золотая – и что можно подсовывать ей исподтишка такие тайные записочки о том, где искать то, что я для неё приготовил. Какую-нибудь безделушку обработать так, чтобы из этого вышел так называемый «секрет», как она любила «секретики» везде запрятывать. Всю ночь такие устрoйства и ухищрения в воображении создавать, а поутру раскладывать их в закутках по всему дому, чтобы она ходила, и находила, и радовалась тому, что смогла правильно прочесть и разгадать написанные слова. А в лесу, в её любимом месте, там нашлась ложбинка в земле за оврагом, и там она расположилась со всеми своими подарками, приготовленными для меня, и велела не подходить, пока она всех их не запрячет как следует: кого из них под камушек, кого между веток полусросшихся веником каким-то прикроет, а кого и в землю закопает, а мне потом искать, и как она хохотала, когда я найду какой-нибудь из её секретиков. А мы потом там на лугу, за краем отвесно падающего оврага, располагались покушать, и я ей объяснял, что это называется английским словом «пикник», и она смеялась, как будто передразнивая:
– Пик-ник? Ха-ха-ха! – и это было так весело, что никогда не забыть ни одного этого дня, а ведь много было этих дней, и как только погода позволяла, так мы выскакивали из дома и бежали в этот её лес, и она там говорила:
– Вот это моё дерево, – и я потом, через год, размышлял о том, повеситься ли мне на этом её дереве или скинуться с края этого её оврага.
А погода в то лето расщедрилась, как будто хотела заранее расплатиться со мной за всё, что произойдёт через несколько месяцев, а и всего-то в ноябре и произойдёт, незадолго до декабря проклятого, и лучше бы вообще никогда не было в жизни никаких декабрей. Тогда бы и не было в моей собственной жизни, отдельной от неё, никаких моих позорных поступков, никаких моих преступлений, настоящих уже на этот раз, потому что если бы мы с нею дожили до седых волос, вместе, не разлей водой…
Как я понимаю теперь, что мы оба тогда были просто глупенькими ещё детьми и думали, что жизнь и вправду могла бы оказаться вот такой безоблачной, а когда тучи с неба свалятся дождём, то по колено в лужах скакать и даже – чего уж скрывать – бросаться, как снежками, в руку вот так мокрого песка с земли набрать и друг в друга бросаться, и не помню, кому из нас первому такая игра пришла в голову, но помню, как играли и хохотали уже в полное горло, а потом бежали в овраг, где поглубже, и там, в ручье, протекавшем по дну, смывали с себя ошмётки песка и с хохотом плескались друг в друга пригоршнями воды. Вот ты не поверишь, ведь мне в ту пору уже четырнадцать лет было, а я в такие просто детские игры игрался, заигрывался с ней, потому что в детстве не наигрался, это – точно. И всегда, с самого раннего возраста, меня заставляли притворяться, и вместе с неудобной, стягивающей меня, всё моё тело одеждой, натягивали незаметно для меня самого эту маску, это поддельное лицо. Как она говорила, что я всегда притворяюсь. Вот это было её слово, что я будто бы притворяюсь, а я это так ощущаю, что во мне что-то как бы сдавливалось и в лице тоже, что я не сам нарочно притворялся, а оно как бы само сдавливалось и в такое превращалось, какое она не могла любить…
Что это со мной? Что это я тут проговорился, как будто бы она могла меня – любить? Как страшно произнести это слово, а ведь так и получается, что пока я эту подделку на лицо не натягивал и не становился весь словно затянутый в панцирь, в присутствии дорогих для моих родителей, для мамаши моей, раззолоченной, гостей, что до этого она меня и правда – любила? Когда песком придорожным в меня кидалась или пригоршнями воды? Что это была и правда – любовь?
А когда я её в шутливой драке повалил на траву на лугу и очень осторожно лежал рядом с ней и следил, так следил за собой, чтоб не прикоснуться… по-другому… лежал рядом, она – на спине, я – лицом в её грудь и слышал, как бьётся её сердце, и терзал себя изнутри, чтоб не придвинуться к ней ещё ближе и не поцеловать, не расцеловать её всю, от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах. И вжиматься в землю, в траву, вместо того чтобы в неё, и кусать себе губы, чтобы не сделать этого, того, что нельзя, потому что тогда всё это счастье оборвётся в одну секунду и даже меньше того, и она тут же меня отдёрнет и оттолкнёт, и я снова стану для неё тем же самым паном ненавистным, а не товарищем смешных забав. И потому попытаться расхохотаться опять, когда слёзы душили, и продолжить эту весёлую игру, вот будто я тут разлёгся на траве…
Вот когда я притворялся, это – да! По-настоящему притворялся – и лежал лицом вниз, всем телом в траве, только лицом у неё на груди – вот такой был тогда момент. И слёзы я потом с лица смахнул и сказал, что это от травы – в росе – но она, мне помнится, в тот день не поверила и уже больше не смеялась, а шла потом молча рядом со мной и будто бы меня понимала, так мне казалось, что она догадалась и о том даже, о чём прямо говорить не хочу, и оценила, что я перестал её тискать и даже в такую удобную минуту не дотронулся и не ущипнул по-настоящему, как хотелось ведь, и ещё как хотелось. Но я себя держал как в узде, чтоб её не обидеть, не оттолкнуть, не поставить под угрозу нашу детскую дружбу и близость, не такую, как вот вы все сейчас думаете. Те, которые вокруг нас обитались тогда, вот про это самое и думали, а у нас ничего такого и совсем даже не было, только слёзы мои, но и они ушли в землю, и только травы в лугах, они об этом знали, что мы с нею как дети малые резвились тогда, а совсем не как те подростки, которыми мы с нею тогда ведь были по возрасту, а не по душе.
Тебе надо ближе всё это рассмотреть и шаг за шагом, и даже одно мгновение за другим, и не так, «словно смотришь в бинокль перевёрнутый», а так, словно смотришь ну просто вплотную – нет, не в микроскоп, а в телефоне вот в этом теперешнем непривычном увеличить кадр, чтоб прямо глаз рассмотреть, и какие там, в этом глазу, переливы отношения: от радости к слезам и наоборот, от ужаса – к настоящей, всамделишной победе, без всяких оправданий и ограничений.
И если отсутствие ограничений не можешь мне простить… ведь ты этого мне простить не можешь? Вот это ведь выволокли твои врачи и тебе показали, что без этого, без этого некрасивого до последних мурашек на коже слова… словца… словно бы цокающего одним копытцем… одной подковой прибивающего меня – да и тебя заодно – к тому же самому… анализ крови, вишь, показал… что без этого самого в каком-то там поколении у тебя сейчас не могло бы быть рака крови!
Вот и обливайся теперь… чем теперь обливаться, в твоём последующем поколении, если твой предок не побоялся, а соизволил свою собственную дочь, свою плоть и кровь… и не так на неё посмотреть, как на дочь смотреть полагается, – и ударил в грязь лицом? Да, со всего размаха. И как это теперь назвать? Тем словцом, в котором словно бы копытце позванивает, подковка-то вроде как зачесалась, и снять захотелось и посмотреть, что внутри?
Копытцем поцокивает это нехорошее словцо такое, с буквой «Ц» посредине и с целой сворой – или стаей – прилагательных, то обвиняющих, то пытающихся оправдать. А у тебя ни от оправданий, ни от обвинений твой приговор, в анализе крови запечатлённый, не изменится. И если бы не было этого дополнительного преступления, вдобавок ко всем остальным, то могло бы тебе помочь вот это простое лекарство, с кортизолом так с кортизолом, но оно могло бы снять и вот просто так – убрать – и то, что по лицу расползается, и то, что сжимает и душит и сердце, и мозг. И поэтому вот тебе, возьми, вот это объяснение моего ведь греха, и сама суди, – оправдание ли это или обвинение, или же и то и другое – в одном глотке?
8 глава.
Слово «Нет»
Господин с тросточкой
Когда я лежал там, на зелёном лугу, прижимаясь к земле всё крепче и входя в эти заросли всё глубже и глубже, как ты думаешь, что это тогда было?
Это ты теперь знаешь все приличные слова, чтоб назвать неприличное и не споткнуться. А я тогда никаких приличных слов не знал, а знал только то, что гадость такую, какая происходит сейчас со мной, ни за что нельзя даже приближать к тому, что было овеяно такой поэтической дымкой и почти религиозным обаянием. И это была боль – как бы всемирная боль, словно бы и небо у меня над головой болело, а не только травки вокруг моих раскинутых рук, которыми прикоснуться к ней боялся. И знал всем телом и всей душой в этот миг, что от неё исходит такое как бы слово, незаметное, или прозрачное, или только мне одному ощутимое, и это слово было НЕТ, это красивое на вид и страшное по звучанию, это огромное, уж не знаю, какими буквами тебе его написать, чтобы тебе это стало понятно, каким огромным было это НЕТище, словище, отталкивающее меня в тот миг – а кто там в ней затаился и кто произносил это «НЕТ» своими запечатанными губами, ртом, ещё не образовавшимся вполне, но уже заявившим своё право на существование и своё право отдавать приказы своему отцу, самому несчастному из всех живущих на земле. Я тогда так размышлял своим обалдевшим умом, что это огромное НЕТ исходит от самой Божьей благодати, и рыдал, не выдавая себя ни единым звуком, и трава вокруг понимала меня, и тот несчастный цветочек маргаритки, что я мучил в то время своей правой рукой, потому что она лежала слева от меня, возле моего сердца, а я лежал ничком, уткнувшись в эту траву, а потом голову положил к ней на грудь – только голову – и слышал, как там бьётся её сердце – быстро-быстро. И вот этого тебе, наверное, не понять, как я рвал на себе волосы после всего и после её убийства, потому что это рождение ребёнка было убийством, подстроенным кем-то таким, кто сидит там наверху и всеми своими ангелами распоряжается.
Нет, не Матерью-Природой, которую я в тот момент почувствовал и раскусил всем, что во мне было! Я ощутил это тогда – в тот миг – так, что и Она, Мать-Природа, плачет надо мной и за все мои грехи меня прощает, что за это непотребное такое желание, за мою страсть такую, чтоб губы в кровь искусать, прощает и жалеет меня вместе с теми высокими травами, что склонялись тогда надо мной и нас почти целиком прикрывали, чтоб никто нас не заметил, и моего стыда и позора, и что хотелось просто сесть на землю, и размазать слёзы по лицу, и рыдать во весь голос, но нельзя было даже и слезинки показать, чтоб она не догадалась, из-за чего я плачу.
И потом, уже после второго самоубийства, оказавшегося неудачным и на этот раз, это стало для меня обычным делом: видеть вот один и тот же сон каждую ночь – и травы вокруг, и солнце, склоняющееся к закату и просвечивающее сквозь эти высокие метёлочки трав, зарослей на лугу, и это – как её сердце тикает слева от меня, а её саму не видеть, только слышать её дыхание, и так – каждую ночь. И пойми ты это, что так продолжалось каждую ночь, и мне теперь уже разрешалось – позволялось – сесть в постели, и размазать слёзы по щекам, и рыдать пусть не в полный голос, но чтобы действительно рыдать, и губы в кровь раскусывать, и биться головой в подушку.
Но в третий раз себя убивать я не стал, потому что толку никакого и в смерти не заметил: и там тоже я её не обнаружил – не приблизился к ней ни на грош, а она ушла, она погрузилась – в ту самую ночь своей смерти, когда я искал её на дне проруби – она ушла в какую-то такую глубину – или высоту, но это ведь всё равно: это так далеко оказалось, что даже смертью не достать.
И жить без неё – это как это так, что БЕЗ НЕЁ – Жить? А это так было, что я весь день, что бы ни сотворял, а только ночи дожидался, и чтобы снова её сердцебиение ощутить, и потом… во сне я уже не стеснялся, а делал с нею – с той, какая она была во сне – всё, что мне самому было угодно. Так мирно эти сны не продолжались, и были там внутри и драки, и тихие замирания, и я тогда боролся с самим этим словом НЕТ, которое было кровавого цвета, и порой мне удавалось раскрошить его вдребезги, а порой оно продолжало висеть над нею, в небо ведь тогда глядящей, и такое огромное было это слово, что больше её самой по размеру – оно выходило за границы её тела и было почти прозрачным, и всё-таки – кроваво-красным. И я с ним боролся каждую ночь напролёт, и вскакивал, и затевал драку, и в какую-то ночь это удавалось, его победить, и тогда было – ну, совсем хорошо.
И поэтому я каждый день ждал ночи и не мог никогда разгадать, как же это будет на этот раз и удастся ли мне победить, чтобы войти в полное владение тем, что мне принадлежало ведь по праву моего великого и никаким глазом не обозримого страдания.
И ты спросишь теперь – а как же то, что было потом, через восемь лет – как же это так могло быть и как состыковать эту мою великую любовь с тем ведь преступлением – и на этот раз настоящим преступлением, в которое я вступил, как в дремучую лужу? Да, эта лужа была, как дремучий лес, скажу тебе, где за каждым стволом мне мерещилось не то лицо – ещё маленькое личико, каким оно было тогда у девочки восьмилетней, а личико её сестры – почти сестры, а на самом деле матери, лицо той, которой в день её смерти не исполнилось ещё и тринадцати лет… И волосы которой я перебирал в том заветном сне – и в последний раз – потому что через восемь лет, и когда я прикоснулся к моей душе – к копии меня самого, заточённой в теле восьмилетней малютки – этот сон ушёл. Растаял, как те серёжки из алмазов, что я вдевал в уши моей великой любви – растаял и превратился в воду – как от слёз на подушке остался один только тёмный след, и он под утро высох. В эту ночь, проведённую в моём родном замке через восемь лет после смерти Аксиньи, я впервые не проснулся от моих собственных душивших меня рыданий. Хотя было бы гораздо вероятней и логичней биться головой об стены и рвать на себе волосы именно здесь, где всё это и протекало, где бродила она когда-то в белой рубашке по тёмной зале возле камина – но вместо этого словно птичка какая-то прочирикала у меня над головой. Я ловил и находил, продираясь между деревьев в этом дремучем лесу, мои собственные взгляды из совсем ещё детских глаз и уговаривал себя, что нет, это взгляды не мои, а взгляды той, по которой я убивался всю мою жизнь.
А что было потом – ну как это тебе объяснить? Как я обманывал и не только себя, как я не сказал малютке, что я ведь и есть её настоящий отец, а влезал к ней в доверие и так постепенно открывал ей, как сокровищницу такую, и коробку с красками, и чернильницу – ту самую – и заветное перо, к которому прикасалась и брала в руки её волшебная мать. И вот, и показать ей тоже, этой малютке, как рисовать водяными красками, чтоб они не растекались, а если расплывутся по бумаге, так это и хорошо, и пусть, и назовём это словом – «талант»? Хорошо? Не будешь плакать, что краски растеклись по всему листу и смыли те цветочки, что ты внутри нарисовала?
К чему я её готовил, спрашиваешь? Ни к чему я её, восьмилетнюю, не готовил и подлости моей грядущей даже не подозревал. Но когда пришёл срок и когда всё больше в ней появились и стали просвечивать те, другие, не мои черты – та привычка стоять у дерева, приклонив к нему голову, тот жест, которым она поднимала глаза, обращаясь ко мне – я вдруг ощутил, что никакого НЕТ там не обнаружилось. Ни большого, дорастающего до самых небес, ни малюсенького какого-нибудь, как та маргаритка, которую я тогда мучил правой рукой, чтоб левой не задушить в объятиях мою самую первую, мою не единственную, но самую огромную любовь!
9 глава.
Прощание на лугу
Господин с тросточкой
Как насчёт диванчика с серебристой покрышкой? Может быть, и меня пригласишь на сиреневый луг? Нарочно этого слова про сама знаешь, какого цвета, луг не употребляю, куда ты всех моих потомков до сих пор загоняла. По совету преподобной Вероники, которую ты волшебницей называешь, а можно ведь и по-другому назвать. И вызовешь потом, уже когда я на этом самом лугу помещусь, встану – но ты моих чёрных сапог не разглядишь, и тех лакированных туфелек, которые так прельстили когда-то непризнанного гения, моего брата, не по названию только, а он ведь был мой тесть невенчанный, отец моей возлюбленной самой первой, который ни в чём не виноват и сам ушёл в свет…
Так вот ничего того, чем я на этот луг могу вступить… мог бы, примяв некоторые травинки, и ты не поднимешь своих глаз, чтобы рассмотреть и всё остальное, что там во мне при жизни, так сказать, помещалось – вот тросточку рассмотрела, и то слава богу, а кто тебя однажды из ямы той выгребной выгребал, не такой ли тоже господин, и если без тросточки в тот незабвенный момент… Но я сейчас не про то, конечно, что и такие господа на вид могут оказаться… хорошими и оказать неоценимую услугу, а вот прямо хочу спросить – до моего лица достигнешь взглядом? Когда на этот луг, не скажу, какого цвета, своим усилием воли меня водрузишь, обнаружишь ли ты там воспоминание, так сказать, и о моём лице тоже, а не только о моих подмётках и о пальцах ног над подмётками, как Мариночка ведь босиком поместилась на этот луг!
И кого ты ко мне вызовешь потом – в качестве надсмотрщика, так сказать? Сначала надсмотрщика, а потом и проводника… в эту вот полоску, что завиднеется в конце луговой окружности почти над горизонтом? Достаточно ли окажется того архангела в неприметном таком, невнятном балахоне, или же придётся вызывать целую свору представителей нечистой силы, которую считают уж очень как будто бы чистой? Тех представителей этой силы, что помогли вам с Вероникой вытащить в так называемый «свет» моего раба непотребного, Фёдора, моего товарища, так сказать, равноправного во всём. И в преступлении, стало быть, равноправного? А что я сам ведь своей рукой не зажимал младенцу рот – это, по-вашему, не считается? Что я только приговор подписал, не чтоб убить, а чтоб женить, – но это ведь, по-вашему, теперь это – одно и то же? И что я так пострадал, и страдаю до сих пор, и бьюсь головой об землю на этом проклятом лугу, – ну это никак, это в ваши рассмотрения не попадает, и вы, гляжу, целую свору на меня напустили, этих представителей… Не хочу с ними! Чтоб они меня выволакивали! Отпустите! Я сам пойду! Куда там идти надо? Я сам, не тащите! Хочешь от меня избавиться, да? Думаешь, что тогда и болезнь твоя схлынет, и горести перестанут преследовать, шаг в шаг, за следом в след? Да, я сам уйду. А что, и мне перерождаться придётся, как она, Вероника, сказала, что таким негодяям, не пощадившим народившуюся жизнь, не избежать будто бы нового рождения? Не хочу! Каюсь, и сразу во всём, и сдерите с меня – надо содрать, как дерюгу, эту жизнь… Ну всё, я её уже расплескал… и больше не буду, и не хочу встречаться опять в новой какой-нибудь якобы жизни с другим воплощением моего непотребного раба, чтобы он, равный мне во всём, по этим вашим новомодным законам, мог мне отомстить за этот брак с той, которую он, оказывается, так уж безумно любил, что не помешало ему терзать её непомерно, чтоб – через неё – отомстить мне самому!
За мои обманные слова о том, что все люди станут братьями! В рот бы не брал таких слов, если б знать, знать заранее, чем всё это обернётся! НЕ хочу встречаться с ним ещё раз, с этим Фёдором проклятым!
…несчастным…
…Он куда меня ведёт? Я не вижу его лица. ОН слева идёт и так легонько-легонько подталкивает меня в спину. Нет, Фёдора вправо сталкивали, куда-то вправо, как отсюда поглядеть, а он меня ведёт в этом балахоне неприкаянном и не сверкающем белизной, нет, просто растрёпанный такой, сероватый даже балахон, чтоб и крылья скрыть, если крылья там, внутри, имеются, и почему такое имя Вероника ему назначила, что он якобы Михаэль, а я его имени таким, вот именно таким признать не могу, а только травинки начинают босые ноги щекотать, и я смотрю теперь сквозь метёлочки высоких трав и вижу, как там впереди назревает что-то, как полоска встаёт за травой и начинает на глазах так быстро созревать…
Ты скажешь? Ты повторишь все те же слова, что ты говорила на днях своему пращуру неумытому? Произнесёшь ли ты те же самые слова и своему гораздо более вымытому и чистенькому на вид? Произнесёшь?
Сквозь заросли стеблей, которые ну совсем уже не зелёные, ну хватит уже пугать меня этим непоправимым цветом, а эти стебельки, стебли эти, травы по пояс, эти заросли вот сейчас почти как снег тогда, как я тебе говорил, что я словно бы тонул в снегу и по самые глаза уходил, погружался, и что снег меня засасывал, так вот и теперь – прощай, я больше не хочу, не хочу всего этог…

Фрагмент картины Анны-Наталии Малаховской
«В айсберге»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.