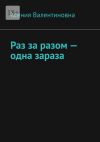Текст книги "Айсберг"
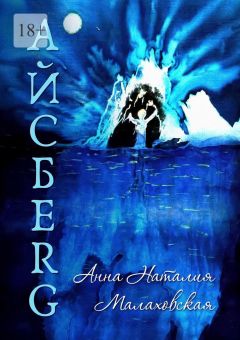
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
3 глава.
В котельной.
Первое поколение:
надводная часть айсберга
Приближаясь к рассмотрению того момента, когда Марина, стоя на коленях перед входом в живой огонь, пошевеливала кочергой горящие поленья, я вижу поначалу только узоры, выбитые на светло-коричневых изразцах у неё над головой, – над дверцей то ли камина, то ли просто печи, огромной, до потолка. Её саму не вижу никак, а вот сполохи огня вижу, как эти отблески по шёлку перебегают, словно хотят друг друга догнать – по этим подолам длинных, до пола, юбок из какой-то блескучей ткани типа парчи, раз так ярко блестят. Всё, что я вижу сейчас, я вижу её глазами.
И однако само то – прекрасное, как мне отсюда мерещится – и длинное до пят платье, в котором занималась такой неподходящей работой Марина, мне сейчас толком не рассмотреть. Вижу только золотисто поблёскивающие переливы отблесков огня на подоле… и эта картина бледнеет и становится всё более просвечивающей, прозрачной, и постепенно справа от этого входа в огонь начинает просвечивать гора угля, которая ну никаким образом не могла бы помещаться в господском доме в 1858 году, а помещалась, как я знаю, ровно через 121 год в одной из котельных Ижорского завода, что под городом-героем, называвшимся на ту пору по имени вождя революции. Вот сместились эти две картины, эти два образа: и постепенно контуры господской залы, сильно провонявшей табачным дымом, начинают ослабевать, становятся проницаемыми, полупрозрачными и уплывают куда-то влево, а воспоминание об этой груде чёрного угля вырисовывается всё яснее и набирает силу. Вот теперь я вижу и те осколки угля, что валяются на этом полу, запачканном чёрными разводами. Что это за уголь, распространившийся до самого потолка чёрной горой?
Они посверкивают слегка в отблесках пламени, эти то мелкие, то крупные куски угля… а я как тут оказалась?
Когда все остальные рабочие места ускользнули от меня по той или иной причине, мне пришлось заступить на место кочегара на заводе в пригороде Ленинграда. И это было моё первое столкновение с тем понятием, которое много позже стали называть замысловатым словом «гендер», но тогда никакого такого вызывающего слова и в природе не существовало. А просто-напросто моего бывшего мужа на работу в котельной не взяли и объяснили это так:
– На эту работу мужчин мы больше не берём. У нас был на этом месте мужчина, так он напился до такой степени, что устроил нам в котельной взрыв – продрых всю ночь вместо того, чтобы следить за печью! – вот так мне сказали в отделе кадров. Было ли произнесено при этом сообщение о том, что этого кочегара пришлось потом вытаскивать из-под обломков – или о том, что и он сам под этими обломками сгинул – этого не могу уже вспомнить. И…
– Пожалуйста, проходите, – промолвил мне начальник отдела кадров, приземистый, с очень пристальным взглядом чёрных глаз.
И я очутилась в помещении небольшом и тёмном со всех сторон, где справа до потолка возвышалась гора угля, а сама топка раскрывала свою пасть у моих ног. И вот этот грязный пол вспоминаю, но не помню почему-то, было ли это унизительно для меня там работать, в этой кочегарке, после всех усилий найти работу, соответствующую моему высшему образованию. Но что радости от гудения огня в топке не было, это точно помню. И не было её потому, что запах от горящего угля был не тот, не праздничный, и ничем не напоминал мою детскую жизнь в комнатке с настоящей печкой и с такими настоящими, свежими дровами. Запах был другой, и это было лето 1979 года, ровно через тридцать лет после того, как я, восседая на плечах моего родного папочки, вступала в мир оглушительного счастья, мелькавшего вокруг и поднимавшегося в небеса со всех сторон. За эти тридцать лет я научилась, конечно, и шнурки на ботинках завязывать, и много ещё чему научилась… И тогда, сидя на табуретке в этой котельной перед ревущим огнём, я вроде как не догадывалась, что угодила в самый раскалённый момент моего существования, что как на перекидной доске оказалась, и что этот огонь не просто так гудел, а взывал ко мне, чтоб я очнулась от того пакостного сна, каким до тех пор мурыжила меня вся моя жизнь. После недоброй памяти портретов, от которых меня поташнивало в раннем детстве, меня и от всего последовавшего поташнивало. И мне казалось тогда, что это и есть жизнь: тот капкан, в который тебя запихивают, не разбирая, где голова, а где крылья, и обрывая на этих крыльях все их нежные, в ту первоначальную пору ещё трепещущие на ветру пёрышки, чтоб запихнуть в клетку, и без остатка, и облизнуться.
Это тот, кто запихивал, облизнулся. Так мне показалось, когда я за пару лет до работы в кочегарке написала «О времени и о себе»:
Печальный вид у этого питона:
и на кого он смотрит так влюблённо?
У этого питона грустный вид:
и на кого он жадно так глядит?
А, это ты, его любимец прежний!
Остался от тебя лишь хвостик нежный,
Но хоть давно уж ты – бездушный труп,
Не сводит он с тебя влюблённых губ!
Вот так я ощущала себя, тем хвостиком, который остался на тот период времени от меня самой: от человека, который ведь мечтал когда-то прозвучать гордо – а вот не удалось.
И приходилось подкидывать куски угля в пляшущее пламя и прислушиваться к тому гулу, что устраивал за чёрными стенами топки непонятный огонь. Его пыл и жар никак не вязался с той без-огненной, лишённой яркого и яростного биения жизнью, что протекала за стенами кочегарки.
Жизни, по сути, и не было никакой, а были только какие-то оставшиеся от неё лоскутки, оторванные кем-то или чем-то от пёстрого одеяла чего-то похожего на жизнь и распластанные по разным углам моего существования. Такие бездушные необходимости, как, например, то, что надо было постоянно покупать что-нибудь, чтобы покушать и покормить ребёнка. И когда мой бывший муж со своей любовницей сожрали остававшуюся в кастрюле курицу, не купленную, а выданную мне за работу на вредном производстве, это вызвало во мне жуткое возмущение: это ведь была единственная курица на весь месяц! И что нам с сыном после этого придётся есть? Холодильника не было, и рассчитывать свои копейки приходилось на каждый ужин заново, и сыночек, маленький ещё на ту пору, постоянно недоедал, как и я сама, а на работе приходилось таскать в вёдрах тяжёлый уголь. И то, что я тогда надорвалась, таская эти вёдра с углём, это запомнилось, и что почка упала и началось почечное отравление – но всё это случилось уже потом, ближе к зиме, а в ту белую ещё ночь я сидела перед горящей топкой…
И если прислушаться, то можно было различить в этом ровном гуле и потрескивании совсем другие голоса. Как будто человечьи. Вот словно бы ножом по краю бумаги проводит – такой голос – справа. Какого-то начальствующего, как чувствуется по интонации, мужчины, а ему отзывается другой – ещё правее, и словно бы у меня за спиной теперь. А вот и третий, и ещё несколько вплелись, и все они поддакивают этому первому, вроде бы «товарищ инженер», так к нему обратился кто-то из поддакивающих, и о чём они говорят?
Подкралась к стене и не верю собственным ушам, потому что они разговаривают сейчас жалобными голосами и с охами и ахами о том же самом, о чём я сама немного другими словами говорила во время абсолютно запретного доклада на тайной явочной квартире, делая доклад… Как же это так? Советские рабочие на огромном заводе, прикрывшись, как фиговым листочком, этой вроде бы как ночью… спрятавшись в тиши ночной смены под покровом так называемой белой ночи, а они, дурачки, решили, что это – всё равно ночь и что поэтому все спят и их разговоры никто подслушать не сможет, – говорят о том утонувшем прошлом, что просвечивает в советских песнях!
Нет, про то, что это религия была, они не говорят. И про то, что «страна», как какое-то мифическое существо, посылает нас куда-то… нет, не на три буквы, но всё же посылает, – про это они не рассказывают, не догадались, стало быть, но ходят вокруг да около и словно бы отпевают, некролог произносят по всем этим замечательным человеческим существам, которые ещё как гордо звучали в песнях, в этих, не забытых ещё тогда, к тому времени. Тоска по тому невероятному прошлому, что воскресало в этих песнях, повторялась десятком голосов – тоска о том, куда же все они делись, эти люди, о которых повествовала и «Песня о встречном», и песня о молодых капитанах, и все остальные песни о «нашем» таком счастливом прошлом? Как же это мы дошли до жизни такой, как нам удалось в такое дерьмо угодить, что от всех этих изумительных людей вообще ничего не осталось – и как же теперь жить совсем без них?
Я была вне себя: в этой затхлой кочегарке поймать вдруг сообщение о настоящих единомышленниках, и не из моих таинственных сообщников из круга той странной «второй культуры», а вот тут, прямо за стеной, от представителей настоящего рабочего класса услышать те же самые мысли, которые под строжайшим секретом выговаривались, а и всего-то пару месяцев назад в той романтической конспиративной квартире!
Я была настолько потрясена этим совпадением, что стала поджидать, когда же они выйдут наутро из своего закутка, где вели столь неосторожные беседы. Мне хотелось чуть ли не выбежать им навстречу из своей каморки между топкой и грудой угля, прям на шею к ним захотелось броситься – к тем, говорившим за стеной.
Но когда рано утром они начали выходить оттуда, один за другим, переваливаясь с ноги на ногу и с такими ярко-красными опухшими лицами, я поняла… что ещё раз подтвердилось это наблюдение начальника отдела кадров о том, чем именно мужчины отличаются от женщин, и бросаться на шею к пьяным мужикам мне расхотелось.
4 глава.
Про волчицу
Фёдор Макарович
Вот так выступал я тогда перед ними, и свечей было много, и тени на стенах по коврам переливались, а она, Неназванная, стало быть, за дверью подслушивала: как ловко я – свои ведь – идеи недожаренные этим барчукам выкладывал.
И ей понравилось, между прочим. Теперь и она стала поласковей на меня поглядывать. А барину только того и надо было: чтоб я ей тоже понравился. Чтоб она во мне кого-то повыше разглядела, а не только мужика вонючего, вчера ещё навоз во дворе вилами перебиравшего.
Может, и весь сыр-бор для того и разгорелся, чтоб меня с нею… Так сказать, совместить двух выдающихся личностей, одну, личиком выдающуюся, а другого – тем, что под ним? Под личиком, ничем не примечательным?
Вот какую шутку со мной мой барин сыграл! А ксёндз-то дурень стоеросовый про содомизм что-то там намекал! Да на фиг ему, барчуку, мои «прелести» телесные, ему бы мои идейки «невероятные» – на завтрак и на ужин, а в промежутке… вот что там было в промежутке, я не замечал, занятый чисткой барского серебра и перетасовкой его переписки – что входящие, что исходящие, что в розовую папочку, что в голубую, и не перепутать. Зря он, что ли, учителей нанимал, чтобы нас всех грамоте учить?
Марина
Этот овраг ей всегда не нравился, она сама не знала, почему. И не догадывалась, что как раз с этой стены бросился однажды вниз её отец, подростком, не стерпев внезапной смерти её матери Аксиньи: это была его вторая попытка самоубийства, и вытащили его крестьяне из этого оврага, из глубины, окровавленного, и привезли домой. И осталась как будто какая-то отметка на самом этом овраге, и как-то муторно было ей, Марине, когда приходилось пробираться мимо по лесному бездорожью к материнской могилке. А сейчас вспомнила она, задувая последние свечи, этот овраг просто потому, что речь только что зашла о волках, а вот там, над оврагом, ей однажды примерещился как будто бы волк, подглядывающий за ней сквозь сгустившиеся ветви кустарника. И глядели эти волчьи глаза на неё так, словно бы она показалась, на волчий взгляд, какой-то несъедобной. Какой-то не такой, как надо. Он сверлил её этим взглядом и хотел как будто что-то ей сказать, вымолвить, но так и не сумел ничего произнести и скрылся в глубине, в чаще, слегка взмахнув на прощание хвостом. Или это была волчица, а не волк? И чем вообще волчица от волка отличается, что её можно – ну хотя бы в фантазии, в воображении разряжённой в пух и прах обезьяны, но всё же можно вот так – отдать на изнасилование – а про волка такого и помыслить показалось бы невозможно? И неужели никому из этих якобы таких уж учёных бар и в голову не пришло – не смогло прийти – какой кровавый пир поджидал бы того барана, которого удалось бы затолкать в одну клетку с волчицей: пир, на котором угощаться стал бы не он, баран, а ему самому пришлось бы служить желанным угощением?
Как эти учёные господа вокруг этого обезьяна крутились, чуть ли не в воздух его подкидывали от восторга из-за такого его благородного открытия! А вот если бы она посмела заикнуться о том, что в отношении диетического питания волчица от волка не отличается абсолютно ничем – что было бы тогда?
Но эта мысль только слегка промелькнула и тут же скрылась, потому что гораздо сильнее её в ту минуту занимало воспоминание о волчьем взгляде: и что он ей этим долгим взором хотел сказать, на что намекнуть?
5 глава.
Приказ прозвучал
Фёдор Макарович
И стал камердинер вроде как секретарь: это я теперь такое слово приобрёл и в свой обиход ввёл, а тогда я этого слова ещё не знал и гордился, как дурак, что у меня такие уж невероятно глубокие идейки завелись, и понимал так, что барин для того меня своими завтраками утончёнными потчует, чтоб идейки эти повеселей в голове моей прыгали, как рыбки серебристые в аквариуме, которых кормила Неназванная. Она и на нас, за столом сидевших, поглядывала. А на которого из нас двоих – неясно. На красавца ли барина-чистюлю, или на не менее отмытого, но не такого распрекрасного – внешне, так сказать…
Хотя костюмчик и мне барин приспособил – не сказать плохого слова, костюмчик с золотыми галунами, ну – не хуже его собственного, но лицо ведь не скрыть, лицо ведь это – личность, и как меня из грязи моей прирождённой ни поднимай, всё равно красоту на лицо не подсадишь, появиться ей там не прикажешь.
Но приказ-то прозвучал. Несмотря на все его прибамбасы, на всё то, в чём его друзья его упрекали, называя «демократическими замашками». Это был приказ, которого ослушаться было невозможно, потому что дело происходило года за два до того, что потом назвали «отменой крепостного права». Это был приказ, запакованный в красивый золотистый рулон бумаги с вензелями и с гербами его рода – его дворянского или даже боярского рода.
А сам уехал. А я-то, дурень, верил. Что мы с ним – через все рамки неравноправия – стали друзьями и что он до того уже в моих идейках доморощенных нуждается! Приказ был выдан, один на нас двоих, и прочитал его нам – кто бы вы думали? Как ты вот думаешь, кто прочитал нам этот вот его приказ, в то время как он сам был в отъезде и долго ещё после этого не появлялся?
Нет, не управляющий имением. А из города приехал господинчик такой лощёный, юрист называется, и даже с какой-то особой приставкой – «нотариус». Заключить брачный договор. Между камердинером Фёдором Макаровичем и той, чьё имя я поклялся не выдавать. И поженили нас. И вошёл я к ней в спальню после всех церковных обещаний и праздничной жратвы несытых мужиков и глупых баб, присел на край постели и попытался дать волю моим уже не слишком глубоким мыслям, но ничего не вышло. Потому что сидели мы в темноте на постели в той комнате, что предназначена была графом для нас как спальня, с его чужими подвесками, раззолоченными по тёмно-зелёному, на окнах, сидели в темноте и плакали, обманутые разговорами о равенстве всех людей и о свободе. Для всех. Выбирать своё будущее. А для нас – вот этот приговор. На атласной бумаге. О том, что мы являемся волею графа такого-то супругами перед Богом (в которого граф не верил) и перед людьми (которых он не уважал).
6 глава.
Как шубу с барского плеча
Барин
Как шубу с барского плеча – пожаловал. Но только не шубу и не с плеча. А из губ, из объятий, из души моей – вырвал. Слова одного только как чёрт ладана испугался. И до такой даже степени испугался этого слова – «беременность» – что хуже бесплодного Канта стал, сам собой, ужасаясь на себя и позабыв мгновенно все свои красноречивые рассуждения о свободе, равенстве и братстве, стало быть, и не вставляя в них про сестринство, даром что она, запекущая, зазноба моя, прислушивалась у дверей, и мне хотелось, конечно, и ей угодить, но про сестёр вот почему-то упустил, выпустил из виду, перед лицом такой аудитории, для которой про сестёр было бы и вовсе ни к чему, и кто из них и как со своими крепостными обходился, и будто бы это совсем и не о том, а про свободу – вот это уж поблистать, перед ними перед всеми разливаться соловьём и раба своего заодно в самом лучшем свете выставлять, и рабом даже погордиться немножко – вот какие были тогда замашки!
И самому даже на чуток поверить, что да, брат он мне, этот неотёсанный, которого ведь я своими пусть не руками, а речами и уговорами отёсывал и ему внушал, кто он такой, наконец, после всех моих уговоров стал и кем он словно бы заново появился на свет, рождённый не какой-нибудь там… ну крестьянкой, ну служанкой, а высокопарными разговорами самого – ну как бы вы думали, кого? Ну не Канта, хватит уже на этого засюртученного ссылаться, что он утварью называл и к домашнему скарбу отнести не постеснялся живых сотоварищей по биологическому виду и только с женским устройством тела. А что нам Кант, он сдох в своём реальном бесплодии и своим виртуальным, так сказать – так ведь теперь это называется – виртуальным злодейством одарил и всего-то пару поколений, и больше в дебри будущего – ни ногой. С утварью, с домашним скарбом связываться не захотел, ни улыбками, ни словами, ни объятьями, ни душой. А душу он, может быть, и вытравил из себя ненароком в рамках того химического эксперимента, когда телесные все побуждения вытряхивал и вытравлял. Это мне мучиться теперь – во веки веков, потому что от связи с этими, понимаешь ли ты, которых вот ты за скарб почитал, а ни за кого повыше не ставил, так вот от связи с этими как бы шкафами, если тебе удобнее так помечтать, что женщины это всё равно что предметы мебели, так вот от этого и происходит настоящее бессмертие, а не твоё вонючее, виртуальное, в обнимку с твоими простынями сочинённое. И поэтому мне в них, в моих потомках, до скончания веков мучиться, в них и вместе с ними, а не только до своей собственной смерти!
Как шубу с барского плеча…
7 глава.
В ледяной воде
Поскольку годной для предполагаемого эксперимента показалась именно волчица, а не волк, то именно она и окажется в результате в некотором смысле главой семейства, а не волк, который зубами щёлк и не может уразуметь, куда увели его подругу, и на какое такое высоконаучное предприятие, и чем это она там занимается с этим аппетитненьким таким баранчиком, которого на обед надо приготовить и косточки его оставить на пиршество для ворон, а не до высокопоставленных хищниц допускать, да ещё и в таком облачении, как будто маску ему надели на морду, чтоб волком только казаться. А не быть на самом деле. И чтобы волчица могла смириться со своей участью быть изнасилованной… и как бы по закону, потому что в том отдалённом времени изнасилование в браке преступлением не считалось, а брак и был тем самым законным изнасилованием, каким он и остаётся до сих пор во многих (не указывая двумя пальцами) недоразвитых странах. И стала Мариночка, любимая внучка своей высокопоставленной бабушки, которой так и не удалось вылезти из гроба, чтобы девочку свою родную защитить, девчушечку, похожую уж до того на её сына, которому купила когда-то другую девочку в игрушки, – и стала Мариночка… ну как это сказать на приличном языке, и чтобы не споткнуться? И как назвать того барана, которого глав-волк дал ей в мужья? Как его назвать, чтоб не обознаться? Бараном в волчьей шкуре? Бараном с волчьими замашками? Или просто вонючим рабом, из которого рабская грязь, спрессованная веками, никакими господскими притираниями неотмываема?
…Есть такие очевидности, которые ну никак не рассмотреть, когда находишься с ними нос к носу. И что из своего неопределённо-возвышенного статуса некоей «воспитанницы» старой хозяйки Мариночку сбросили, сделав женою просто-раба без всяких «голубых» отголосков в крови, этого она просто не могла уразуметь, и ей не до того было, а надо было сочинить…
И прежде всего после первого изнасилования, отвернувшись к стене в той самой комнатёнке с этими неприятными тёмно-зелёными подвесками на окнах, надо было сочинить и обдумать способ, каким лучше… Нет, не убежать, потому что в таком состоянии её, беглую рабыню, не просто крепостную, а замужнюю и беременную к тому же, её бы никто в услужение не принял. А просто бежать на вокзал и дождаться поезда, не чтоб в него войти, а чтоб под него лечь. Других возможностей она не представляла себе в эту ночь и не знала о том, как её собственный отец попытался разок в проруби утопиться… вот этого она не знала совсем, и как из оврага, куда он бросился потом, его вытаскивали, окровавленного, наследника графини и старого графа… ей было невдомёк, и никто ей не поведал об этих попытках самоубийства в ответ на самое страшное несчастье в любви.
Но о проруби ей стало мечтаться вдруг, об этой чистой, как ей показалось вдруг, чистой, потому что ледяной, хрустальной воде. И что это была такая Чистота, которая звенела и позванивала всеми своими сосульками там, в глубине, и могла бы утолить её боль и в её опозоренное, грязное тело вонзиться своей чистотой непредставимой.
И она в эту прорубь вошла-таки. И если не в ту самую, в которой выкупался подростком за много лет до неё, в день её рождения, её отец, то в вырубленную неподалёку. Но никакая луна жёлтым пятном в ту ночь, в её первую брачную ночь, в этом чёрном колодце не отражалась, света вообще почти не было, только на горизонте над полем появилась полосочка, вроде как от заката бывает, а это была предвестница восхода уже в этот новый мрачный день после той ночи первого мерзкого позора, когда Мариночка решила, что в прорубь всё же лучше, чем под поезд, и кровавые кости свои ей не понравилось себе представлять, а вот внутренность того, что подо льдом творится, показалась ей заманчивой и красивой без всяких прикрас.
И лицом прикоснуться к чёрной воде.
Рассмотреть там пробегающие зайчики – отсветы от этого побелевшего над горизонтом всполоха, и потом погрузиться – и сразу схватилось лицо, и голова онемела, так что пролезть внутрь оказалось просто невозможно.
Так и осталась лежать лицом в ледяную воду, окаменевшая и превратившаяся в кусок льда ещё до того, как всем телом вошла в воду. Так и нашла её скотница, пробудившаяся от рёва и завывания коров и вышедшая посмотреть, в чём дело. Так коровы, добрые помощницы, спасли Мариночку от верной смерти. О чём тогда много разговоров было вокруг, пока Мариночка лежала в лихорадке и надеялась хоть так, через тяжкую болезнь, добиться желанной смерти, а её названный муж ходил с мрачной миной и упражнялся в воздержании, отложив свою месть барину до выздоровления жены.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.