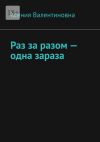Текст книги "Айсберг"
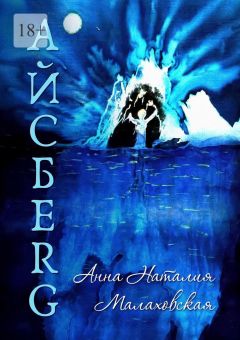
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
4 глава.
Табу
Фёдор, простой деревенский парень, каким он был на заре своей счастливой юности, и во сне не смог бы вообразить, что его «хороший барин» завёл шашни и не просто с какой-то воспитанницей своей матери, а со своей родной дочерью. Как такой восторженный почитатель святой троицы тех времён, СВОБОДЫ, РАВЕНСТВА И БРАТСТВА, мог бы опуститься до такой невообразимой низости и даже – да – до преступления? А что свобода, если её уж слишком ревностно использовать в своих целях, может и до абсолютного если не именно «братства», то до родства довести, до кровного родства, – нет, такое ему и в голову не могло бы прийти. Как бы граф его умственные способности ни восхвалял перед благосклонной публикой, перед которой распинаться ему было не лень, но вот до такого – прозрения – так попасть в самую точку своим неповоротливым от рождения умом – нет, такое этой «учёной обезьяне» графинчика было не по зубам, не под силу. И поэтому понять его озверение в тот момент совмещения воспоминания о графской спине с действительностью вполне возможно – если не принять как должное, то просто оценить как то, чем оно было, это прозрение наоборот, это ощущение, что его жена как-то ухитрялась обманывать его с графом и до самой своей смерти! И поэтому «ах ты барское отродье!» сорвалось с его уст – в этот момент – перед вспыхнувшей местью, сопровождавшейся гибелью доблестной табуретки. Взявшей на себя всю его боль и вспомнившей, может быть, в самый последний миг, как на ней когда-то покоились больные ноги барыни и особенно – как на неё присаживалась когда-то красивая девочка, барская внучка. От всей её жизни остался на лету этот самый звенящий момент – взгляд этих милых-милых глазок – и она соскользнула, вырываясь из рук Фёдора, она не захотела дотронуться и повредить нежный затылок Мариночкиного сыночка – да, для неё, для бывшей праздничной табуретки, превратившейся через миг в ворох опилок, этот почти взрослый уже юноша был всё ещё сыночком самой любимой внучки её первой хозяйки. Феденька он был для неё, для мёртвой как будто бы вещи, но впитавшей в себя все протекавшие в её присутствии и взгляды, и слова, и притяжения настоящей любви, а не сумрачной дикой страсти. И вот в этот самый решительный момент она не сплоховала, и удар расплавленного в своём безумии зверя пришёлся только по плечу. Эта позолотой украшенная ножка предмета мебели выскользнула из правой руки – из той лапищи воскресшего и вспыхнувшего в Фёдоре зверя – и Фёдор первый увидел только всполох разорившихся осколков дерева и даже не усёк, что происходит и что табуретку свою любимую он доконал вместо того, чтобы доконать своего единственного оставшегося на земле потомка.
Да, табуретка решила по-своему, и не на череп Феденьки нацелилась, а мимо уха пролетела и раскололась о плечо, о то самое, из-под рубашки проглянувшее…
И это плечо будут ремонтировать – не совсем это, но ремонтировать будут. Через несколько поколений это плечо, разбитое ударом предмета мебели, будут доставать из промежутка… вот из этой кровавой полости достанут его щебечущие осколки и станут какое-то не совсем костяное устройство в эту пропасть вставлять умелые руки хирургов. И дай бог, чтобы хорошо всё это обошлось, а о красной табуреточке никто и не вспомнит, о той героине, что пожертвовала собой, чтоб жизнь сохранить одному из моих предков со слишком нежной для крестьянина кожей. Табуреточка, словно бы на все свои четыре лапки присевшая, тёмным бархатом взблеснувшая, словно бы приготовившись к верному прыжку.
Вот кто-то подбирается к тебе, чтобы сзади, со спины, ошеломить, и никто не удивляется, что барская расписная табуретка превратилась в простой деревянный стул: стульчик для людей детского возраста. А почему такой небольшого роста стул в этой комнате затесался? А это значит, что человечек подходящего для стула размера в этих покоях находился и за экзекуцией с высоты своих восьми лет наблюдал. И как его любимый стульчик вдребезги разлетелся, а перед этим раздробил что-то, во что ударял, и это было как всполох крыл, это мгновенное превращение стульчика в обломки, вспорхнувшие в воздух, и это было, может быть, красиво, а для кого-то это было, может быть, страшно. Для того, кого выбрали, как наковальню для этого молота, наверняка было и больно, и страшно, но и в самую первую очередь это было ведь удивительно, что бьют, что кто-то бьёт, да ещё так с размаху, и за что – за слёзы, с криком: «Ты не имеешь права плакать!» А потом со стороны родственников, которым поверить в такое злодейство непомерное не захотелось, одни только хиханьки и хаханьки: «Ну как же! Вот ещё что придумала!.. Да кто бы стал об неё этот стул разбивать, подкравшись сзади, и с какой это стати, и кто бы смог, вообще-то, постановить, что за слёзы следует бить: что за выдумки?»
А через много лет – воспаление плеча, уколы кортизолом внутрь сустава и – конец. И плечо разбилось в такое же месиво осколков, как этот почти фейерверк, который устроил стульчик во время своего непредставимого удара – вдребезги. Как вспышка над головой – но только под покровом кожи никто этот праздничный салют разглядеть не смог, не заметил.
5 глава.
Как лоскут, которым рот затыкают
Розвита
Каждый сидит перед своим айсбергом и пытается заглянуть ему в глаза, но у меня мой айсберг был особенно глубоко погружён в воду, и от него высовывалось над водами забвения и ничего-не-знания одна малюсенькая верхушечка, такая скромная в своей неприкаянности – это я сама, и ещё та обшитая кружевами шёлковая подушечка, на которой я во младенчестве, как мне говорили, сидела в какой-то плетёной корзине и звала свою собственную родную маму на том языке, который был когда-то для меня родным, но потом он стал для меня незнакомым, и я забыла его начисто, и к тому времени, когда я научилась говорить правильно и рассчитывать свои силы, у меня на устах уже был чужой язык: ты это понимаешь, этот чужой язык – как тряпка во рту, как кусок синей грязной тряпки – лоскут, которым тебе рот затыкают, и ты никогда не узнаешь того языка, которым говорили твои родители, потому что и самих родителей след простыл, и ты начинаешь оформлять свои мысли в том наречии, которым переговариваются все вокруг, перебрасываются словами, как перчатками или как блестящими плошками, а ты сиди и слушай, пока ходишь своими ногами, а на самом деле крохотулями-ножками в обшитых кружевами панталончиках, и ходишь под стол, потому что там много интересного, и можно построить свой мир с лоскутками и чемоданчиками, и отгородиться хоть на время от всего прочего внешнего мира. И вот там я назначила одну куклу, самую роскошную, и с шелковистыми волосами и с немного удивлёнными глазами, да, я её назначила в мамы и так играла, как будто я – бог для этой игрушечной мамы и ею распоряжаюсь и запрещаю ей отказываться от родных детей, а детей у неё было видимо-невидимо, и я ей каждый день сотворяла всё новых и новых, из картофелин чаще всего их вырезала и сочиняла всё новые и новые подробности о том, как она их всех выкормила и вырастила и не отказалась ни от одного, и вот после целого дня такой подстольной работы я и сама уже забывала, кто я такая на самом деле, и только по вечерам иногда плакала, что на самом-то деле моя родная и настоящая мама просто выкинула меня, как на помойку, и если в этой корзине с кружевной подушкой, то это всё равно, и свои кружевные рубашечки и панталончики той поры иногда разбирала и пыталась разгадать, кто же такая она была, моя настоящая и родная.
А когда подросла так, что под стол уже было не пройти, и меня по воскресеньям брали с собой на рынок, я замирала от встреч порой с какими-то женщинами на улице, когда мне казалось, что на меня особенно пристально глядели чьи-то глаза.
6 глава.
Мужицкая твоя морда
Фёдор Фёдорович
Немочка она у меня – или кто? Откуда такая взялась – в доме богатых немцев выросла, но ведь сама-то – не немка и не сестра всем этим своим сёстрам приёмным. И правда ли, что её в кружевах возле двери немецкого дома подобрали? Об этом – молчок. И в какой толпе я её в первый раз разглядел? Выходила из церкви, не из настоящей нашей католической, а как там у них называется, у лютеран – по-другому как-то называется. И задела она меня чем-то: её взгляд, не такой, как у всех. Это бедненькое бледное личико, сурово сведённые брови – видно, несладко жилось ей у немцев, неродной-то дочери!
Вот так прошмыгнула она мимо меня и сгинула в толпе, а я заприметил… нет, на мамку мою она совсем не похожа – беленькая, в чёрном капоре, куда-то спешила. И какая муха меня укусила, не знаю, только пошёл я за ней. Чтоб выяснить, где живёт. И входит она вот в этот домище, богато построенный, из тёмного кирпича, в два этажа и с пристройкой наверху. А я стою как дурак и не знаю, как войти, с кем и о чём там заговорить. Когда кучер у дверей появился, перебросился я с ним парой слов и выяснил, что нет, не служанкой она тут приходится, но и не родной дочерью господам, а так, приживалка или вроде того, на незавидной доле.
И зачем я попёрся в эту широко раскрытую дверь, которая не для меня ведь раскрывалась, но я в неё вошёл, а барыня какая-то с перстнями на пальцах как на меня цыкнет:
– А ты куда прёшь, мужицкая твоя морда?!
И я не растерялся тут – почему-то. Мужицкой морды не стерпел, и показать ей захотелось, вот так, покуражиться над нею, что и мы, мол, не лыком шиты.
– Жениться пришёл, – говорю. – Сватов хочу прислать, а сначала вашего соизволения на этот брак получить желаю.
Вот тут у неё челюсть и отвисла. И я вроде бы даже вставные зубы там, в промежутке, рассмотреть успел, как она тут же водворила свою челюсть на место и позвала кого-то, управляющего своего или кого-то из прислуги – выяснить, кто я такой и на ком жениться собираюсь.
И привели её, ополоумевшую от неожиданности. Говорит, что не видела меня нигде и ни в какие сношения вообще ни с кем никогда не вступала. А сама глазом косит на меня: кто такой? И как посмел… вообще… как осмелился на неё покуситься????…
Тут она мне ещё больше понравилась. И я уж точно решил – не отступлюсь. А барыня, немка эта, с перстнями которая, видно, и сама была рада-радёхонька от приёмной дочери избавиться.
– Кто другой тебя замуж возьмёт? Ты что, решила весь век в старых девах просидеть? У нас на шее висеть собираешься? – такие вот крики слышались из-за дверей, а её возражения из-за стены не просачивались, уж очень тихим голосом она что-то там вякала. Как вдруг слышу:
– Но я ведь его не знаю! – и с рыданием в голосе.
– Не знаешь, так узнаешь! Я тебя не тороплю! Наговоришься, успеешь!
И выволокли её ко мне, а она вся дрожит и слова вымолвить не может. Вот тут-то я её как следует и рассмотрел.
И понял, что начну ту же самую игру, что с мамкой моей недоиграл. И про ветку черёмухи вспомнил. И про ту конфетку, что подарил однажды своей ненаглядной. С мамкой взгляда доброго не добился, а вот с этой – добьюсь. Из кожи вон вылезу, а добьюсь.
Нет, такой красавицы, как моя мамка была, не нашёл. Но и доброты той, мамкою мне недоданной, получить не удалось. Хоть и дом свой удалось купить, не хоромы, но всё же и не квартирку какую-нибудь завалящую, – держи выше – Свой! Дом! В столице, напротив завода, на берегу Невы.
Но очи свои прищуривала и мимо меня проходила, пронося по коридору кастрюлю с супом. Нет, не кастрюлю, нет! Фарфоровую, видите ли, супницу, как в том доме заведено было, где она выросла, у немцев толстожопых.
И фрю из себя изображает. Сынов мне народила и дочек, а сама барыню из себя строит. И то ей не так, и другое не этак. Доброго слова от неё не дождёшься. Все словечки свои добрые и взгляды золотистые она детям расточает, и улыбочки, и щелчки, такие лёгонькие, как ко мне в детстве и не прикасались. Знала бы она, как меня батька ремнём драл – так что потом я и присесть не мог на то место, на котором все сидят.
Нет, моим детям всё то досталось, о чём я всё детство безуспешно мечтал – и материнская забота, и нежность во взоре, и все похвалы, и такие словеса, каких я сроду не слыхивал. А бить не давала. Только, бывало, сдеру с себя ремень – как тут же пацан заорёт, и мамка с кухни – шасть, рук не умыла, как за мясо хваталась, так теми же самыми руками, пальцами красными, в крови, за мои руки хваталась и кричала:
– Феденька, не бей Володечку!
Вот уже и Феденькой для неё становился. В такие только моменты.
То ли крови свинячьей на её руках испугавшись тогда был, то ли именем моим, с ласкою проговоренным, ранила она меня – а ремень сам у меня из руки вывалился.
И шуточки мои ей не нравились. Такие простые деревенские шуточки, ну просто чтоб посмеяться. Вот, например, муху из супа красавица моя дочка достала, я и говорю резонно, – оближи, мол, – и красоточка вскакивает и убегает, а жена такое личико корчит, будто бы я и бог знает что сказал.
– Зачем ты их унижаешь? – спрашивает.
А сынок-то, старший который, весь в мамку свою – не в мою (в мою дочка старшая пошла, Елизавета) – так вот этот старший глядит и словно гвозди в меня вбивает. Ну что я такого сказал, чтоб уж так-то со мной? И в деревне ещё не так… а мой батька-то и вовсе…
– А ты не в деревне теперь живёшь, – проворчала она в ответ. Да уж – не в деревне! Не могу распоясаться по-настоящему, как мой батька себе позволял. И тоже ведь кого-то из себя изображаю – начальника. Это на заводе. Рабочими командую. А дома больно не накомандуешься. Не раскомандуешься. Кто я такой? Разве не я – глава семьи? А кто деньги в дом приносит, кто кормит вас всех, господа распрекрасные? Мамка кормит, говорите? А на какие шиши она все эти разносолы покупает, чтобы вам обеды приготовить?
В конце XX века воспоминание про Фёдора Фёдоровича выползает на поверхность ещё раз, уже на самую сухую поверхность, очистившуюся от каких бы то ни было наростов подводного льда. Маленькая девочка с модным в ту пору именем Анастасия решила разузнать, почему её дедушка (родившийся в 1921 году) не пьёт, не курит и не ругается матом. Душераздирающие подробности о том, как этого мальчика отучали от курения и от мата, оставим на потом – пусть они вспыхнут на страницах, посвящённых началу тридцатых годов прошлого столетия. Но сочинение о том, как это получилось, что дед весёлой девочки Насти не стал пьяницей, поставим сюда: в конец повествования про Фёдора Фёдоровича.
ПОЧЕМУ МОЙ ДЕДУШКА НЕ ПЬЁТ?
Когда моему дедушке было восемь лет, он поехал справлять Новый год к своим бабушке и дедушке, т.е. к моим прапрабабушке и прапрадедушке, которые жили на Петроградской стороне. Там за столом, когда дедушкин дедушка Фёдор стал наливать всем водку, он налил водку и своему восьмилетнему внуку. Тогда тёти моего дедушки в ужасе закричали: «Не надо! Не надо!» В ответ на это Фёдор сказал: «Ничего, пусть попробует».
Мой дедушка с удовольствием со всеми почокался, все поднесли рюмки ко рту, и он тоже… Конечно, дедушка знал, что водка горькая, но насколько она горькая, он не знал. Он сделал глоток… захлебнулся… слёзы из глаз… Это было очень неприятно!!! С тех пор мой дедушка никогда больше не пил водку. Даже много лет спустя, когда на фронте зимой выдавали паёк (сто грамм водки), он отдавал свою порцию товарищам.
7 глава.
Кто был ничем
НА ТРЕТЬЕМ ЭТАЖЕ
Владимир Фёдорович
Да, надо понимать, когда живёшь в этом безвыходном, после такого детства, снабжённого пошлыми высказываниями и грязным хохотом папаши, который бьёт себя в грудь волосатым кулаком и орёт:
– Я глава семьи, а ты тут кто? – и мать слова пикнуть не смеет, а то огреет и её по башке – вот этот способ, кулаком прямо по макушке, чтобы всё сотряслось внутри, а силы немеряные, крестьянские ещё, и шутки грязные подзаборные, словно в дерьме вывалявшиеся, и сёстры должны это ничтожество тихонько, глаза потупив, слушать, а то и им достанется. И как рассуждает, как разливается, а возразить не смей. И мать со своим: «Ну ведь всё у нас есть, даже и дом свой есть», – а куда деваться-то? Во всём городе ни одного из родных, все родные – там и пооставались, откуда они, родители, родом, и, наверное, всё ещё в грязи валяются. А мы – не такие, мы, дети, мои сёстры и брат, мы как штучки городские, и нам свободы как воздуха – не глотнуть, не прожевать, как кусок хлеба, только это мёртвое подчинение: на улице – городовым, на заводе – начальникам, и давят, как клопов каких-то или тараканов, одними взглядами из-под папахи они меня просто давят, они и Лизочку, и Лёню тоже давят, да они ведь всех давят, даже и совсем крошку Люсю, чтоб с места сдвинуться не могла, не поиграть, как ребёнку положено, всё по струнке ходила, как тень какая-то подземельная, словно бы уже умерла или ещё не родилась – а что, разве с нами, со старшими, по-другому было, когда мы только ходить учились? Что, и на нас он не рявкал, этот деспот, этот тиран самоназванный, который отцом называется? ЦАРЯ ТОЖЕ БАТЮШКОЙ НАЗЫВАЮТ. И Бога тоже величают – Отче наш. Да пошёл он, знаешь, куда? Это Он всё так обустроил, чтобы надо всеми детьми, и подростками, и взрослыми тоже тяжёлая пелена провисла, как серое покрывало, что на отцовской кровати, где он давно уже спит один и курит по ночам со своей Библией в обнимку. Потому и нужна ему эта Библия как закон Божий, потому что в ней объясняется, как всех нас давить надо, как тараканов или других неладных животных, как всякую живность – прихлопнуть. Или ногой раздавить. Так и нас. И где мне ещё вздохнуть, чтобы никакие глаза нахрапистые и звуки его голоса отвратного на меня не давили? Они все как в матрёшке, эти отцы: в «Отче нашем» сидит царь, тоже батюшка отвратный – ну разве я забуду, как стреляли его сволочи по нам, по ребятам, забравшимся на деревья в саду у Дворцовой площади? А когда я дома рассказал об этом расстреле, так мой отец вместо того, чтоб ужаснуться, меня же и выдрал ещё! Приговаривая:
– А ты не лезь куда не следует!
Думал, что отпугнул меня? Да он же сам всем своим поведением и показал мне, как мизерна его власть надо мной, потому что ничего в ней, в этой власти, хорошего для меня нет – вот у матери для меня всё хорошее, вот она меня от разъярённого отца прямо из рук вытаскивала, когда уже один раз он в кровь меня избил, она меня спасла от расправы, но ведь это надо совсем ничего не иметь в голове, ну пустышку вместо головы себе на шею присобачить, чтобы не замечать, что вся эта ихняя власть – тьфу, раз плюнуть! Что она никому не нужна, к чёртовой матери! Что это они тут расселись, у нас на головах поместились, с боженькой добреньким во главе всего этого позолоченного безобразия, когда поп недоё.*.ный вручает отцу моему стоеросовому власть и силу бить меня, избивать из меня всю мою душу.
Расплачиваться! За всё причинённое и мне, и Лизоньке, и Сене, и самой маленькой – Люсеньке, получишь ты – негодяй, сволочь – и тот, кто посылал тебя, голубчик, тот, кто ружья солдат на нас наставлял – все вы расплатитесь с Богом вашим проклятым во главе! Мы свой, мы новый мир построим, не чета вашему миру, в котором уже просто дышать нечем. И кто был ничем – вот как Люсенька, беленькая, я прямо боюсь, что он её насмерть однажды прибьёт, как меня уже однажды убить попытался… Только мамочка моя меня спасла, она из рук его окровавленных меня вытаскивала, уговаривала его по-хорошему, и он как-то осел тогда, и плётку свою из рук выронил… молодец моя мамочка – только б она успела вовремя уследить, чтоб он и нашу самую младшенькую насмерть не прибил! Это самое я и шепнул ей на ухо – смотри за Люсей, ей много не надо, чтоб под его кулаками на тот свет отправиться – это я ей и шепнул, отправляясь в тот день – навсегда – на волю! От них ото всех, от их на брюхе ползающего рабства, руку избивающую целующего.
8 глава.
Чего же тебе не хватает?
1911
Розвита
Вот ты представь себе, что ты живёшь и говоришь каждый день много слов, и детям ведь, и внукам, а от всего тобою сказанного останется всего два слова, невпопад сказанные и неизвестно как и кем перевранные, и для красоты или для каких-то других целей, политических, чтобы самих себя похвалить или приукрасить. И никто уже потом не сможет померить эти слова на себя, как рваный кафтан. Что я будто бы отговаривала своего сына старшего и самого любимого не уходить в так называемое «подполье». Это уж потом это стало так красиво называться, что он ушёл, когда ему было и всего-то шестнадцать годков отроду, в так называемое подполье. Это как понимать прикажете? Что в щель какую-то залез он, что ли, чтобы готовить вместе со своими друзьями-товарищами эту заварушку, эту революцию проклятую, погубившую всех из его шайки и под конец и его самого затянувшую в эту чёрную воронку – и до дна? Да, вот именно так я ему и сказала, отпуская тогда, на пороге, в недобрый путь:
– Сыночек, ну куда ты, к этим бандитам, собрался, ведь всё же у нас есть, и дом свой, и работа на заводе хорошая, чего же тебе не хватает?
А он ответил, будто бы и гордо так ответил:
– Свободы!
А на самом деле он ответил, и это я твёрдо помню:
– Береги девчонку, самую младшую, а не то ведь он, сука проклятая, забьёт её до смерти!
Вот так и выразился, некрасивыми такими словами. А что он про свободу тогда сказал, так это неправда. Хоть, может, и думал так, и даже наверняка не хватало ему свободы в нашем житье-бытье, но так прямо высказаться он бы не решился… постеснялся бы, что ли, так уж слишком красиво душу свою напоказ выставлять!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.