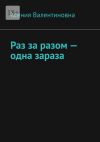Текст книги "Айсберг"
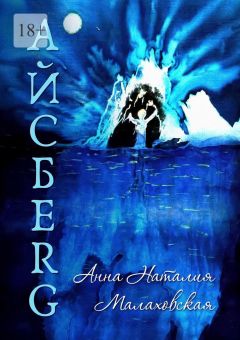
Автор книги: Анна-Наталия Малаховская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
28 глава.
Могила матери
Никанор
…И если первая от драгоценностей отказывалась и просила: «А купи ты мне мою родную матушку», то вторая ни от каких сверкающих подарков отказываться не могла, потому что никакой родимой матушки у неё и в природе не было, и с самого первого дня её существования на земле никакая матушка – родная – к ней не приближалась, а потому жила она в неведении и не понимала, почему на неё все поглядывают с сожалением и как-то отводят глаза, когда она бежит к ним навстречу и хочет обнять. Одна только старая старушка её не отталкивала в такие минуты, а прижимала к душе, и тогда всё становилось на свои места, тогда всё было хорошо, и казалось, что почва под ногами есть и можно жить дальше. И было ей невдомёк, что седые волосы на голове предвещают смерть и что никакие волшебные побрякушки в ушах эту смерть не отсрочат. И что та радость, с которой встречала её эта повелительная старуха, которую всем было приказано слушаться, уйдёт вместе с нею в песок, в ту могилу, в которую её закопают. И останется Мариночка одна и без всякой поддержки и помощи, без улыбки по утрам, потому что и ту кормилицу, которая её обхаживала в раннем её младенчестве, давно куда-то услали, и ей не сказали, куда.
И вот однажды поутру другая старуха, и не сгорбленная, а размашистая и без совсем уж белых волос на голове, а с повязкой беловатого цвета в мёртвых кудрях, встретила её на пороге, и нарочно встретила, не просто так, случайно столкнулась, прошагивая по двору по своим насущным заботам, чтоб то ли стол накрыть, то ли чтоб скоту корм задать.
– Пошли! – сказала она строго – промолвила одно только это слово, и девочка не посмела её ослушаться. И они вышли со двора на ту дорогу, что вела от дома прямо в лес – широкая была дорога и жёлтая от посыпанного поверх земли яркого песка. Как только дорога до леса дошла, старуха показала ей, что надо идти теперь направо. И так они пошли в лес, пробираясь по кочкам, и наконец вышли к оврагу. По краю они обошли этот овраг: старуха впереди, девочка позади.
– Нарви цветов! – велела страшная старуха, потому что тут росли и одуванчики, и ромашки, и один захудалый цветок мака девочка тоже обнаружила и сорвала.
– Теперь гляди – вон там, – и старуха показала на какое-то лысое, как показалось ребёнку, место на гребне овражьего склона. Там почему-то даже и сама трава не хотела расти, и оно было как лысина старика с выдающимися хилыми волосками, почти прозрачными. – Вон туда иди – видишь бугорок?
Девочка подняла голову и взглянула на старуху, но спросить не решилась, потому что в лице у этой старой женщины в этот миг проснулось что-то очень непонятное, словно катакомбы какие-то явились, пропасти, из которых взглянула она вдруг на девочку, а в глазах огонёк нехороший вдруг просиял и скрылся, мелькнул, проблеснул, озаряя что-то такое, на что ни за что не хотелось смотреть и от чего захотелось убежать подальше, и если сквозь заросли крапивы, так пусть искусает и обожжёт, только бы прочь.
Но всё в ней онемело, стало как мёртвое и не могло сдвинуться с места, а старуха больно схватила её за руку и сказала теперь уже совсем другим голосом слова, которые девочка не знала, как понимать:
– Это и есть, – сказала она, – могила твоей матери. Сюда и будешь цветы приносить, если что. И свечки ставить. Место запомнила?
29 глава.
Как бабушка превратилась в волка
Марина
Сказка о том, как бабушка превратилась в волка. Может быть, не совсем бабушка и не совсем в волка, но превращение состоялось. И почему я именно про волка подумала, и видала ли я его там, в лесу, где порой из-за ветвей словно бы просовывалась чья-то морда – но потом, чуток поразмыслив, она отворачивалась от меня, и обладатель этой самой морды уходил, свесив голову и как будто бормоча про себя невнятные слова?
Наскок – вот чего я ожидала бы от волка, и вроде бы так и произошло: уже после всего того, что обрушилось на меня нежданно-негаданно, когда исчезла та добрая старая женщина, так ласково обнимавшая меня, когда я бежала к ней навстречу, и пряталась у неё на груди – и слушала, как стукает что-то под её нарядными кружевами и платочками, там, под золотыми ожерельями, там было оно, то самое, что и было мне нужно тогда – та тихая пристань, то место, куда можно ступить ногой и не споткнуться. Но о том, что она была мне настоящей родной бабушкой, – об этом она мне так и не сказала до самой своей смерти, и я это начала предчувствовать только во время похорон, когда кто-то подтолкнул меня, восьмилетку, вперёд и промолвилось – промчалось – пробурчалось что-то о том, что кровная родня не приехала, не успела из-за ураганов и бурь. А вот кровная тут нашлась – и священник на меня как-то косо поглядел и выдвинул меня, заплаканную – вперёд. Розу положить на гроб моей, значит, бабушки?
Я сама не своя была от слёз, и это другое обращение окружающих со мною не восприняла как что-то, обещающее хоть малейшее облегчение моей нестерпимой утраты – в восемь лет остаться совсем чужой среди чужих!
И вдруг – прозвенели колокольчики под окнами: это было уже на другой день после похорон, и все высокие зеркала в зале были завешены чёрными траурными платками – вдруг как будто вихрь доброты, тепла и света пронёсся и влетел в мёртвое помещение, и слуги засновали, бокальчики зазвенели, забренчали, и поднялась такая суматоха, словно не день смерти, а именины собрались справлять. И в дверь вошёл… ну как его описать – нет, не вошёл, а вбежал, и ворвался, и схватил меня на руки, и подхватил, и закружил. И был он на кого-то похож как будто, и почти такой же и добрый, и родной, как бабушка для меня была, и пахло от него какими-то духами, и на груди какие-то бляшки блистали, но очень уж он мне кого-то напоминал, и мне показалось, что я видела такой портрет у дорогой моей покойной на столе, у кровати, но тот был мальчик, малыш ещё, а этот был взрослый совсем, и его щёки небритые чуть-чуть кололись, когда он меня целовал, а почему он меня целовал, и что всё это значит? Бабушка превратилась – хотя я только вчера об этом узнала, что она и была моя настоящая родная бабушка, но она вот действительно теперь превратилась – в кого-то, о котором я только много лет спустя узнала, что это и был настоящий, хотя и не лесной, но всё-таки всё равно настоящий – волк.
На шестом этаже:
1858—1863
Скерцо.
Полубаран
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Барин, отец Марины – шестое поколение
Марина, дочь Аксиньи и барина – пятое поколение
Фёдор, крепостной барина – пятое поколение
От составительницы
Корень зла
Июль 2017
Однажды, проходя по узкой тропе на втором «этаже» моего любимого леса, я заметила справа, над краем пропасти, уходящей вниз, какие-то выпрыгивающие из-под земли залихватские переплетения. Вокруг застарелого пня дрались в воздухе эти лихие руки и ноги: исподнее корней. А под этим пнём я обнаружила странное лицо, впечатавшееся в остатки обглоданной временем коры.
На другой день я принесла приспособления для рисования и рисовала этот странный корень два часа, стоя на сквозняке (на этой тропе всегда – неостывающий ветер, веющий вдоль холма). И ничего не вышло: не удалось передать ни удаль дерущихся, ни затаённое негодование скрытного подпольного лика. И так – пять раз.
И только пятый эскиз меня удовлетворил наконец. Получившуюся по этому эскизу картину из глины и песка я назвала «Корень зла». Зло было не только и не столько в тех дерущихся побегах справа, сколько в запечатанном и не желающем выходить из своего мошенничества и негодяйства лице слева. Он думал, что он точно знает всю абсолютную истину насквозь, вдоль и поперёк, и был уверен в своём «праве» брать всё, что есть на свете, и присваивать себе – вот в этом Корень зла. Вот он:

Картина Анны-Наталии Малаховской «Корень зла»
Отголоски этого зловещего корня почудились мне, когда через два года после рисования в лесу я прочла вот эти страницы.
1 глава.
Учёная обезьяна
Фёдор Макарович
1858
Видал я таких красавчиков! Даже и среди наших был один такой, с мордой ничего себе. Но почему-то не на него барин указал своим перстом с переливчатым драгоценным каким-то там камнем, а почему-то указал именно на меня, хотя во мне ни кожи ни рожи, таким уж мать родила, а от кого? Батя вроде тоже ничем таким распрекрасным на лице не блистал, морда как морда. Два глаза и нос посредине, борода в себе то самое запрятывает, куда хлеб суём. Мамашка тоже так себе была, ну разве что не уродка. А бабок и дедьёв сроду никто у нас и не видывал, вон и мамка раньше времени померла, о батьке что и говорить, под спудом опрокинувшегося на него воза с сеном сгинул, ему артерию какую-то там перешибло, по выражению нашего господина хорошего. А что в нём, в этом господине, такого уж особенно хорошего, это его дружки поганые знают, когда по вечерам в наших залах собираются и что-то там про Кон-ституцию (а кто её знает, кто она такая) выкрикивают. Стало быть, дама заметная, если так громко про неё кричат! Наверняка не крепостная, а барыня какая-нибудь, княгиня или графиня, а может, и королева, кто её разберёт, но имя у неё не христианское, это точно. Барин наш хороший грамоте нас научил, чтобы мы, значит, Библию читали, а не были как нехристи. Ну читал я Библию, ни про какую там Конституцию ни слова не вычитал и изумился очень, когда однажды – ещё до вышеназванного события с драгоценным перстом – взгляд этого барина, на меня направленный, приметил.
Какой изнеженный господинчик наш, ну это просто диво, совсем как будто и не мужик, то есть что-то от мужчинского обличия в нём будто бы и осталось, но это ведь совсем чуть-чуть. В ваше время это принято называть транс-гендер, а в наше времечко никак не называлось. Всем уже и без того было ясно, что барин от мужика отличается, да ещё как. И баре все, кто к нашему-то по воскресеньям съезжались, на дам смахивали, кто больше, кто меньше, только уж наш-то и среди них блистал, и не только драгоценными каменьями, а прежде всего тем, как ладно у него всё на лице и на всём прочем присобачено было. Ходил и ловко тросточкой помахивал. Не ходил, а летал. Молоденький ещё был.
И поначалу мне показалось, что хотя барин мужику не пара, а наш барин – тем более, а на меня он будто бы как-то ласковее, что ли, стал поглядывать. И к себе в хоромы приглашать, и со мной всякие вопросики обговаривать, вот что ты думаешь, Фёдор Макарович, про оброк, не лучше ли, чем барщина, и всё такие каверзные вопросищи ставил, я уж и не знал, что ответить, но никакого плохого умысла в том не заметил. Думал, развлекается барчонок, паренёк, а меня как игрушку для развлечения выбрал. Чтобы я к его столу блюда тяжёлые своими руками подносил – а что, это и есть его право – нам работы разные намечать. И раздавать. Никакого арбайтсамта, никто без работы не просиживал, а кому вилами навоз в стойле выгребать, а кому в белых перчатках барскую пищу к столу подносить – это ему виднее. На это он право имеет. Ни на что другое, а на это вот – да, его заслуга, что я и пищи с барского стола причастился, и мыться, как он, приучился – это после того, как в детстве и в лужах барахтался, и на грязных палках скакал за неимением игрушечных лошадок, но тут превзошёл самого себя. И чистые рубашки с барского плеча стали мне отдавать – где хоть одна пуговичка оторвётся – Фёдору Макаровичу. То есть мне. А пуговку ту оторвавшуюся кто-то и пришьёт назад, на место. А кто это и пришьёт? Кто же, как не она, та самая, о которой я всё время речь и веду, не упоминая ни словом? Не задевая, так сказать, и именем не обижая?
И она обиталась в барских покоях, и она была, как и я стал, таким промежуточным созданием – как я стал чем-то средним между барином и мужиком, так и она была чем-то средним между барыней и бабой. Я-то знал, что от рождения она вроде бы в бабу должна была бы превратиться, но этого с ней не случилось – она жила на положении так называемой воспитанницы в барском жилье и следила не только за пришиванием пуговиц к барскому белью. В кружавчиках вся. Порхала.
Имени её я ни за что не выдам! Поклялся ей перед смертью. Анисья там или Алёна – а какая разница, спросите? А очень большая разница. В имени-то вся и суть. А вы этого до сих пор не замечали? Людмилой назовёшь – вот и будет она людям – милой, а будет ли милой собственному брату – ещё большой вопрос. И тяжёлый. Вопрос. Если ножом под дых – то ничего и не поделаешь, и будут о ней плакать те, кому она милой была, а брат о себе самом плакать будет, а не о том, что сестрицу Алёнушку так до смерти приголубил.
Неназванная была, по комнатам порхала, работёнку свою, лёгонькую как она сама, выполняла играючи. Ну что тут ещё прибавить? Что самое главное я заметил, может быть, и вообще после всего случившегося? Что из грязи меня наш барин вытащил не случайно. А вы уж и уши растопырили, не терпится вам услышать – из первых рук узнать – что и в позапрошлом веке бывали такие «содомитские взаимоотношения», как наш ксёндз выразился, Содом – то есть это город такой был, и там мужики мужиков в жёны брали, ха-ха, и на меня выразительно так посмотрел… неужели и вправду поверил, что и я – такой, что и меня господин из грязи в князи поставил, чтобы наслаждаться… не скажу чем… уж очень неприлично это… но что господин в меня мог влюбиться? В меня? Да во что там влюбляться? А что выбрал он меня – об этом – молчок. А для чего выбрал? Да неужели для того, чтобы со мной идеи свои бредовые обсуждать? Что, ему разговоров со своими приятелями-барчатами не хватало? Чтобы поленьев в их споры подкидывать, хотел он будто бы у самых, так сказать, корней народных поленья эти подбирать.
Не поверю я в эту шутку! И почему именно меня выбрал, конечно, не пойму. Что касается морды, то и другие были – вон Гришка с морды вроде поприветливее. Но что ясно – что среди крепостных ему надо было выбирать. Среди его собственных слуг. Не среди чужих. Или прикупить у соседей какого-нибудь красавца. Но тут наш барин раскошелиться не захотел, или и среди соседских парней нужного не обнаружилось – не могу сказать. Или и вправду ему мои неуклюжие ответы на его вопросики понравились – так уж угодили, что он меня в камердинеры произвёл, чтоб в чистых залах ко мне с этими вопросиками приставать, а не в грязный двор спускаться за мужиковыми ответами?
Это я так теперь говорю – отсюда, куда я теперь угодил и где за пару сотен лет обжился, вся эта ситуация виднее выглядит. А тогда – ну дурень как дурень, ведь никто оглядываться не учил – тогда и на самом деле по молодости поверил, что ему мои ответы на эти самые вопросы ох как понравились, и что полюбил он меня за мой… ум? Страшно сказать, за мой – ум? Что ответы мои, неуклюжие на вид, по словам употребляемым, по сути, были ничего себе, что и его на новые мысли наводили… И барин обходился с нами, как будто все мы – друзья, одна – весёлая красотка, так сказать, а другой вроде как умник (не верьте таким словам!).
И недолго это времечко продлилось. Вроде как год или немного больше. Помню ещё при свечах такое событие: в полутёмном зале, на стенах ковры, наш барин меня к себе призывает, а там отовсюду его товарищи-барчата пялятся, а он:
– Вот послушайте, что мой камердинер Фёдор Макарович вам на это ответит!
2 глава.
Полубаран
«Сколько бы баран ни насиловал волчицу, а никакого полубарана в результате не получится», – вот такой аргумент, высказанный крепостным графа такого-то в доказательство того утверждения, что все люди равны от природы, очень развеселил барчуков и барчат, собравшихся тогда в помещении, в том самом, где отблески множества свечей бродили по стенам, покрытым тёмными коврами. А справа от входа там был и камин, и кто-то за пламенем, озарявшим и пол, и стены в том помещении, должен был следить. Не должен, а должна: и помешивать кочергой, и подкладывать дрова: так что не у дверей она подслушивала, о чём говорили в парадном зале, эта Неназванная – эта внучка того самого сапожника без сапог; без сапог-то без сапог, а зато в лаптях, сотканных как надо. Но вот внучка его перед камином: дочь белокурой Аксиньи, той девочки ещё, кудри которой сияли как солнце на заре её жизни; той самой её жизни, у которой, кроме зари, и вообще ничего не оказалось. И, может быть, со временем эти кудри потеряли бы свой волшебный блеск и потемнели бы, как у огромного большинства народонаселения светлые волосы темнеют с возрастом, но никакого такого возраста ей не дано было пережить, а всё, что в её жизни было, закончилось внезапно и не в срок, и потому предупредить свою дочь Марину, размешивающую сейчас догорающие угли в этом расписном камине в барском доме, она бы не смогла. И выскочить из-под земли, чтобы заткнуть рот этому барскому холую, что разливается тут соловьём про это непредставимое изнасилование.
И кто-то из них, из этих барчат и барчуков, расхохотался:
– А ведь и правда не получится никакого полубарана! – а у других уши так и остались в развешенном состоянии, до того поразительным показался им этот аргумент в защиту той простейшей, как амёба, идейки о том, что именно так можно доказать равенство всех людей – не перед Богом и тем более не перед законом, но законы что, их можно и перевернуть, а с Богом мы… разделаемся когда-нибудь потом, а вы вот послушайте, ЧТО мой крепостной вам скажет, и какой там раб, он мой товарищ хороший, он позволяет мне выкапывать искры народной мудрости из самых, так сказать, глубоких природных корней, и вы посмотрите, как я его нарядил, ну кто в нём дремучего крестьянина узнает, – сына того самого раба, который вытащил меня однажды из проруби… а зачем я в прорубь тогда метнулся угодить, почему жить расхотелось? Вот стоит она, дочь той самой Аксиньи светлоокой, и кто бы мог поверить, что от беловолосой такая родится, с тёмными, как у меня, кудрями? Да, как у меня, потому что сколько бы баран ни насиловал волчицу, толку не получится, а вот когда барин крестьянку заманивает к себе в постель, притягивает и начинает чушь какую-то несусветную молоть про ангелов каких-то там… От соединения ангела с человеком, лежащим в постели с высокой температурой, в лихорадке и со всякими ночными представлениями, фантазиями несуразными о том, что ангел этот мог бы вот просто так взять… обнять крылами… и что? И унести на небо? Вонзиться вместе с тем, кого он держит в объятиях, в этот воздух за окном, хотя окно было даже и не открыто, потому что дело происходило зимой? Как это было бы: оторваться от подушек, от простыни, и в этот воздух войти?..
А Марина-то уголья помешивает там, внутри, эти догорающие угольки, подёрнувшиеся синевой. И до сих пор это не совсем ясно, если трезвым умом на всю эту ситуацию посмотреть, как это можно было тогда поверить, ну пусть в лихорадке, но всё-таки где-то мозги должны же были сохраняться, хоть остатки какие-то разума, они должны были ведь подсказать, что никакой это не ангел и что ни в какое такое небо… не возьмёт… а вот в это самое и принесёт, в это помещение, где догорают уголья в камине и пора открывать вьюшку, чтоб от нагара не задохнуться, вот она и открывает эту самую вьюшку. Эта дочь. Помесь ангела и барана – не барана, а барина, но который, по сути, не умнее и не дороже любого барана оказался.
А она, единая в двух лицах, как та Мадонна перед входом в соседний костёл, она понимала одинаково хорошо и велеречивую речь господ, и непритязательный и как будто перекошенный какой-то говорок крестьян, рабов, крепостных, как будто бы заключённых в какой-то крепости, как в тюрьме. И поэтому ей было понятно и вполне всё то, о чём тут выпендривался сейчас этот в камзол господский наряжённый раб по происхождению, крепостнического звания, но по своему образованию метил ведь он в кого-то другого. И был этот паренёк ей противен с самого начала, ещё когда он в грязи ползал, она его уже невзлюбила, а когда начал манеры господские себе как в карман засовывать – присваивать – так и вообще прозвала она его про себя учёной обезьяной, но никому не могла это прозвище произнести, поделиться, ведь и среди дворовых, толпившихся порой на кухне, среди горничных и уборщиц, среди готовивших пищу для господ и подносивших им на стол, – среди них всех не была она своей, и все обходили её – мимо – как обтекали её стороной. И все, как ей казалось, знали о её стыдной тайне и не радовались вместе с ней всем тем подаркам и богатым нарядам, которые она получала от барина. Вот такая была жизнь среди всех этих роскошных стен и коврами выложенных полов. Однако в той комнате, где она была сейчас, ковры помещались и на стенах, хотя в эту минуту их было не рассмотреть как следует: если приглядеться, так только всполохи света на этих коврах настенных можно было уловить, как они мечутся и словно бы переговариваются между собой, как будто хотят что-то объяснить, о чём-то поведать, да сил не хватает.
А ей надо стоять на коленях перед входом в огонь и подкладывать в открытую печь новые полешки взамен отгоревших, а отгоревшие в сторону, особенно те, что подёрнулись серой пеленой. Надо обхаживать этот огонь и при этом следить, чтоб ни одна искра не выскочила ей навстречу из раскалённой пасти свежего огня, чтоб ни одна не попала на те блестящие юбки, скомканные подолы которых лежали сейчас вокруг неё на полу, пока она, стоя на коленях, поправляла этот огонь и не знала, чем всё это обернётся для неё самой, все эти выступления учёной обезьяны перед заезжими барами.
А выступавший, как всегда, разливался соловьём перед почтенной публикой, – перед восседавшими на диванах барами: вот один из них, раскинувший ручищи свои по сторонам диванной спинки, запомнился ей больше всех – тот, что ноги свои переплёл как-то, словно как узлом каким завязал, а бородёнку свою жиденькую к потолку задрал и хохотал ну уж так от души, словно бы у него где-то в теле и правда душа какая-то затесалась. А отчего хохотал? Отчего этот гогот молодецкий, да так громко, что она вздрогнула, подкладывая новые поленья в открытую печь?
– Да, – произнесла эта учёная обезьяна, разодетая в пух и прах, – вот я сейчас предоставлю вам точное доказательство того, что все люди равны!
Так раб говорил господам и не замечал даже сам, как он смешон в этой не на его рост сшитой одежде и с помадой в волосах, которые всё равно торчали в разные стороны и ни за что не хотели улечься поспокойнее.
– Вот только представьте себе, что вы возьмёте барана…
– Ха-ха-ха! – запричитали от радости наевшиеся всласть господа, которые заранее предвкушали ещё более вкусную штучку, даже ещё вкуснее всего, что они съели за столом.
И как этот дурень не понимает, что не все равны и что эти барчуки и барчата вот сейчас потешаются над ним, а не весело смеются в ответ на его распрекрасные шутки? На эти шутки, уже сейчас распространившие в этом зале запахи скотного двора – ну послушаем, что он сейчас выдаст про баранов!
– Возьмём барана и поместим его в одну клетку с волчицей.
– Что он сказал? С волчицей?
– А для чего волчицу-то сюда приплетать? – возмутился один из аудитории. – Если барана съесть полагается, то не лучше ли справится с этой задачей сам волк – глава семейства? – такие голоса послышались, но на морде у Фёдора, у этой учёной обезьяны, уже обозначилась самодовольная такая ухмылочка, словно ему всю рожу его насахарили или глазурью облекли.
– И теперь представьте себе, что этот баран начнёт – за неимением лучшего – насиловать эту волчицу, – продолжал Фёдор, когда смешки и восклицания сидевших на диване перед ним поутихли.
– Как это так? – промолвил было один из них, из этих бар разодетых, не помышлявших никогда о том, чтобы войти на скотный двор на самом деле и хоть одним глазком заглянуть, что они там вытворяют, эти скоты неумытые, и какой там у них междусобойчик процветает.
– И вот представьте теперь, что сколько б он, бедняга, ни напрягался, сколько бы усилий в это дело ни вкладывал, а волчица в этом случае ни за что никакого полубарана на свет не произведёт!
И тут аудитория действительно ахнула, можно сказать. И пришло время барину сиять и выставлять на свет, на всеобщее обозрение, какого он, стало быть, мудреца из самых народных корней выкопал, на какой самородок наткнулся и отмыл, одел, в божеский вид привёл, барскому языку научил и все сложные слова и выражения выучить заставил, чтоб ни-ни, никакое подзаборное слово в стройную речь не вмешалось, а чтоб все свои изречения без сучка без задоринки на самом приличном на свете наречии высказать бы мог – вот и руками даже разводить научился, вот и говорит без запинки, этот вонючий крестьянин, а все же – почему же выбрал его господин на эту роль? А потому только, что отцу его был по гроб жизни благодарен за то, что отец этого Фёдора когда-то вытащил его, барина, когда подростком был и в проруби утопиться попытался. А судьба, или кто там наверху сидит и нами всеми погоняет, так она этого Архипа, или Макара, или как там его звали, не пощадила, и поскольку под возом сена этот спаситель жизни барина когда-то погиб – артерию ему, вишь, передрало – так его спасти никак не удалось, вот по этой самой причине и выудил барин его сына Фёдора из всех молодчиков, из всех дворовых. И пальцем указал именно на него – мол, не смог отцу услугу оказать и за спасение жизни моей его отблагодарить, так пускай перейдёт к его сыну этот подарок!
Итак, первым делом отмыть, вторым делом – одеть, затем накормить и слова учить поставить – сперва грамоте, чтоб не был как олух, а потом слова учить.
И выучился парень дворовой, и вроде бы такой же в точности, как все, не хуже и не лучше, не умней и не дурней был изначально, а превратился в какое-то искусственное творение своего господина.
Это был искусственный человек, созданный для развлечения ох*енных господ: и хотя и её учили с самого детства господскому языку, но никакого более приличного слова для определения этих господ у неё не обнаружилось, и она, когда порой бросала на них взгляд, рассматривая исподтишка, не могла избавиться от ощущения, что все они и каждый в отдельности насажены вроде как на палочку, на этот самый свой орган, и вертятся вокруг него, как курёнок на вертеле, когда его обжаривают над огнём! И никаких других мыслей у них в голове не водится, как и у рабов во дворе, только то, что крестьяне высказывают без обиняков и напрямую, господам надо высказать с заковыками, и чем искусней и велеречивей эти заковыки прочерчены, тем больше восхищения и прищёлкивания языком вызывает это высказывание у развонявшейся табачным дымом своры гостей, ради которых эту печь в обычно неотапливаемом зале и разжигали раз в месяц, но разжигали, и на коленях стоять перед печью приходилось ей самой, такой лёгонькой, такой весёленькой – вроде бы так говорили про неё, что она будто бы порхает по залам и ещё что выполняет самую лёгкую работу, но вот эту непривычную печь растапливать оказалось совсем не так легко, и что там скажет он, сам барин, на все речи своего высокопоставленного обезьяна? Как отреагирует, как отзовётся? И почему прозвучали эти неподобающие слова про какое-то там изнасилование, хоть и облитые как будто липким сиропом или в яркую обёртку облечённые, но всё же прозвучали – вот эти неприличные, совсем подзаборные слова?
Если бы эта Неназванная (а точнее, Марина) прочла знаменитый роман Мэри Шелли, она сказала бы, что Фёдор похож на искусственно созданного монстра Франкенштейна, а если бы знала слово «робот», то решила бы, что он робот и есть. Но роман Мэри Шелли она не читала, а слово «робот» к тому времени ещё не изобрели. И поэтому лучшего определения этого барского изобретения, чем «учёная обезьяна», ей в голову не пришло. Что и она сама находится по своему социальному положению где-то посередине, промеж бар и их рабов, не барыня, но и не крестьянка, а нечто среднее, как тот самый полубаран, которого только что этот учёный обезьян изобрёл и даже не догадался, что таким именно полубараном он сам и был. Находился в том самом звании, а почему ему пришла в голову мысль об изнасиловании, а не об инвитрофертилизации, то есть не об искусственном осеменении в стеклянной колбе? Ну и такого метода в науке к тому времени изобретено ещё не было, и можно было бы его оправдать, что, мол, ничего другого в аргументы подобрать не смог, чтоб объяснить природное сродство всех людей – не то что все они якобы братья, а что все одного биологического вида, и поэтому от совокупления любого с любой может во всяком случае получиться жизнеспособное потомство.
Но слово про изнасилование выскочило всё же, и вроде как некстати: для чего такая прыть – или жесть, как сказали бы его отдалённые потомки лет через полтораста после описываемых событий? «Но к чему такая страсть, для чего красотку красть, её можно просто так уговорить», – как пелось в их краях после Второй мировой войны в ковбойской песенке американских союзников, переведённой на модный в ту пору русский язык.
И к чему такая страсть, это выяснилось позднее. Не сразу. А пока можно оставить Марину подкладывать в раскалённые недра печи новые поленья и откладывать в сторону старые, почерневшие и с синими искрами по бокам. Какую-то минуту отдыха и спокойного размышления и ей можно дать, когда она, может быть, захлопнув под конец дверцу печи и задвинув вьюшку, чтоб не совсем выморозить дом, будет ходить по опустевшим комнатам, проверяя, не осталась ли где непогасшая свеча, и в окно будет светить та же самая луна, что светила однажды в недобрый час и её малолетней матери, девочке со светлыми волосами. Стены те же самые, и те же самые окна, вытянутые в длину, окна до самого полу, и те же самые чуть поблёскивающие в полутьме зеркала, от которых, как известно, ничего хорошего не жди.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.