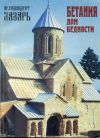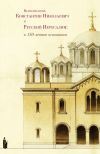Текст книги "Пять дней на Святой Земле и в Иерусалиме"

Автор книги: Антонин Капустин
Жанр: Религия: прочее, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)

«Замок Давида» и стены Иерусалима при подъезде со стороны Яффы

Яффские ворота Иерусалима
С невыразимою отрадой физическою сошел, или точнее свалился я с животного, и вступил под сень ворот двора Патриаршего. Это также монастырь странноприимный, в роде Рамльского или Яффского, только в больших размерах. Те же малые дворики, соединенные одни с другими крытыми переходами, те же лестницы, ведущие на террасы, и на террасах опять дворики, опять переходы и лестницы в высшие отделения! Ни описать, ни передать чертежом подобного устройства нет возможности. Избранным из общества нашего отведена была на первой террасе большая комната, накрытая сводом, с низкими и широкими лавками вдоль стен. Лавки покрыты были коврами, а пол цыновками. Избраннейшим же отведено было отдельное помещение в особой гостинице. Усталость и бессонница, мелочные заботы приезда и помещения, заставляли нас смотреть на себя только как на путешественников, добравшихся до места, а отнюдь не как на поклонников. Суетливая услужливость усердных монахов, обращавшаяся все около предметов житейских, довершала, так сказать, оземленение первых впечатлений наших на местах такой высокой святости. Мысль об Иерусалиме входила в ряд других, нисколько не тревожа их своим присутствием. Не того чаял я, может быть, не в меру идеально настроенный, от первых минут пребывания своего во Святом Граде.
Но всему свой черед. Вскоре, и притом вдруг, в душе моей все приняло иной оборот. Ради какой-то потребности я вышел из комнаты на террасу и увидев, себя перед самым куполом Гроба Господня, внезапно как бы проснулся от сна действительности. В глазах моих исчез Иерусалим географический, Иерусалим – город сирийский, город турецкий, каких много в Турции, а восстал Иерусалим исторический, евангельский, принадлежащий не столько месту, сколько времени, не столько зрению, сколько воображению, не столько уму, сколько сердцу. И вот началась та борьба видения с представлением, странная и томительная, которая продолжалась весь этот приснопамятный день. Видишь, – самому себе не веришь, что видишь, – места и предметы, с детства относимые к какому-то другому месту. Видишь и все еще ищешь видеть, недовольный тем, что представляет видене. Потому что действительность слишком обыкновенна, проста и близка, а предметы эти всегда облекались в образы дивные, полутелесные, полудуховные, неопределенно-таинственные и всегда поставлялись на известное расстояние от полного и совершенно ясного сознания. Смотря на гору Элеонскую, я поминутно нудил себя признавать ее тем, чем она известна всему миру, и поминутно отходил от светлого образа к простому представлению горы. Евангельский «Элеон» почему-то казался не существующим более, или по крайней мере существующим гораздо далее того, который такими простыми и раздельными, и, прибавлю, скромными очертаниями рисовался в совершенной близости от меня, закрывая восточный горизонт грустной и томящей панорамы.
Был полдень. Утружденные спутники спали, разбросавшись на нарах. Уготованная страннолюбием обители трапеза стояла нетронутая. Стакан безвременного чая остался недопитым. Все свидетельствовало о том, что есть время всякой вещи под небесем. Между тем у меня не было ни сна, ни бодрого духа. В полдень обыкновенно храм бывает заперт. Надобно было ждать три часа, пока отопрут его. Не зная, чем наполнить этот промежуток, я пошел по обширной площади плоских кровель (террас), облегающих всю южную сторону храма, которого своды до самых куполов с этой стороны доступны боязливой ноге странника. Я исходил всю большую террасу, любуясь с каждой точки ее видом Иерусалима и пытаясь найти отверстие на стене большого купола, чтобы посмотреть внутрь храма. По малой лестнице, с большой террасы взошел я на меньшую, примыкающую к меньшему куполу (над церковью Воскресения), более той возвышенную, с которой я надеялся иметь еще лучший вид. И точно там мне открылся другой вид… Почти посредине террасы увидел я небольшую возвышенность, как бы верхушку скрытого под нею купола. Она обделана плитами простого камня, и вся сплошь покрыта надписями на разных языках. Всех их смысл был один и тот же: помяни Господи во царствии Твоем такого-то. Я невольно отступил от нежданно встреченного места. Оно было над Голгофою. Века за веками стали проходить в воображении моем, чередуясь и увлекая мысль мою все глубже и глубже в давнее прошедшее, пока я не увидел себя среди событий дня, потрясшего сердце земли и помрачившего лик солнца. Высоко и глубоко простершееся тогда незримыми оконечностями своими, малое древо крестное зрелось мне теперь во всей своей ужасной простоте, как древо казни, орудие жестокого уничижения человеческого достоинства, сколько бесчестное, столько и бесчеловечное; что есть самого горького в участи человеческой, то все соединял в себе крест, как бы нарочно чьею-то злобою или чьею-то неумолимою справедливостью придуманный для того, чтоб Имеюший понести на Себе грехи наши восчувствовал на нем всю их безмерную тяжесть. При грозном зрелище этом лица двух разбойников, ожесточенное и умиленное, легко очертывались в воображении моем. Но лицо Того, Кто, по выражению песни церковной, был мерилом праведным между грешниками, кающимся и нераскаянным, оставалось неуловимо для меня. Я и не усиливался представить его, – считал это слишком дерзким, и даже боялся грешным взором встретиться с ним. Уже одной священнейшей местности было довольно к тому, чтобы проникнуться глубоко чувством своего недостоинства и искать поразительные представления ума свести на простую молитву. Но вот, чего я боялся давно как постыдной возможности психической, то едва-едва не случилось теперь. Что, если на Святых местах, думал я, собираясь видеть их, я испытаю тоже, что иногда испытываешь, к стыду и мучению своему, при вступлении во храм Божий, когда с каждым новым шагом к святилищу все слабее и слабее становится молитвенное настроение духа, когда мысли, вместо сосредоточения, разбегаются вслед всякого предмета? Попытка помолиться молитвою разбойника благоразумного на месте, где в первый раз она была произнесена и услышана, убедила меня окончательно, что молитва не есть ни ремесло, ни искусство, а что самая благоприятная обстановка иногда не в состоянии произвесть ее в душе, не приготовленной к тому долгим и долгим богомыслием. Грустно сознаться, но где же и место покаянию, как не у креста?

Вид обветшавшего купола храма Воскресения

Панорама Иерусалима и Елеонской горы
Спустившись на нижнюю террасу и обходя ее снова, я встретил там спавшего в тени одинокого поклонника. Он весь был олицетворенное измождение. Труд телесный и душевный, a вместе с тем и сладкий покой сознания принесенной жертвы печатлелись на почерневшем от солнца лице его. Положение спавшего трудника вызвало душу к жалости. Из глубины ее прорвался вздох, а за ним излетала и напрасно вынуждаемая дотоле молитва. И вот те же самые предметы для меня были уже не те, и верхняя терраса заговорила сердцу иначе. Сладкий сон бедного пришельца пал как бы укором на сердце, не услажденное Голгофою. «Колико наемником отца моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю…» – произнесено было смущенною совестию. «Темный человек», мирянин выплакал боли души своей над Голгофою, и теперь в мире глубоком ожидает услышать от Господа: днесь со мною будеши в Раи; а священник, так близко поставленный к «Сладчайшему», не сумел пролить над крестом Его слезу или «слезы часть некую» во очищение грехов своих! Не бедно ли это? Разве менее у него поводов стенать и радоваться, просить и благодарить? Разве в жизнь его не вплетена искупительная и промыслительная нить несчетных благодеяний, простертая от Голгофы? Разве там, разве здесь… не Он был мой помощник и покровитель. Да не только «там» или «здесь», но именно, здесь, в сем месте, в сию минуту Он же, конечно, послал с Голгофы в след меня свой тихий укор, как некогда послал свой дружеский взор отрекавшемуся ученику. Но… довольно!
Пользуясь еще остававшимся до вечерни свободным временем, я представился патриаршему наместнику, митрополиту Петрскому Мелетию. Почтеннейшего иерарха я нашел таким, каким его описывали тысячи наших поклонников – добрым, приветливым, простым и умным. С ним были два епископа и несколько других духовных лиц. Архиереи сидели на широких лавках с поджатыми ногами. На них же они привставали, благословляя меня. За обычными вопросами – откуда, когда, как и надолголь, – следовали взаимные приветствия, взаимные изявления любви и преданности, выражения взаимных сожалений об участи Святого Града, оставленного на попрание язычникам доселе, и утешений надеждою на более радостное будущее. Беседа кончилась предложением услуг со стороны обязательного владыки; я с благодарностию принял предложение и испросил у него благословения на обозрение Святых мест. Затем я посетил другого митрополита, преосвященнейшего Агафангела, бывшего настоятеля Балаклавского монастыря, удалившегося сюда, после разгрома Севастопольского, отдохнуть от страшных впечатлений и кончить дни у Гроба Господня. Оба святителя греки, но долговременное пребывание последнего в России положило на него особенную печать важности, которой недоставало первому, незнакомому с тяжелым величием и приличием Европы.

Площадь перед входом в храм Воскресения
Время идти в церковь между тем наступило. Нас свели по особой лестнице с террас Патриархии прямо перед южныя (и единственные) врата храма Воскресения Христова на площадь, столько известную всем и каждому по сделанным с нее рисункам. Переступив порог храма, я остановился, чтобы собраться с духом. Сверх чаяния, первое посещение святейшего места земли показало душу способною к одному только простому любопытству. «Точно так, – думал я. – Вот направо Голгофа, налево – гробная часовня, впереди камень помазания! Как описывали, так и есть! А вот и турецкий страж с трубкою в зубах и презрительным взглядом должен сидеть тут, налево, у самого входа, и отбирать деньги». Турок точно сидел, но не с чубуком, а с четками в руках, ничего не требовал, и приветливо помавал головою поклонникам, поводя глазами налево, по направлению к Гробу Господнему, как бы указывая дорогу. Его кроткое лицо, неподвижное положение и важный взор резко противоречили подвижной, шумной и страстно оживленной толпе, стремительно влетавшей из дверей, падавшей у «камня помазания» и разбегавшейся потом направо и налево. Ей дорого было, ее живо касалось все, что было впереди ее. Некогда и невозможно было ей стоять и думать, когда сердце горело!.. Благословенна ты, теплота сердечная!

Кувуклия (Гроб Господень) в храме Воскресения
Во след другим двинулся и я ко Гробу Господнему. Выступив из-под сводов круглой галереи на площадь так называемой «Ротонды», я приветствовал всеми ублажениями родного чувства знакомую часовню; тысячекратно приветствованную уже прежде заочно в разные времена и в разных обстоятельствах жизни. Да, это она, новая скиния свидания, ничем незаменимого и ни с чем несравнимого, – она, хранящая в себе нерушимый ковчег ненарушимого завета, – она, сияющая во всю вселенную трисолнечным светом нетления, воскресения и жизни вечной. Я на минуту прислонился к одному из столбов, поддерживающих купол, и старался продлить в себе впечатление неповторимое; кругом меня и далее по всему помосту виделись коленопреклоненные и приникшие к полу фигуры, едва различаемые в полусвете храма. На самой же площадке перед часовнею была толпа непроходимая, в коей немало виделось и наших спутников, ставивших свечи и ждавших очереди войти ко Гробу. Заметив идущего одного поклонника, они поспешили открыть ему дорогу. Народ расступился, сменяя на время молитву чувством удивления при виде высокой фигуры в эполетах и орденах, вступавшей на площадку с важностию и благоговением. «Генерал» – разнеслось шопотом по толпе. Благочестивый поклонник уже приблизился к дверце, ведущей в святую пещеру, как вдруг какой-то соотчич из простого звания схватил его за полы мундира и сказал тоном, к которому, конечно, не привык остановленный: «Стой! Разуйся!» На осведомление сего последнего, в чем дело, и что тому нужно, какая-то поклонница, также простого звания, начала объяснять, что место тут свято, что надобно входить туда босыми ногами и прочее. Когда же увидела, что объяснения ее ни к чему не повели, и поклонник вошел в часовню неразутый, с сердцем заговорила толпе: «они ведь святые, у них все чисто, не то, что у нас грешных» и т. д.
Настала и моя очередь войти в богоприемную пещеру. Малый кусок серого камня, сделанный в виде четыреугольной плиты и положенный на четвероугольном же столбике, стоял посреди приделанной к скале комнаты. Он есть остаток камня, замыкавшего некогда вход во Гроб. Об этой комнате я не имел прежде верного нонятия, несмотря на столько описаний часовни. Составляя одно с сею последнею, она в тоже время не принадлежит гробу, служа преддверием к нему. Я дерзнул переступить черту, отделяющую ее от пещеры, и припал к камню, покрывающему смертное ложе Иисуса. Представление Его бездыханного, повитого плащаницею и распростертого в глубине скалы, разделяющего общую участь земнородных, усердно погребенного и враждебно стерегомого, наполнило душу сочувственною скорбию. С дерзновением, достойным наилучше предочищенных душ, поклонялся я месту временного покоя Сына Божия, касался устами сего источника и моего воскресения по слову песни пасхальной, пил его питие новое, не от камене неплодно чудодеемое, и в нем утверждался всею полнотою моих последних чаяний. О, зачем раз успокоенное сердце должно возвращаться потом опять к бессмысленной тревоге при вопросе о смерти, о тлении, о рассеянии стихийного тела по стихиям мира? Да звучит в слух душевный неумолкаемо вынесенное мною из светлого чертога пакибытия слово Господне: идеже есмь Аз, ту и слуга мои будеть. О, божественного, о, любезного, о, сладчайшего твоего гласа! Служитель Твой недостойный, бедный и немощный собою, но сильный и богатый Тобою, в виду суетных совопрошений суетного мира, отрекается знать что-либо… Мой ответ всему Ты, Твое Слово, Твой Гроб и Твое Воскресение!
Поклонение прочей святыне храма было отложено мною пока, потому что в соборе начиналась уже вечерня. Она была воскресная, и потому отправлялась торжественно. Сам наместник патриарший присутствовал в церкви, одетый в мантию. Служба шла порядком, мне хорошо известным. О малых уклонениях обрядности, условливаемых местностию, не стоит говорить. Но нельзя умолчать о том, также местном, обстоятельстве, что все песни церковные несравненно глубже падали и живее действовали на сердце здесь, в виду Живоносного Гроба, чем где-либо, когда-либо. Так, каждое слово вечерней стихиры: «Радуйся Сионе святый, мати церквей, Божие жилище! Ты бо приял ecu первый оставление грехов воскресением» – заключало в себе теперь для меня как бы новый смысл. Также и обращение ко Господу в стихе: «Слава Тебе, Христе Спасе, Сыне Божии единородный, пригвоздивыйся на крест и воскресый из гроба тридневен» – не казалось мне уже сочинением, чьим бы то ни было, ни даже простым обращением к Богу более по привычке, нежели по нужде, а было восторженным взыванием души к своему благодетелю, присущему ей если и незримо, то все равно ощутимо. Я ублажил тех, кои могут быть постоянно под этим живым и действенным впечатлением песнопений церкви.
После вечерни спутники мои представлялись правителю Иерусалимскому, которого нашли вообще «прекрасным и любезным» и даже образованным человеком. Несмотря на эти качества, он отказался однако же дать нам позволение видеть внутренность мечети Эль-Сахр, опасаясь фанатизма народного, хотя охотно показывал ее из окна своего и даже присовокупил, что, пожалуй, он даст стражу, с которой ручается за вход в мечеть, но за выход оттуда не отвечает. Наиболее мужесвенные из нас погорячились, слышна была чья-то похвальба «одним выстрелом разогнать всю сволочь», но свежее еще предание об одном англичанине, не так давно убитом чернью вследствие такой же неуместной решимости прать противу рожна, охладило мало-помалу горячку.
По возвращении к храму Воскресения, занялись большею частию покупкою около него перламутровых икон, крестов, четок и проч.; при этом не без удивления слышали, как продавцы, все почти арабы, объяснялись с нами по-русски. Выражения: купи, узми, хорош, еден руп и тому подобные оглашали хотя и странно, но приятно слух наш. Не забуду я, как при этом сопутствовавший мне почтенный и обязательный отец Вениамин покупал для меня у одного из сидевших на площадке перед храмом арабов пригоршни крестиков, и когда тот не соглашался уступить их за предлагаемую цену, погорячился на него. Тогда продавец с кротостию, достойною евангельских Закхеев, поднял к нему простодушное лицо, и сказал: «дорог – не купи, а не сердись». Заметив же при этом мою улыбку, подал мне все крестики и сказал: «бери, дай, что хошь». Спокойствие и добродушие бедняка тронули меня.
Между тем, смерклось. Общество наше опять отправилось ловить отдых, столько нужный для предстоявшей ночной молитвы. Меня же опять бежал желанный сон. Наскучив бороться с бдением, я оставил комнату и вышел на террасу. Сопутствовали мне туда глубокая темнота и не менее глубокая тишина. Привыкнув по ночам уединяться в надземный мир Божий, я рад был бессонице. Знакомый в общности и даже в некоторых подробностях свод звездный накрывал собою Святой Град, как и покрывал его столетитя и тысячелетия прежде того. Не только один и тот же для множества эпох, но один и тот же для множества пространств нашей малой земли, этот свод радостно действует на душу путника, занесенного за тысячи верст от привычного места жительства, говоря ему о его родном угле своим присутствием и приучая его распространять тесные пределы своего кружка на всю землю, – единую, Господню, по словам пророка. Особенно нужно это приучение для подобного мне поклонника, прибывшего в Иерусалим искать следов Того, Кто стал своим для всех стран земли, сделав ее одним, общим селением рода человеческого. Но земному ли только учить, и должно учить иерусалимское небо? Хотя без строгой отчетливости, на меня убедительно действовало представление, что, как на земле, без видимого какого-нибудь средоточия ее, было одно такое место – Иерусалим, – которое столько времени можно было признавать постоянным средоточием откровений Божиих, жилищем Божьим, по слову писания, то и там в общей целости мира миров можно бы также гадать о каком-нибудь Иерусалиме, жилище Божием, не средоточном, может быть, в отношении астрономическом, но средоточном в космологическом смысле, где пребывает Он, наш Первенец из мертвых, наш Предтеча и Вождь, Уготователь наших вечных обителей в дому Отца Своего, с Своею торжествующею Церковью.
В десять часов нас ввели в церковь на у треннее богослужение. Там уже читалась полунощница. Десятка два-три богомольцев стояли вдоль стен в стоялках, то делая вдруг по нескольку поклонов, то надолго оставаясь неподвижными и блуждая взором по высоким сводам храма, – видимо, усиливаясь разогнать дремоту, которую навевало на них однотонное чтение, прерываемое изредка крикливым пением, также мало способным возбудить дух к молитве. Истомленный двухдневным бодрствованием и множеством поражающих впечатлений я также, вместе с другими, боролся со сном, поминутно теряя сознание и болезненно возвращаясь к нему. Уже утреня преполовлялась, малыми отрывками достигая слуха, как вдруг сильное и приятное впечатление нежданно ободрило меня. Поблизости меня с правой стороны алтаря раздалось громкое и стройное пение. Сперва я не мог понять, что бы такое это было. Но скоро сладкое чувство отчизны, проникши всего меня, сказало мне, что это наша Русь воззвала своим могущественным и торжественным голосом ко Господу во след своей изнемогающей матери – Греции. На Голгофе русские поклонники начали петь свою Всенощную. Чудно было слышать эти два православные пения одно современно с другим. Слух естественно настраивался в тон русского пения как более звучного, и греческое казалось уже неприятным диссонансом. Но когда смолкало первое, напев греческий принимал естественность и переставал беспокоить изможденный и уже всему страдательно подчинявшийся слух, на который ударом колокола падало потом опять русское ex abrupto пение. Уже обе Утрени, греческая и русская совпавши, близились к окончанию, а время шло к полуночи, как раздался под сводами храма сильными звуками орган, возвестивший начало латинской Утрени. Холодное, из высоты несшееся и повсюду расходившееся в храме звучание латинского богослужения выражало как нельзя более характер сей, чуждой Востока, церкви, холодной для его интересов. Но вот орган умолк. Впечатление бессердечной церкви однакоже оставалось в душе и резко чувствовалось. Ты тут, гордый Рим, самим собою заменивший для Запада и Иерусалим, и Голгофу, и Гроб Господень! Ты дал нам знать о себе, напомнил о своем отдаленном существовании, пронесшись бездушным гласом над святынею под сводами чуждого тебе храма! Зачем же ты здесь? Тебе не нужен Иерусалим. Иерусалиму не нужен ты. Здесь место воплей и взываний молитвенных, а ты являешься с игрою трубною!
Так думал я. Но сменившее орган живое пение или чтение на распев священника католического, однообразное и напряженное более жалобное, нежели торжественное, заговорило в слух мой неподдельным, истинным голосом церкви, глубоко падавшим на душу и тем глубже, чем более вслушивался я в простые древние мотивы христианской молитвы, истекшей некогда из сердца, проникнутого глубоким умилением. Яснейшим образом было видно, что это молится церковь одной древности с греческою. Их родственная близость ощущалась всякий раз, как замолкало русское пение и слышалось одно только греческое и латинское. Их сходство неотрицаемо, хотя также неотрицаемо и различие. Теперь глубокая вражда разделяет две церкви, но думается, что в самой вражде их можно предполагать присущее им сознание своего взаимного родства, сознание для обеих сторон болезненное, раздражающее, как и всякий неестественный разлад. У Гроба Господня позволительно скорбеть об этом раздвоении церкви. Припомним, как дружно спешили к сему гробу некогда Петр и Иоанн. Между характерами их также было резкое различие, но одушевлявшее их чувство у обоих было одно. Им мало было нужды до того, что один из них притек скорее, а другой увидел скорее. Это случайности; их занимало высокой важности дело – судьба своего Учителя. Отчего же члены церкви, хвалящиеся духом и преемством приближеннейших ко Господу учеников, представляют собою печальное зрелище разномыслия, невиданного между двумя апостолами? Ужели иссяк в них источник апостольской любви ко Иисусу Христу? По-видимому, нет. Вот они у одной и той же равно им драгоценной святыни, соединясь в чувстве беспредельной преданности к одному и тому же Господу. Полезно чадам наследниц и учениц великих апостолов чаще припоминать уроки, полученные сими от своего учителя. Петр, помыслив раз о земном царстве Иисуса Христа, услышал от него следующее: «не мыслиши яже суть Божия, но человеческая» (Мф. 16, 23). Иоанн, пожелавший истребления городам, не принявшим евангельской проповеди, получил замечание от Учителя: «не весте коего духа есте вы» (Лк, 9, 55). Пусть же римские католики отделят от церкви все, что пристало в ней человеческого к божескому. Пусть греки умерят свою ревность ко всему своеобразному, так сказать, национальному своей церкви и имеют более снисхождения к немощам других, памятуя слово Господне: кто не против нас, mom за нас. Тогда, подобно первенствующим апостолам, обе церкви будут вместе с большим успехом подавать цельбу страждущему человечеству.
К двенадцати часам часовня Гроба Господня осветилась многочисленными разноцветными огнями. Изнутри ее исходил целый поток света, прорывавшийся по временам сквозь движущуюся толпу народа по всему пространству собора, в котором водворилась уже глубокая тишина. В слитном шуме окружающего часовню народа стало слышаться однотонное чтение. Это были Часы, бегло чтомые по-русски. Вскоре раздалось и громкое русское пение. Литургия длилась около часа. К общему утешению, на тот раз собралось во Святом Граде русских поклонников более четырехсот человек, из коих немало было лиц духовного завания. Оттого божественная служба правилась не только торжественно, но даже, можно сказать, великолепно. Чувство радости пасхальной возбуждала она беспрерывно, от начала до конца своего. Да будет сладкая память о ней утешением душе в минуты, когда не будет для нее в мире ни одной радости. О Пасха велия и священнейшая Христе! О Мудросте и Слове Божии и Сило! Подавай нам истее тебе причащатися в невечернем дни царствия Твоего!
По местному обыкновению, после литургии все прикладывались к животворящему древу в соборе, в то время, как из гроба Господнего износились уже звуки другого голоса и другого пения, напоминавшего собою отчасти греческую, отчасти латинскую службу. То была армянская Обедня. Латинской мы уже не слыхали, потому что позваны были «подкрепить силы», в самом деле до крайности ослабленные, в примыкающих к Голгофе комнатах патриархии, где был и сам преосвященейший наместник. За тем все разошлись для покоя.
Воскресение, 22 сентября 1857 г.
Короткий, но глубокий сон освежил тело и душу. Странные ощущения вчерашнего дня уже не повторялись. Представления более не двоились. Без усилия сочетавались в голове разные образы Иерусалима, вставляемые теперь уже, как отдельные эпохи, в общую историческую картину его, подобно тому, как это бывает при обзоре всякой другой древности мира, просуществовавшей много веков и пережившей множество поколений человеческих, оставивших на ней печать своего мимолетного бытия. Одним словом, передо мною был уже один «археологический» Иерусалим, как в свое время были таковыми Царьград, Афины, Рим и другие города, – памятники древности. Вчерашний день как бы вовсе уже не существовал для меня, по крайней мере относим был мною к другой какой-то отдаленной эпохи жизни. Так я сознавал сегодня состояние свое, сидя в четырех стенах отведенной мне комнаты и держа перед собою карту Иерусалима. Я готовился делать обозрение Святого Града.
Около десяти часов утра все общество наше формально представлялось патриаршему наместнику. Почтеннейший иерарх старался при этом говорить по-русски. На вопрос же одного из нас, как он научился русскому языку, не выходя никуда из Иерусалима, – старец ответил, улыбаясь: «Воровски, крал то у одного, то у другого поклонника по слову, и вот несколько научился». Простота обращения его изумила и тронула общество наше, закованное службою и привычкою в строгие формы самого неумолимого приличия. Многие не хотели верить, что это архиерей, и еще митрополит. При этом, разумеется, не обошлось без различных взглядов на высшее достоинство церковное. Одним хотелось, чтоб и русские святители в простоте обращения походили на греческих; другим казалось, что грекам еще должно учиться у нас и приличию, и вкусу, и такту жизни. Для меня не было новиною видеть святителя греческого. Оттого я был в выгодном положении бесстрастного наблюдателя чужих мнений. Читатель может занять еще выгоднейшее – их ценителя.

Разрез храма Воскресения в Иерусалиме. 1805 г.

Вид верхнего яруса храма Воскресения
Вышед от наместника, мы разбрелись, кто куда хотел. Я стал рассматривать храм Воскресения с архитектурной его стороны, но вскоре понял, что нахожусь в неисходном лабиринте. Какая часть его к какому должна быть относима времени, этого, вероятно, никто бы мне не объяснил. После стольких пожаров, что осталось в нем от древнего времени? Тот или другой писатель, упомянувший о разрушении и воссоздании храма, говорил о том обыкновенно весьма кратко и односторонне, не предполагая возможности более подробных распросов и допросов потомства. Винить ли в том его простоту или свою пытливость? Не зная, таким образом, ничего положительного, напрасно старался я угадывать, что и в котором месте есть в храме византийского, и что готического, и что относить должно ко времени турецкому? Я взошел к самому куполу храма Воскресения и осязал его руками, как бы спрашивая у стен, кто и когда их построил. Но наружность купола, скрытая под штукатуркою, не давала никакого ответа. Его восемь окон, сведенные кверху полукругом, слишком общего стиля, чтобы по ним можно было судить о чем-нибудь. Ни карниза, ни другого какого-нибудь украшения не существует на стенах его. Свод покрыт сверху цементом и по его поверхности идет спиралью лестница из камня или того же цемента, доводящая до самой шейки его, на которой, без сомнения, стоял некогда крест, снесенный оттуда изуверством. Приписывают непростительной робости или беззаботности греческого духовенства то, что знаменитейший храм христианского мира остается теперь без заветного христианского украшения. Терпимость нынешнего правительства турецкого позволяет думать, что с его стороны не было бы препятствия к водружению на храме креста (на первый раз хотя бы каменного). Другие вероисповедания христианские едва ли найдут уместным вмешаться в чужое дело; ибо собор (т. е. собственно церковь Воскресения Христова) есть всеми признанная собственность греков. В одном из окон купола устроена дверь, вводящая внутрь здания на железную галерею, идущую вокруг внутренней стены купола и назначенную, собственно, к тому, чтобы поддерживать спускающиеся с нее вниз цепи и веревки, унизываемые во время великих праздников на всенощных бдениях, разноцветными лампадками, производящими, как говорят, удивительный эффект. Но десять или двенадцать раз в году служа украшением церкви, эти тяжелые и бесвкусные привески во все остальное время безобразят ее. Куполу, как подобию неба, всего приличнее быть совершенно открытым для взора всех, – особенно же там, где он есть единственный проводник света в церковь. Несмотря на свои, для нашего времени уже скромные размеры, купол сей есть один из обширнейших, завещанных нам древностью. Внутренность его, так же как и внешность, выштукатурена, но пробитая в нескольких местах штукатурка обозначила таящийся под нею мрамор, именно же три тонкие колонны, коими обрамлены, по-видимому, все окна. Одна из них с гладкою поверхностью, другая – дорожчатая, третья – витая. Обстоятельство это дает повод думать, что штукатурка скрывает под собою гораздо более ценную поверхность, может быть, даже мозаическую, и, во всяком случае, ведет к заключению, что купол не есть перестройка новых времен, а свидетельствует собою старую эпоху архитектурного эклектизма, – когда наследники богатых предков, византийские греки, в постройках своих старались совместить все, что досталось им от отеческого искусства. Нельзя было не пожелать, чтоб эта возвышеннейшая и лучшая часть единственного из храмов христианских некогда была восстановлена в первобытной красоте; пожелать, чтобы вся церковь была открыта и освобождена от всех заделок и привесок, перегородок и загородок – значило бы пожелать невозможного – если не навсегда, то еще на долгое время.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.