Читать книгу "Книга Дока"
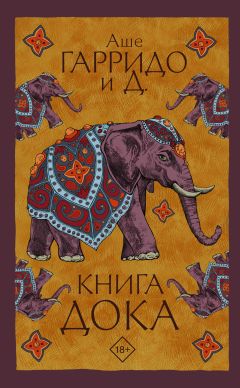
Автор книги: Аше Гарридо
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Он не узнает слова так, как ты говоришь. Давай я помогу. Упырица, насупившись, прижала рот к ее уху и нашептала заветные слова.
– Ну, вот тебе твои ключи, Док, – нежно сказала рыжая. И тихо, четко произнесла их.
Пленник замер. Он не двигался – но весь переменился в считанные секунды. Видно было, как из безвольной, испуганной маски собирается его собственное лицо, как тело переменяется из безжизненной груды тряпья в измученное, но живое и умелое тело бойца.
– Док, милый…
Калавера подошла ближе, наклонилась над его лицом.
– Теперь узнаешь?
Док смотрел и узнавал ее, узнавал их всех, но они ничего не значили. Всё на свете ничего не значило, на самом деле существовала только ослепительная ясность, выжигающая сердце: очевидность и окончательность потери. Теперь уже ничего нельзя было сделать. Клемс
– Что ж вы, сучки, наделали… Всё теперь зря. Всё зря.
– Тссс, – велела рыжая. – Не ругайся при девочках. Ты такой дурак, что даже говорить с тобой неохота. Ты еще не всё вспомнил, правда? Вспоминай, как ты здесь уже был. Как мы здесь уже были.
И Док вспомнил.
Маленькие, грязные, дрожащие, явно не дети, вообще не люди. Не живые. Но – маленькие и дрожащие. Они сидели на полу, прижавшись друг к дружке, и смотрели перед собой пустыми тусклыми глазами. Док позволил им погреться, и они вползли ему на грудь и сразу уснули, как котята, которых вечно подбирала и выхаживала его сестра Фрида. Он лежал, глядя в темный потолок камеры, и думал о том, что и бред-то у него такой простой и незамысловатый. Ему мерещится, что он дает другим то, в чем так нуждается сам: тепло, отдых, покой. Спаситель – но кто спасет его? Никто. Это хорошо, потому что не спасения он жаждет, а чуда. Возможного, только если ему не удастся спастись.
Кто из них подслушал его мысли? Наверное, упырица, ушастая и клыкастая, толстоногая малютка, тайком и незаметно – как ей казалось, – слизывавшая кровь с его кожи. По крайней мере, она первой проснулась и растолкала остальных, возбужденно шепелявя им в уши, отчего они все стали смотреть на Дока со смесью тоскливого сочувствия и отчаянной надежды.
– Ты можешь забрать нас отсюда? – спросила наконец рыжая.
– Я отсюда никуда не собираюсь.
– Да ладно. А если я скажу, что ты обратился не по адресу, что здесь нет никаких чудес, что всё, что здесь есть, противоположно чуду полностью и абсолютно, и кроме бессмысленной гибели здесь ничего нет и быть не может?
– А ты это скажешь?
– Ха! – нахально воскликнула рыжая. – Я и больше могу сказать. Спорим, я могу сказать то, чего ты не можешь?
– Не надо, – попросил Док.
Но рыжая не была милосердна. Или наоборот, слишком милосердна была – не помиловала.
– Клемс умер, – сказала она.
– Ты помнишь, как это было, Док.
– Помню.
– И ты сказал: зачем ты сказала это. Помнишь?
– Помню.
– И я сказала: если ты тоже сможешь сказать это, ты выйдешь наружу и вынесешь нас. А ты не хотел. И я объясняла тебе, что здесь ты ничего не добьешься, не вернешь вас с Клемсом в другой жизни, не увидишь его никогда, если останешься здесь. А ты не верил. Помнишь, Док?
– Помню.
– Но ты сделал это. Ты помнишь? Помнишь, почему ты это сделал, Док?
Док кивнул с закрытыми глазами.
Они были маленькие и слабые, и Док не смог обречь их на гибель, хотя они и так не были живыми, и всего лишь надо было вынырнуть из пучины бреда, отмахнуться от галлюцинации – они растворились бы без следа. Но это было бы там, снаружи, а здесь, в спутанном пространстве бреда, они были – и как он мог согласиться с их гибелью? Они были грязные, оборванные, со стершейся краской и выщербленными глазами, с колтунами в волосах и с отбитыми носами – куклы. Они спали, прижавшись друг к другу, они перешептывались и вздрагивали, как испуганные дети. Он смотрел на них и качал головой в немом протесте. Он не хотел отказываться от последней надежды, но вот какой была на самом деле ее цена: не его смерть и даже не бесконечность пыток, а всего лишь наблюдать за тихой гибелью трех нелепых старых кукол. Какой уж тайгерм, подумал Док. Я даже этого вынести не могу.
И он прижал их к груди и сказал правду.
Четыре кошки его сестры усердно вылизывают миски, в окнах дома напротив закат застыл золотой слюдой. На столе лежат три куклы. Они благоухают мылом и кондиционером для белья – по наитию Док использовал его для их канеколоновых волос.
Док слышит, как звонит звонок в прихожей, удивляется, идет открывать. За дверью – Фрида. Она выпаливает на одном дыхании:
– Сайс позвонил, представляешь, я уже в аэропорту, а он такой: встречай, еду. Ну, к утру будет, значит. Извини, что так получилось, кто мог знать! Ты можешь остаться, ты нам не помешаешь.
Она вносит в кухню пакеты с продуктами, как попало запихивает их в холодильник, включает духовку, всё это – не останавливаясь ни на миг и не прекращая монолога.
– Ты правда не помешаешь, даже не сомневайся, Сайс будет рад…
И замирает, увидев на столе, на расстеленном полотенце голых мокрых кукол.
– Где ты их нашел? – медленно спрашивает она, щурясь, как будто внезапно стала близорука и не может их разглядеть с трех шагов.
– На чердаке, – спокойно отвечает Док.
– А я думала, что сломала… И выкинула их.
– Я починил, – отвечает Док. – Поправил кое-что. Но кое-что надо еще довести до ума. Я возьму их с собой? Если они тебе не нужны.
– Нет! – вздрагивает Фрида. – То есть, конечно, да – забери. Я уже не играю в куклы.
– А я – да, – говорит Док.
И всё опять начинается с начала или просто продолжается дальше.
Пепел и вода
Потому что пепел – символ смерти и траура, а вода – символ хаоса и гибели. Я подозреваю, что когда-то они означали нечто иное. Но сейчас только так: гибель, смерть, мертвость. Это всё, что я могу вспомнить или прочитать. Ничего другого.
Уже достижение, что я это теперь могу. Стало гораздо легче делать вид, что я живой. Чтобы не привлекать внимания, важно вести себя так же, как местные, слиться с окружающим. Нелегко это сделать, когда вокруг все живые, а ты нет. Живые дышат, трогают всё подряд, оставляют свои следы: частицы кожи, перхоть, волоски, капли слюны, жирные пятна, пот, всё это плотское, ощутимое. Живые изменяют пространство вокруг себя. От них колышется и нагревается воздух, вокруг них преломляется и отражается во все стороны свет, мнутся простыни, пачкается посуда, предметы сдвигаются со своих мест, и живые замечают это, не замечая, что замечают. Но если что-то пойдет не так, как обычно – они обратят внимание, не сомневайтесь. Люди это всегда замечают, даже если не могут понять, что не так. Они тогда просто чувствуют смутное беспокойство, необъяснимую тревогу. И начинают приглядываться, принюхиваться, и рано или поздно тебя раскроют, неаккуратный шпион, и тебе конец.
Поэтому я тщателен.
Сначала мне это совсем не давалось. Я совершал глупые ошибки, которые выдавали меня с головой. Пытался вести себя как люди – но сиденья кресел не продавливались подо мной, мои пальцы проходили сквозь стаканы, как сквозь дым, моя обувь не оставляла следов, когда я входил в помещение с дождя, кстати, прошивавшего меня насквозь.
И было большим облегчением, когда я научился прикасаться к вещам и как-то взаимодействовать с ними. Призраки этого не могут, всем известный факт. Я тоже не могу. Прикасаться к предметам самим по себе, как они есть, для меня недоступно. Но человечество издавна и постоянно создает незримую, неощутимую для живых, нематериальную, но весьма увесистую копию вселенной. Любой сколько-нибудь распространенный и ходовой предмет имеет второй, третий слой: значения. А есть такие предметы, на которых накопилось столько значений, что они стали чуть ли не весомее самих предметов. Эти предметы оказались символами чего-то еще, нематериального: идей, понятий, представлений, событий. И вот их-то я могу… брать, использовать, взаимодействовать с ними. Потому что смыслы нематериальны, ими я могу хоть жонглировать, сноровки хватает. А эти предметы, смыслы которых стали значительнее их самих, предметы-символы, привязаны к своим значениям намертво. Потянешь за смысл – и предмет сдвинется с места.
Зачем мне вообще притворяться живым? Не так просто ответить. Я сам толком не понимаю. Но я стараюсь, как будто это зачем-то нужно, не знаю, мне ли. Как будто на этот раз у меня такое задание. И я помню, как у меня начало получаться.
Я стоял в своей квартире у окна – строго говоря, висел, потому что я не могу опираться на материальные предметы, например, пол, и сила тяготения на меня не действует. Я, скажем так, находился у окна, потому что мне было всё равно, где находиться, а у окна я мог следить за временем суток, чтобы не нарушать принятый на базе режим. Важно было не отвлекаться, чтобы не уплыть сквозь стекло, это привлекло бы ненужное внимание к месту моего обитания. Я находился с внутренней стороны окна и просто так считал проходящие машины, пролетающих птиц, проплывающие облака, самолеты, порывы ветра – всё подряд, лишь бы слева направо, в тот вечер я считал всё, двигающееся слева направо. В другой день – наоборот, а то сверху вниз или снизу вверх, или по диагонали – еще четыре направления, разнообразие увеличивается таким образом, и занятие не сразу надоедает. Я думал о том, как буду считать завтра, представил возможные направления, вспомнил, что где-то видел такую же схему, что бы это могло быть, что-то про ветер… Роза ветров, rosa ventorum, шестнадцать шипов, ни одного лепестка – символ потерянности, поиска пути… Я словно почувствовал, что принадлежу к одному пространству с ней, я тоже… это. Что-то такое, то же самое. Что еще было в этом пространстве?
Я стал осматриваться. Увидел настенные часы и подумал: кажется, часы – символ времени, всего преходящего, бренности человеческой жизни. На столике возле кресла лежала книга, недочитанная мной – между страниц вложен конверт с письмом, на которое я не успел ответить. Может быть, мне было бы не так скучно, если бы я мог читать. Книга определенно является символом чего-нибудь, например, знания. Почему бы нет? Я потянулся за ней, ни на что особо не надеясь. Но книга не пропустила мои пальцы сквозь себя, из-за небрежности жеста я чуть не вывихнул палец об ее неожиданно твердую обложку. В приступе неоправданного оптимизма я плюхнулся в кресло – движением, привычным по прежней жизни. И потерпел неудачу. Со временем привыкаешь ко всему, но зрелище собственных коленей, неуклюже торчащих из сиденья, и локтей вперемешку с подлокотниками, меня обескуражило. Что-то я сделал не так, но что? Ну, конечно. Кресло, кресло… Я вернулся в вертикальное положение, готовый к экспериментам. Мне стало интересно – впервые после Климпо мне вообще стало как-то. Я чувствовал даже что-то вроде азарта. Не так чтобы прямо чувствовал, но как будто внутри меня звучало эхо, доносящееся издалека. Я его слышал очень ясно, почти как собственные эмоции. Они были всё равно какие-то не совсем мои. Но это ничего, зато они были, а до этого не было вообще ничего, и я не знаю слов, чтобы описать, каково оно, когда вообще ничего нет. И вы не знаете. И не надо.
В общем, мне было ясно, что делать с креслом. Я решил, что кресло означает для меня новые возможности. Снова сел – на всякий случай осторожно, так что удержался и только чуть-чуть погрузился в его объемное изображение. Что опять не так?
Довольно быстро, после двух-трех попыток, я догадался: живые могут придумывать собственные смыслы, а я нет. Чтобы манипулировать материальными предметами, мне необходимо прибегать к общепринятым, «накопленным» смыслам. Чем больше их мне известно, тем большим количеством предметов смогу воспользоваться. Что делать, если мне понадобится предмет, символическое значение которого мне неизвестно?
Книга – символ знания, она же и источник, и хранилище его. Библиотека стала моим прибежищем. При первом посещении пришлось подождать, пока кто-нибудь войдет или выйдет, чтобы открылась дверь: я пришел читать, а не устраивать шоу с привидениями. Выходя, я открыл дверь уже самостоятельно, я мог это сделать. Но мне гораздо удобнее было бы иметь нужную информацию под рукой, и я направился в книжный магазин.
Мне было странно, как в начинающейся лихорадке: озноб на поверхности и жар внутри. Глубоко, в самой сердцевине меня мне было абсолютно безразлично всё вокруг, но эхо эмоций звучало на все голоса: любопытством, азартом, восторгом первооткрывателя.
С покупками не возникло никаких проблем: банковская карта – символ денег, деньги – символ всех материальных благ, которые можно за них приобрести. Я сам догадался, и оно совпало, я понял это по результату. Дальше было совсем просто. Я осваивал предмет за предметом, понятие за понятием. Кресло – символ устойчивости и неизменности. Я читал, развалившись в кресле и положив ноги на журнальный столик, символ единения и согласия. Очень мало предметов, которые не являются символами чего-то еще. Акация, аметист, бабочка, башня, весы, вино, груша, дерево, дом, железо и жемчуг, замок (и ключ), зеркало, звезда, крокодил, крыса, курица и кукушка, ибис, изумруд…
Энциклопедии мифов и словари символов, геральдические справочники и сонники вскоре занимали все свободные поверхности в квартире. Годилось всё – любой назначенный живыми смысл. Мир вещей и предметов, материальный мир как будто принимал меня обратно.
Некоторое время эмоции еще вибрировали во мне, но стихли постепенно, как будто я был юлой, которую кто-то сперва усердно раскручивал, а потом отвлекся, отпустил – и она гудит и вращается всё тише, медленнее, пока, потеряв равновесие, не покатится в угол.
Снова только бессмысленность и безразличие.
Я просто не хочу его огорчать. Мне всё равно, но не Доку. Он весь состоит из боли и гнева, и весь мой тогдашний иллюзорный азарт, вся нынешняя поддельная заботливость, заставляющая меня притворяться живым, – происходят из его отчаяния. Мне кажется, он сошел с ума. Мне кажется, я – его бред. Наверное, это он и придумал, как я мог бы прикасаться к предметам, придумал всё остальное, мой способ существования и мои желания, придумал всё для меня. За меня. Я не просил. Мне не надо. Я почти уверен, что это он. Я знаю. Это его упрямство и изобретательность, его азарт, его стиль.
Временами я даже верю, что это и есть жизнь. Забываю, как обстоят дела на самом деле. Невозможно помнить о себе, что ты умер, и одновременно верить, что ты живешь. Поэтому я верю – и забываю, верю – и забываю. Я могу все или почти все, как живые. Я могу есть, пить, курить иногда, накрываться одеялом, и оно не проваливается сквозь меня, могу менять белье, носить одежду соответственно времени года, покупать, давать чаевые, могу водить машину – согласно культурному коду, могу стрелять, прыгать с парашютом, я могу всё, как живой, лишь бы помнить, символом чего является тот или иной предмет.
Я не могу прикоснуться к Доку. Он никак не становится символом. Он абсолютно и оглушительно живой, несгибаемый в своем безумии, напрочь потерявший чувство меры, отчаявшийся, неисцелимо больной, отравленный надеждой, неистребимо живой. Единственный в своем роде. Не поддающийся превращению во что-то большее. Огромный, непостижимый. Примитивней амебы: всего одна возможная реакция на мою смерть, и ничего ты с ним не поделаешь.
А я даже не знаю, любил ли я его, когда был жив. Я ничего такого не чувствую и не помню. Скорее всего, между нами ничего не было, иначе мы не остались бы в одной группе. Выходит, и это он сам себе придумал. Нет, я не обижаюсь на него и не злюсь. Я уже умер, мне всё равно. Пусть фантазирует что хочет, если ему от этого легче. Мне правда всё равно. Благодарности тоже нет и не может быть: мне не хорошо в этом его бреду. Мне уже должно быть никак, вообще никак. А мне обременительно и нудно. Иногда я слышу, как отвечаю ему раздраженно и язвительно. Возможно, во мне говорит его чувство вины. Возможно, это только его фантазии, что мне неприятно здесь оставаться. Возможно, это вообще не я. Призрак, состоящий из его снов и тщетных надежд, неисполнимых желаний и подавляемой вины. Мне не трудно выпить с ним этого темного вина, вино – символ крови, которой во мне не осталось, или, если моя догадка верна, вообще никогда не было – я только его фантазия, воображаемый возлюбленный, инкуб и суккуб его разума. Я буду есть с ним это мясо – символ необузданных инстинктов, физической стороны жизни, богатства и мужественности. Мне это ничего не стоит, ничем не грозит.
Я вижу, как он выставляет на стол слонов – дурацких елочных слонов, как он только не передавил их в карманах, за пазухой… Он говорит что-то неуловимое для меня, как будто слова звучат перпендикулярно слуху, я не понимаю его, почти не слышу его голоса. Вокруг плавится и слоится воздух, стеклянные волны катятся сквозь меня, я плохо различаю стены и посетителей кафе, как будто они остались за прожилковатым матовым стеклом. Я не понимаю, что творится: чтобы это ни было, оно не должно никак действовать на меня. Но, кажется, сейчас что-то произойдет. Док протягивает мне ладонь. Бессмысленный жест. Я устал от всего этого. В конце концов, это его бред, его фантазии. Это он сам заигрался, выбрав в воображаемые возлюбленные мертвеца. Пусть сам разбирается с последствиями, это справедливо. Я покажу ему, как всё на самом деле, пусть почувствует обжигающий холод небытия, когда мои пальца пройдут сквозь его ладонь. Тогда он, наконец, перестанет сочинять мне это нелепое и безвыходное посмертие. И я протягиваю руку навстречу его руке.
На короткий миг наши руки соприкасаются – это действительно происходит, на самом деле, и я слышу ласковое шуршание дождя в весенней листве, вспоминаю, что вода это жизнь, чувствую пепел на губах, узнаю торжествующий клекот фениксов в небе, узнаю обжигающее тепло его ладони. Целый миг я дышу, я живу. Я живу, я люблю, я надеюсь в самом сердце отчаяния – все чувства мои собственные, из меня самого. И это невыносимо больно, это разрывает меня. К счастью, это длится только один миг.
Дальше нет ничего.
Согласование измерений
Сидели, зарыв пальцы в остывающий песок, слушали, как тренькает птичка где-то в осоке на дюнах у них за спиной, смотрели на далекий закат. Тоненькие, блестящие, как перламутр и слюда, волны лениво вползали на гладкий песок, пробегали по косой и откатывались. Вся масса темно-зеленой воды стояла неподвижно, почти не дыша, как в озере. Даже не верилось, что это – море, то самое, о котором на небесах только и разговоров…
Мадлен стянула с головы смешную мохнатую шапочку, уронила руки на колени.
– Красиво.
– Да, – согласился Док.
Три дня назад, или вчера, или послезавтра – кто мог бы теперь сказать? – Док проснулся в обычное время в своей квартире в одном из высотных домов на северо-западной окраине. Будильник не был нужен, в этот день он должен был проснуться в определенное время, и он проснулся. Короткий комплекс для пробуждения, между уборной и душем, кофе, тосты. Ему нравилось выходить из душа, не вытираясь, завтракать перед открытым в небо окном, чувствовать, как легкие прикосновения ветра сушат капли на коже, как лучи греют ступни в солнечном пятне на полу, смотреть на медленное движение облаков, слушать звуки просыпающегося города далеко внизу. Он нарочно рассчитывал время пробуждения так, чтобы всегда оставались эти тихие минуты для себя самого, минуты жизни.
Он встал одновременно со щелкнувшей стрелкой таймера, или на долю секунды раньше, и программа понесла его, как может нести хороший вальс – шаг за шагом, движение за движением, расслабленно и ритмично: одеться, подхватить сумку, проверить ключи от машины и документы, выйти за дверь, повернуть ключ в замке, нажать кнопку лифта.
Он промчался сквозь город еще до утренних пробок, оставил машину на стоянке в паре кварталов от нужного перекрестка и размеренным шагом человека, спешащего по делам, но не опаздывающего, дошел до места. Старый перекресток в центре города, пять расходящихся лучами улиц, пять углов. На одном из них приютилось маленькое кафе, напротив него поднималась башня красного кирпича с круглым черным циферблатом наверху.
Док свернул в противоположную сторону и зашагал по узкому тротуару к небольшому крыльцу. Быстрый взгляд на часы на руке. Минута в минуту, как всегда. Секунда в секунду. Дверь с медной табличкой – архитектурное бюро «Максель и партнеры» – должна была открыться ровно тогда, когда Док пройдет еще два шага по тротуару и поднимется на три ступеньки. Со стороны это должно было выглядеть так, будто Док взялся за ручку, нажал ее и толкнул дверь, так что Док заранее приподнял руку, и протянул ее, и положил на ручку, и потянул ее вниз, а потом подергал, а потом слегка толкнул дверь. Но дверь не открывалась, даже ручка не опускалась вниз.
– Черт, что такое? – с точно отмеренной дозой досады в голосе, с выверенной гримасой. Отступил, огляделся, как человек, перепутавший двери, бывает, что же делать.
– Не здесь?
Прохожих не было видно, если и был наблюдатель на той стороне перекрестка, в маленьком кафе, движения Дока выглядели бы для него вполне естественно. Спустился на тротуар, порылся в карманах – какая-никакая бумажка или карточка всегда найдется. Вроде перечитал адрес, кивнул головой и бодрым шагом направился обратно к перекрестку.
Он вернулся, совершив кое-какие необходимые действия и оставив плащ и сумку в машине, намотав на шею пестрый вязаный шарф, подняв воротник пиджака, натянув перчатки, перечесав челку на другую сторону, гораздо вольнее. Да, еще очки и потертую кожаную папку. И немного ссутулиться – как бы от утреннего холода и вечного богемного недосыпа. Всё, не узнать.
В маленьком кафе на шесть столиков пахло кофе, горячими сливками, ванилью, корицей, мускатным орехом и чем-то еще, определенно знакомым, но неопределимым в общем аккорде. Тихий голос из динамиков читал что-то несусветное: то ли физика, то ли химия, то ли мистический трактат. За столиком у окна справа от входа, над высокой кружкой сидел нахохленный недопроснувшийся очкарик – почти точная копия текущей версии Дока, вернее, слепок с того же прототипа. В глубине целовалась юная парочка, видимо, вместо уроков. Док сел у окна с другой стороны от двери и заказал большую кружку кофе с шариком ванильного мороженого – как у двойника.
Он еще не понимал, что происходит, и тревога его была острой, жгучей, была холодным кипением адреналина. Что-то идет не так, но что? Прежде чем перегнать машину на другую стоянку и переодеться, он проверил два запасных входа. Там было то же самое – не совпал код на двери подъезда, на звонок ответил сонный голос, заверивший, что никакой Маринэ здесь нет и не было никогда. Телефонный звонок по аварийному номеру и вовсе остался без ответа. Случилось что-то с конторой вообще или внезапные перемены коснулись только Дока? Что делать теперь? Пытаться пробраться на базу скрытно или бежать? Наблюдать или готовиться к встрече с «чистильщиком»? И кто его пошлет – чужие или?..
Но было еще что-то, какая-то тоскливая потерянность, которая пряталась (как будто от себя самой) за этой явной и объяснимой тревогой.
Что не так? – пытался понять Док, едва находя почти неуловимые отличия от обыденности, но и они ускользали от сознания, как тени теней, оттенки оттенков. Всё совпадало – и всё было не так. Утренний воздух чуть холоднее, чем он ожидал, но погода меняется день ото дня. Город чуть тише – но не намного. Улицы чуть более пустынные, чем обычно, но в пределах статистической погрешности. Что еще? Было что-то еще?
Сверху донесся тихий, различимый скорее кожей, чем на слух, скрип, и двойной щелчок, и гулкий удар. Второй, третий… Док поднял взгляд. Часы на башне показывали ровное время – то самое, когда он должен бы подходить к крыльцу архитектурного бюро.
Дальше было очень быстро снаружи и очень много внутри. Просто одновременно Док принимал решения, и двигался, и одновременно же в нем сшибались, как встречные волны, испуг и облегчение. Он не понимал, как могло случиться, что его часы ушли так далеко вперед, он был в ужасе от того, что не обратил внимание на тишину на перекрестке, он переживал острое счастье от того, что закрытая дверь объяснялась так просто и нестрашно. Прикинув расстояние, он понял, что успеет, если немного ускорится. Он как раз здесь и шел бы сейчас, только по другой стороне улицы, ему надо только быстро выскочить из кафе и перейти через дорогу, он догонит. За стойкой никого не было. Двойник, похоже, совсем заснул над остывшим кофе, пара в глубине кафе ворковала, недоступная тревогам жестокого внешнего мира. Док вылетел из-за столика, на ходу бросил купюру, в два прыжка оказался у двери.
Ему удалось остановиться почти мгновенно. По крайней мере, он не врезался в дверь, не разбил стекло, за которым по другой стороне улицы уверенной походкой человека, который торопится, но не опаздывает, шел некто в светлом плаще нараспашку, в развевающемся шарфе, с большой кожаной сумкой на ремне.
Вот я иду, подумал Док, глядя на него. Вовремя.
И понял: что-то не так.
* * *
– Профто нет такого фпофоба. Фмирифь, Док.
– А если найду?
Ушастая пожала плечами.
Когда Док пришел на стоянку, она сидела на водительском месте. Док не удивился. Запас удивления на сегодня был исчерпан. Он просто пересадил ее на соседнее сиденье и сел за руль. Молча ждал, пока прогреется двигатель.
– Пристегнись! – и резко взял с места, вывернув руль. Упырица хохотала, катаясь по сиденью по прихоти инерции, пока Док яростно маневрировал, как будто в этом бессмысленном аттракционе мог пережечь отчаяние, усталость, безнадежность. Потом упала вниз и ругалась оттуда неразборчиво и грубо.
– Офторофно, пфих! У меня голова фарфоровая!
Вырулив на улицу, Док хулиганить перестал, поехал, как все.
Ушастая взобралась обратно на сиденье, привалилась к спинке и ехала молча, пока не увидела, что ярость в Доке иссякла, осталось мрачное упорство.
– Опять не полуфилофь?
Док промолчал. Минуты через две только спросил:
– Ты же вампир, да?
– Угу.
– Читаешь мысли?
– Угу.
– И в обратную сторону тоже можешь?
– Фто?
– А давай ты будешь говорить мне прямо в голову? Ты же умеешь?
Упырица моргнула. И заорала – прямо в голову, как предложено.
– Док, ты гений! И чего я раньше не додумалась?
– Кричать-то зачем? – сморщился Док. – Отлично слышно, очень разборчиво.
– Ну, я думаю-то нормально, клыки не мешают. Хотя могла бы и сама додуматься. С такой башкой огромной…
– Фарфоровой.
– Ага.
– А что ты не сделаешь что-нибудь… ну, с головой. Чтобы нормальная была.
– А чем тебе моя голова не нравится?
– Мне нравится. Просто интересно. Рыжая вот даже мальчиком родиться согласилась, лишь бы голову поправить. А ты не хочешь.
– А! Ну, это просто. Это всё по Фрейду.
– Это как?
Ушастая с энтузиазмом принялась болтать, лишь бы Док не погрузился обратно в пучины мрачности.
– Моя мамулечка была та еще упырица! Сколько крови она моей выпила! А всем жаловалась, что это я ее кровь пью и в гроб ее загоняю. А сама спала в гробу. Натурально. И попробуй ее оттуда вытащи, когда на закате жрать хочется, хоть сгори. А туда же: я ее в гроб загоняю. И еще вечно ворчит: какая у тебя голова большая, да какая у тебя голова большая… Вроде бы и ласково так, с заботой – а чувствуется какая-то злость, какая-то насмешка. Вот, мол, уродина ты эдакая, мать позоришь. Я, говорит, совсем другая в детстве была. Ты, говорит, на меня не похожа. Вся в отца. И в кого ты только такая уродилась, и всё такое. Причем подряд. Уж определилась бы – вся в отца или в кого уродилась.
– Я читал, у вампиров не бывает детей.
– Так чтоб родить – не бывает, ага. Кусаные только. Всё равно же получается – по крови. Ты не думай. Она меня любила. Ну, как умела. И я ее люблю. Понимаешь, Док, мне всё семейство прососало мозги на тему, как я живу не так и какая я сама не такая. Сколько надежд они на меня возлагали! Особенно мамулечка. А я все их надежды растоптала и развеяла. Склепа приличного нет, богатства не нажила, мужика не завела, птенцов не наплодила – кому я нужна такая башкастая? Умных не любят. Ну, вот я думаю: это же справедливо, если хоть в одном моя мамулечка окажется права? Сказала – большая голова, значит, большая.
– И не одиноко тебе?
– В смысле?
– Ну, говоришь, что с такой башкой никому не нужна.
– Одиноко.
– Ну, а если голову поправить… Ты симпатичная. Даже очень.
– Я знаю. Но! Мама должна быть права. Иначе мир рухнет.
– Так и страдаешь?
– А что делать-то?
– Ну, например, пойти к психотерапевту.
Ушастая смеялась до слез – хохотала в голове Дока, снаружи прыгала по сиденью и всхлипывала от восторга.
– Ну ты гений, Док, просто на всю голову больной гений! Я – к психотерапевту! Как ты себе это представляешь?
– Нормально представляю, а что? Психотерапевты – люди крепкие, их ничем не удивишь.
– Видишь ли, в чем дело, Док… Я приду – и от чего меня станет лечить психотерапевт?
– От чего скажешь, от того и станет.
– Нет, нет, тысячу раз нет. Психотерапевт меня станет лечить от того, что я кукла.
– Ну, это смотря какой. Я вот знаю одного, он фигней не занимается.
– То-то ты от него бегаешь… Уже сколько?
– Я не знаю, как сейчас время считать.
– Ты представь себе, Док, приходишь ты к своему психотерапевту, да?
– Да.
– И он такой весь готов тебе помогать переживать потерю, да?
– Ну, да. Ты к чему клонишь?
– А ты ему такой: моя проблема в том, что у меня никак не получается вернуть Клемса. У меня от этого сплошная фрустрация. Я уже и так, и эдак, полкоманды положил и обратно с того света вытянул, слонов на мироздание натравливал, с куклами договор на крови заключал… Что ты там еще делал?
– Мда. Гайюс отличный. Но если я скажу ему, что вчера держал за руку Клемса, а сегодня его опять нет… Или что я сегодня не совпал сам с собой на сорок три минуты… Он меня отправит в дурку. Или отстранит от работы с группой.
– Ха-ха-ха. Почему «или»?
– Ну ладно, тут ты права. Но ты не сравнивай. У меня всё так… неочевидно. Ну, то есть, по мне не скажешь, что всё это происходит на самом деле. Нет доказательств. А ты…
– А что я? – напряглась Ушастая.
– Ну… Ты же и в самом деле кукла. От чего тут лечить? Это же видно.
– Стой. Остановись! – повелительный голос Ушастой взорвался в голове категорическим приказом. Док надавил на газ.
– У, какой упертый, – саркастически ухмыльнулась Ушастая снаружи. – А ефли бы фпереди был феловек?
– Впереди никого не было. Я видел.
– Ладно, я тебя профу: офтанофифь. Пофалуфта.
– Говори в голове. Просто не приказывай.
– Извини. Я слегка разволновалась из-за нашего разговора. Вон там, возле магазина – останови, пожалуйста. Как раз подходящее место.
– Для чего?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































