Текст книги "Национализм и моральная психология сообщества"
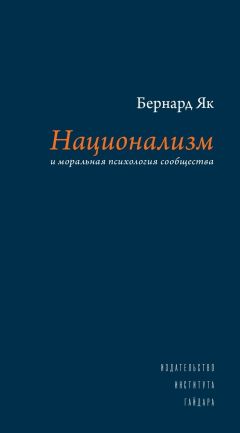
Автор книги: Бернард Як
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Люди приходят в этот мир слабыми и беспомощными, их выживание и развитие полностью зависят от тех, кто им предшествует. В силу этой зависимости неизбежно закладываются связи с представителями предшествующих поколений, очевиднее всего это происходит через наших родителей и всех, кто бы ни приложил руку к нашему воспитанию. Но поскольку человеческие существа – это культурные и социальные животные, то, дав себе труд родиться в том, а не ином месте и времени, мы также наследуем и особую смесь культурных артефактов и социальных конструкций, а не только особый набор генов. Это наследование – не меньше, чем наше происхождение от родителей, – закладывает ощущение связи с теми, кто явился в мир прежде нас.
В основе развития межпоколенческих сообществ лежит утверждение того, что средоточием взаимного попечения и лояльности для нас являются унаследованные связи с прежними поколениями. Совместные условия появления на свет считают в них предметом гордости и прославления (или по крайней мере утверждают их важность), пусть даже в выборе или формировании этих случайных обстоятельств рождения мы не играли совершенно никакой роли. Особо оговаривать, а зачастую и утверждать эти условия мы склонны по одной простой причине: они «порождают, защищают и продолжают жизнь»[162]162
Grosby, «The Verdict of History», 169; см. также: Grosby, Nationalism, 12–13.
[Закрыть]. Поскольку мы не приходим в мир, уже обладая всеми средствами для самостоятельного существования, мы склонны утверждать важность связей с другими, благодаря которым мы можем выжить и полностью развить наши способности.
Будучи наиболее привычной и знакомой формой межпоколенческого сообщества, семья заняла доминирующее положение как в риторике, так и в изучении межпоколенческого сообщества. Едва ли это удивительно. Национальные сообщества, не изобретающие предков-эпонимов, к которым, если проследить их происхождение, они и восходят, в таком случае, подобно Линкольну, апеллируют к «отцам», от которых мы приняли наше самое дорогое наследство. Но биологическое происхождение – это не единственный механизм получения совместного наследия от прежних поколений. «Подобно индивидам, нации являются продуктами наследственности и среды, хотя наследственность в данном случае кроется не в генах, а в социальном наследии, которое течет из поколения в поколение, наделяя сознание людей неким реальным содержанием»[163]163
Emerson, From Empire to Nation, 60.
[Закрыть]. Конечно, многое из того, что мы получаем в процессе культурного наследования, передается от родителей к ребенку. Однако никакая группа, подтверждающая своим согласием такое наследие, не становится тем самым родственным сообществом. Понятно же, что, даже когда мы пренебрегаем всеми прочими источниками культурного наследования, кроме родителей, та группа, с которой мы разделяем одинаковое наследие, практически всегда значительно шире того круга людей, с которыми у нас одно родословие. Предки-эпонимы почти всегда изобретаются post hoc, зачастую как раз для того, чтобы восполнить эту недостаточность. Если в национальных сообществах довлеет принятый всеми порядок межпоколенческой преемственности, то они должны являть собой нечто большее, чем сообщества общего происхождения.
Вероятно, наиболее убедительным защитником соотнесения национального сообщества с семьей является Уолкер Коннор. Он заходит так далеко, что определяет нацию как «максимально расширенную семью», «наибольшую группу людей, которая в силу чувства родства может пользоваться лояльностью индивида»[164]164
Connor, Ethnonationalism, 202.
[Закрыть]. Но действительно ли вся сила бисмарковского призыва «мыслить своей кровью», как считает Коннор, покоится на том допущении, что «в некоторую туманную, дописьменную эпоху существовали… немецкие Адам и Ева и что потомство этой пары дошло до наших дней по сути в беспримесном виде»[165]165
Ibid., 94.
[Закрыть]? Я полагаю, что нет. Даже сам Коннор признает, что нация творит свою магию вовсе не через рисование генеалогических древ, а благодаря «семейным метафорам». Если это действительно так, тогда, вместо того чтобы спрашивать, какую именно разновидность семьи образует собой нация, нам нужно задать себе вопрос, о чем говорят эти метафоры, то есть что же делает нацию похожей на семью. Метафоры родства действительно могут «превратить нечто земное и осязаемое в начиненные эмоциями фантазмы»[166]166
Ibid.
[Закрыть]. Но делают они это именно тем, что наделяют сложившиеся помимо родства связи эмоциональной силой и ощущением межпоколенческой преемственности, которые ассоциируются у нас с родословием семьи[167]167
Подобным же образом работают метафоры расы в приложении к национальным сообществам, за одним важным отличием. Зловещая изобретательность научного расизма обеспечила средство для превращения метафоры общей крови в фактическое описание мира. В случае же с иллюзией, что семейная генеалогия – это правдоподобный способ идентифицировать характер наций, ничего подобного не было.
[Закрыть]. Подобно семьям, нации строятся на общности связей между поколениями, поэтому метафоры родства и получают в националистической риторике такой сильный резонанс.
Семью можно представить, если просто проследить линии кровного родства. Мы признаем сестер, кузин или детей кузин членами нашей семьи, потому что имеем с ними общих предков, отстоящих от нас на одно, два или три поколения. Но чтобы представить нацию, вам понадобится нечто большее: память о прибытии из конкретного места, прославление неких особых деяний, хорошее знакомство с общепринятым языком или противоположение традиционным соперникам. Другими словами, нацию создает не простой образ происхождения от какого-то предка, а утверждение некоторого совместного наследия в качестве своего собственного. Подобным же образом для создания культурного сообщества вполне достаточно совместной тяги к какой-то конкретной манере самовыражаться. Но чтобы создать нацию, вам понадобится нечто большее: ощущение, что являешься частью группы, утверждающей источником связи совместное культурное наследование и передающей его будущим поколениям. Например, у английского скинхеда и оксфордского профессора мало общего в плане культурных вкусов или склонностей, не говоря уже об ощущении общего происхождения. Но они одинаково могут принадлежать национальному сообществу, коль скоро в качестве источника взаимного попечения и лояльности они утверждают общее наследие символов и преданий[168]168
См.: Canovan, Nationhood and Political Theory, 72.
[Закрыть].
Случайности рождения явно играют ключевую роль при строительстве национальных сообществ, на что намекают сами латинские корни (natio, nasci) нашего слова «нация». Но рождение не обусловливает культурное наследие в том смысле, в каком оно обусловливает биологическое происхождение. Ведь, при том что рождение совершенно однозначно определяет наше биологическое происхождение, оно всего лишь ставит нас в некоторые условия, пригодные для наследования разных культурных артефактов, а эти условия могут измениться, если, например, наши родители увезут нас в другую часть света. Другими словами, потомками рождаются, а наследников культуры производит социальный процесс передачи традиции, идущий уже после нашего рождения[169]169
Также, в отличие от членов наций, рождаются гражданами, то есть индивидами, обладающими правами и обязанностями членов политической организации. Ведь почти в каждом государстве дети граждан автоматически получают гражданство по факту своего рождения. Есть некая ирония в том, что для гражданского членства происхождение оказывается, по крайней мере в этом отношении, более серьезной вещью, чем для членства национального, учитывая, что гражданский национализм изображается как способ ставить политику выше случайностей рождения.
[Закрыть]. То, что этот процесс инициируется рождением и взрослением детей, позволяет ему казаться гораздо более естественным, чем социальные процессы, инициируемые по соглашению или приказу, – отсюда и прославление естественности национальных сообществ, содержащееся в некоторых формулировках. Как бы то ни было, этот процесс остается социальным, а не естественным процессом воспроизводства.
С учетом сказанного, в целом нации не испытывают больших трудностей в процессе самовоспроизводства. Когда дети принимают от своих родителей, соседей и учителей культурное наследие в связке с сильными чувствами взаимного попечения и лояльности, обычно для отвержения этих чувств и поддерживаемого ими межпоколенческого сообщества требуется гораздо больше усилий, нежели для их воспроизводства. Впрочем, гораздо труднее понять, как впервые появляются новые нации. И правда, коль скоро национальное сообщество вырастает из подтверждения совместного наследования от прежних поколений, то сама идея новой нации непременно будет казаться несколько парадоксальной.
Чтобы разрешить этот парадокс, нам нужно все время напоминать себе, что национальное сообщество вырастает из смешения двух элементов: совместного культурного наследования и его подтверждения в качестве источника взаимного попечения и лояльности. Лишь малая часть чрезвычайно разнообразных и пересекающихся друг с другом унаследованных культурных артефактов, которые мы разделяем друг с другом, вообще когда-либо подтверждается в качестве источника лояльности в сообществе. Кроме того, почти все время создаются и распространяются новые культурные артефакты. В результате у нас почти всегда под рукой материал для создания новых наций. Французской, бретонской, кельтской, арийской, европейской – альтернативы конечны и случайны, но их всегда много. Непрекращающаяся деятельность нациестроительства, с ее не слишком-то щадящими программами культурной консолидации и интеграции, нацелена на ликвидацию или по крайней мере уменьшение той угрозы, какую для национальных уз представляет это иное культурное наследование.
Итак, новые нации прежде всего появляются тогда, когда прежде игнорируемое, принижаемое или подавляемое культурное наследие, такое как разговорный язык, общая родина или давно умершая политическая традиция, однажды приобретает новую значимость в качестве средоточия взаимного попечения и лояльности. Хорошим примером является турецкое национальное сообщество, появившееся из распада и краха Османской империи. На протяжении всей османской эпохи не прекращалась передача из поколения в поколение турецкого языка и сказаний о турецких героях. Но они не становились главным средоточием взаимного попечения и лояльности до тех пор, пока узы общей религии и имперского правления не начали терять свою важность в качестве центра жизни сообщества.
Новые нации образуются также тогда, когда выковываются новые культурные артефакты и новые поколения-наследники подтверждают их в качестве источника связи. Естественно, так обстоит дело с нациями иммигрантов наподобие Соединенных Штатов, которые, по словам Линкольна, были «произведены на свет» отцами-основателями. Также это имеет место в случае африканских и азиатских наций, изо всех сил стремящихся превратить относительно недавние политические границы в культурное наследие, которое могло бы перевесить конкурирующие этнокультурные лояльности внутри этих границ. Из-за этой связи с декларацией политической воли межпоколенческий характер таких наций может казаться довольно поверхностным. Поэтому важно помнить, что именно так были образованы некоторые из старейших и, по-видимому, наиболее этнических наций (как, например, китайцы хань), – в данном случае за счет консолидации обширной империи более двух тысяч лет назад.
Случайность, выбор и конструирование национальных сообществНадеюсь, что предшествующее освещение вопроса, что значит быть нацией, подтвердило слова Ренана о том, что нацию создают «две вещи»: желание жить вместе и «богатое наследие» совместных воспоминаний и культурных артефактов[170]170
Renan, «What Is a Nation?», 19. [Ренан Э. Что такое нация? С. 100.]
[Закрыть]. Впрочем, говоря о роли выбора и случайности в создании наций, нам нужно быть несколько точнее, поскольку блестящее ренановское описание нации как «повседневного плебисцита» побудило многих ученых ошибочно трактовать нацию как некую добровольную ассоциацию для выражения политических и культурных устремлений.
Выбор или согласие, включенные в процесс создания наций, – это те же самые выбор и согласие, которые обнаруживаются во всех формах сообщества: субъективное подтверждение того, что у конкретной группы индивидов средоточием взаимного попечения и лояльности является именно та, а не иная форма общности. Семейные узы – не менее уз, связывающих нацию, – вырастают из подтверждения, что из всего множества одинаково разделяемых нами вещей источником взаимной связи является только что-то одно. Сам же процесс подтверждения этих связей действительно непрерывен, и без этого подтверждения сообщество не сможет существовать сколь-нибудь долгое время. Однако выражение «повседневный плебисцит» вводит нас в заблуждение, так как предполагает, будто мы явным образом регулярно задаем себе вопрос, какие же формы общности нам следовало бы утверждать в качестве источников взаимного попечения и лояльности. Такой явный и сознательный выбор – это исключение, а не правило. Мы совершаем его только тогда, когда под давлением обстоятельств нам приходится разрешать противоречия, связанные с конкурирующими требованиями верности, как это было с эльзасцами при прусском правлении, чье незавидное положение инспирировало немалую долю размышлений Ренана о том, что значит быть нацией.
Кроме того (и это переломный момент), подтверждая национальное сообщество, мы подтверждаем в качестве источника взаимной связи нечто такое, что мы приняли от других, а не избрали для себя. Американка, живущая в Париже, возможно, и знает о французской истории больше кого-то из местных уроженцев; может быть, она даже говорит на более чистом французском, однако то, что ее способности в области французской культуры совершенствовались на курсах, выбранных ею в американских университетах, еще не делает ее членом французской нации. Членами национального межпоколенческого сообщества, отмеченного славными свершениями в прошлом и имеющего открытые перспективы в будущем, мы по праву становимся благодаря общности наследия, а не потому, что обладаем специальными знаниями о содержательной стороне наследия.
Даже когда в реальном плебисците нам приходится делать явный и сознательный выбор в отношении наших национальных уз, решение, которое мы принимаем, все равно касается лишь того, какое из двух совместных наследств нам следует подтвердить. На недавних референдумах о сецессии Квебека его франкоязычные граждане оказались вынуждены решать, продолжать ли им подтверждать унаследованную ими канадскую политическую культуру в качестве источника взаимной связи с другими канадцами. Подобным же образом ренановские эльзасцы оказались в ситуации, которая вынуждала их выбирать в качестве средоточия взаимного попечения и лояльности либо политическое наследие, которое они одинаково разделяли с французами, либо наследие языковое, общее у них с немцами. На национальных плебисцитах, реальных или метафорических, нас не просят выбрать тех, с кем нам хотелось бы объединиться, – нас просят подтвердить связи, уже принятые нами от других.
Именно акцент на совместном наследии мешает с легкостью вообразить граждан-иммигрантов полнокровными членами тех наций, в чьи политии они вливаются. «Натурализация» (предоставление статуса гражданства тем, кто не получил прав гражданства при рождении) не может «натурализовать» культурное наследие иммигрантов, поскольку не может воспроизвести условия их рождения и образования. В результате иммигранты остаются вне межпоколенческих связей, которые члены их новой нации утверждают в качестве средоточия взаимного попечения и лояльности, пусть даже выбор иммигрантов в пользу членства в новом сообществе является зачастую гораздо более сознательным, нежели у тех, кто дал себе труд просто родиться в нем. Вопреки нативистским критикам иммиграции, нет никаких оснований, почему бы этому наследию не стать наследием детей иммигрантов. Более того, в большинстве наций требуется сознательное усилие, чтобы дети иммигрантов не пошли по этому пути. Но из-за того, что в основании отдельных наций лежат формы общности, которые наследуются, а не выбираются, первое поколение иммигрантов всегда будет стоять несколько вне национального сообщества[171]171
По иронии судьбы это качество они разделяют с основателями нации или поколением, основавшим нацию. Подобно иммигрантам или «новым американцам», первые американцы выбрали, а не унаследовали Америку. У них не было общего опыта наследования места в родословии. Даже сознательно участвуя в основании новой нации (чего не делало большинство основателей), они все-таки не могли быть уверены, что родословие, которое они пытались учредить, когда-либо закрепится и будет одобрено другими поколениями.
[Закрыть].
Нации, поощряющие иммиграцию (вроде Соединенных Штатов или Франции), как правило, поощряют иные, более открытые для натурализированных граждан, способы воображать сообщество. В Соединенных Штатах акцент делается на политическом сообществе и на подтверждении совместных политических принципов и практик, так называемого американского кредо, в качестве источника взаимной связи. Во Франции же, напротив, акцент сделан на культурном сообществе, на приобретении иммигрантами входного билета в виде свободного владения ключевыми практиками французской культуры. В обоих случаях на смену чему-то передаваемому только в порядке наследования, приходит что-то, что можно выбирать, – и таким образом поощряется альтернативное понимание нации как добровольной ассоциации для выражения совместных политических или культурных устремлений.
У этих альтернативных образов сообщества есть много преимуществ, не последним из которых является тот способ, которым они облегчают интеграцию граждан-иммигрантов в политическую жизнь и гражданское общество. Однако не стоит их путать с теми взаимными связями, которые закладываются нациями и вырастают из нашего подтверждения совместного культурного наследия. Свою состоятельность нация (или как вам угодно называть описанную в этой главе форму сообщества) являет, когда мы подтверждаем, что у нас одно место в ряду наследников и предшественников. Другие же образы сообщества в гораздо большей степени ориентируются на настоящее, сосредоточиваясь не на славе минувших дней или будущих перспективах, а на совместных политических убеждениях или культурной практике. Чтобы вдохновить своих членов, нации не нужно апеллировать к общей крови или происхождению. Но она не может состояться без совместного наследия и тех «таинственных струн памяти», которые в нем звучат. Рано или поздно оказывается, что даже самые либеральные защитники нации касаются этих струн, сопровождая этим перебором свои апелляции к политическим принципам.
Учитывая сказанное, наш выбор явно играет очень большую роль в этом нескончаемом процессе построения национальных наследий из сырья совместных культурных наследств и воспоминаний. Четкие границы, позволяющие не перепутать разные линии культурного наследования, являются продуктом не только традиции и привычки, но и организованного вмешательства. Ведь очень разные группы людей могут прослеживать свою связь с одними и теми же опытами и достижениями в истории. В результате оказывается, что они часто конкурируют за одно и то же наследование, как, например, нынешние македонцы и греки, ссорящиеся из-за права апеллировать к наследству Александра Македонского. В то же время во многих разных линиях культурного наследования может найтись место для одной группы людей, и это означает, что процесс нациестроительства обычно опирается на сознательные усилия по интеграции и стабилизации самобытных линий культурной последовательности. Следовательно, организации, особо заинтересованные в нациестроительстве (например, культурные общества и современные государства), зачастую встают во главе попыток превратить размытые линии нашего культурного наследования в отчетливые и легко опознаваемые узоры[172]172
Интересное обсуждение необходимости заполнять временные разрывы в национальном наследии для поддержания ощущения преемственности см. в: Roshwald, The Endurance of Nationalism, 58.
[Закрыть].
Культурное наследие неизбежно включает разные и не согласующиеся элементы, поскольку оно формировалось случайным образом, прирастая по частям в течение долгого времени. Скажем, в любом споре об истинной Франции или подлинной Индии увековечивание памяти о первых поколениях неизбежно дает преимущество тем, кто желает, чтобы мы чтили свои корни, а то и возвращались к ним. Но раз эти люди все равно увязывают существование своей нации с каким-то предполагаемым закладыванием основ, пусть тогда честно признают, что утрата нацией своего изначального характера расценивается ими не как конец нации самой по себе, а как конец той нации, которую они знают и любят. Ведь у наций нет конституции, нет никакого изначального организующего принципа, определяющего условия их существования. Таким образом, они представляют собой площадку для нескончаемых споров о том, что чтить или на чем делать особый акцент – а что оставлять без внимания – в пределах данной линии наследования, споров, в результате которых эта линия неизбежно становится то толще, то тоньше.
Я не буду вдаваться в подробности этих споров о том, как конструировать содержание национальных наследий, так как в наше время они находятся в центре внимания весьма многих превосходных научных работ. Здесь же мне хотелось бы привлечь внимание к обстоятельству, когда эти споры часто обусловлены метанием между двумя способами воображать сообщество, которые обсуждались в предыдущей главе: сосредоточиться на конкретных формах общности как способах связывания с другими и задать самим себе вопрос, что же мы разделяем с теми людьми, с которыми чувствуем себя связанными. Осознав самих себя в качестве американцев, немцев или иранцев, мы часто оказываемся перед вопросом, что же на самом деле связывает нас с другими членами сообщества. В такие моменты мы часто начинаем рыться в относительно новых или ранее игнорируемых частях нашей коллекции унаследованных артефактов и воспоминаний в поисках чего-то, что, возможно, придало бы текущей ситуации более значимый смысл. Если искомое будет найдено, мы, возможно, предъявим новые образы национального сообщества, конкурирующие со старыми и хорошо знакомыми. Или, как порой бывает, это может привести к нашим попыткам целиком изменить свою концепцию сообщества, с утверждением, что на самом деле нас связывает не совместное наследование конкретных практик и воспоминаний, но, скажем, общий для нас расовый состав, общие нам религиозные верования или общие нам политические принципы[173]173
Интересные примеры из китайской и немецкой истории см. в: Duara, Rescuing History from the Nation, 37.
[Закрыть]. Таким образом, полемика о том, что же конституирует национальное сообщество, может вызвать утверждения, превращающие национальное сообщество в сообщество расовое, религиозное или политическое.
Одним из самых важных актов выбора, влияющих на облик наций, является та идентификация людей, групп и пережитого опыта, которую мы трактуем как начало новых линий культурного наследования. Как и все межпоколенческие сообщества, нации делают особый акцент на преемственности во времени, передаче опыта и достижений одного поколения дальше к другим. Но, как и в случае всех межпоколенческих сообществ, меньших, чем человеческий род, «рождение» наций требует не только учреждения и поддержания межпоколенческих связей, но и нового начала, разрыва с прошлыми поколениями. Поскольку же каждый человек или поколение обладает какими-то связями с предыдущими поколениями, нам приходится конструировать эти разрывы преемственности во времени, вместо того чтобы просто обнаруживать их в исторических записях[174]174
Zerubavel, Time Maps, 8, 93.
[Закрыть]. Обычно мы конструируем эти разрывы во временной преемственности, сосредоточиваясь на важности некоторых особенно примечательных действий или испытаний в жизни членов групп, бывших прежде нас. Завоевания и поражения, иммиграция и изгнания, объединения в одно и выход из состава, основания и крушения политических образований – все это тот совместный опыт, на который мы чаще всего полагаемся (и который увековечиваем в памяти), чтобы отметить начало новых линий культурного наследия. Провести четкие различия между этими линиями мы можем, только трактуя такой опыт как место разрыва с прошлым. Таким образом, есть некое ощущение, согласно которому мы выбираем своих национальных предков.
Выбор предков, как бы парадоксально это ни звучало, сам по себе вовсе не такое уж необычное или диковинное осуществление нашей свободы. Ведь мы все время делаем такой выбор, когда строим семьи. Все же, если бы общее происхождение было достаточным признаком членства в семье, нам пришлось бы сделать вывод, что все мы являемся членами группы семей, покинувшей Африку сто тысяч лет назад и породившей различные ветви человеческого рода. Семьи слагаются из индивидов, претендующих на общее происхождение от кого-то, кого они выделили из череды поколений, рассматривая его в качестве основателя новой семейной линии[175]175
Ibid., 63–64.
[Закрыть]. Порой идентификация таких людей – это всего лишь отражение пределов нашего знания: нами просто потеряны все следы, скажем, родителей наших дедов и бабок. Но не менее часто здесь отражается увязывание наших родоначальниц и родоначальников с некими особенно примечательными добродетелями или опытом, не говоря уже о традициях и организованных усилиях, заставляющих особым образом конструировать происхождение, акцентируя, например, патрилинейность в противовес матрилинейности.
Идентификация и поминовение индивидов и групп в качестве национальных предков поощряет нас анахроничным образом вменять им наше собственное ощущение национального сообщества. Мы проецируем на них свое собственное утверждение того культурного наследования, которому помогли начаться их действия, даже при том что зачастую они демонстрировали безразличное или даже враждебное отношение к той национальной группе, с которой оно нас теперь связывает. Вот так в смерти князя Лазаря в сражении против турок видят жертву за сербскую нацию, а в беспощадном империализме императора Циня – выражение борьбы китайцев за национальное единство.
Действительно, если моя аргументация в этой главе верна, то вменение национального сознания группам, воображаемым в качестве поколения основателей новых наций, всегда будет анахронизмом. Ведь даже если эти первые поколения сознательно берутся основывать новые нации, у них нет одной вещи, которую они должны одинаково разделять, – рецепции той новой линии наследования, которая становится возможной благодаря их усилиям. В любом случае, вместо того, чтобы стремиться основать такое сообщество, большинство пыталось сделать что-то совершенно иное: забрать соседние земли, уйти от локального преследования, создать новую религиозную секту, объединить воюющие племена и так далее. Что бы они ни сделали, вдохновив более поздние поколения относиться к ним как к основателям новых наций, это не было результатом утверждения ими национального наследия, если, конечно, они не утверждали совместное наследие, доставшееся от другой нации, более ранней и отличной от той, возникновение которой они вдохновили своими действиями. Часто эти группы вообще не принимали форму сообществ, тем более сообществ национальных. Порой они оставляют свой след, например, вводя новые формы политической или религиозной организации, выступая представителями новых церквей или монархов, но только не обеспечивая новых форм сообщества. Кем бы они ни являлись, они, однако, не были членами того нового национального сообщества, которое, говоря ретроспективно, было вдохновлено их действиями. Конструирование национального сообщества неизбежно подразумевает идентификацию и увековечивание в памяти групп основателей, которые своей известностью и ролью основоположников в национальных родословных обязаны чему-то, что зачастую имеет слабое отношение к ассоциируемым с ними нациям. Их опыт и достижения, привязанные к империям, сектам, более древним нациям и т. п. неким набором коммунальных или организационных уз, дают начало совсем другому набору коммунальных уз, когда более поздние поколения обращаются к ним в памяти как к совместному наследованию.
Все же могло бы показаться, что, говоря о нашей способности выбирать даже своих национальных предков, я трактую облик нации в качестве объекта предпочтений. Поэтому важно отметить, что мы редко оказываемся в состоянии следовать своим предпочтениям и действительно выбирать, как конструировать культурные родословные. Почти все дошедшие до нас культурные артефакты и опыт сопряжены с именами конкретных сообществ и организаций, будь то национальных или же иных, с именами, которые мы заучиваем и которые служат путеводителями не только в географии пространства, но и в географии времени. Без сомнения, мы всегда в состоянии деконструировать то, каким образом человеческий опыт, словно добыча, поделен между этими именами и как ими в памяти увековечены незначительные или недостойные предки. Но поскольку национальные сообщества, как и все другие сообщества, в какой-то степени полагаются на взаимное попечение и лояльность, недостаточно просто указать на произвольный характер национальных делений, если мы заинтересованы в их перестройке; нам понадобится найти альтернативы, которые достаточно хорошо сообразуются с опытом других, чтобы они признали это общим основанием для социальной дружбы. Именно поэтому борьба за конструирование национального сообщества обычно сосредоточивается не на разрушении старых и создании новых линий национального наследия, а на том, какие акценты сделать в пределах существующих линий или же на том, как выбрать между разными линиями, к которым у нас есть доступ в текущий момент. Итак, нации и вправду конструируются или воображаются, но они конструируются или воображаются людьми, пытающимися придать смысл совместным межпоколенческим связям, которые были ими получены, а не выбраны.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































