Читать книгу "Национализм и моральная психология сообщества"
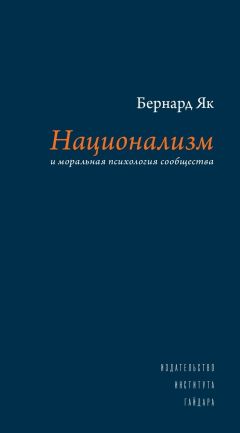
Автор книги: Бернард Як
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Объяснение и оценка
И напоследок еще одно замечание вводного характера. Сочетание в этой книге объяснительной и нормативной аргументации относительно необычно, по крайней мере в литературе по национализму. Политические и моральные философы в целом сторонились первой, тогда как социальные теоретики и знатоки сравнительной политологии и истории неохотно обращались ко второй. Впрочем, я полагаю, что при осмыслении воздействия национализма на современную политическую жизнь нам нужно совмещать объяснение и оценку.
Потребность в этом, вероятно, наиболее ясна, когда преследуется решение нормативных и практических вопросов. Поскольку относительно того, что значит быть нацией и в чем природа национализма, ничто и отдаленно не напоминает ученый консенсус, любое нормативное обсуждение этого предмета покоится на потенциально противоречивых объяснительных утверждениях – даже если эти утверждения и спрятаны в невинно звучащих определениях. Ситуация, когда допущения, упакованные в определения нации и национализма, остаются вне рассмотрения, поощряет появление нормативных рекомендаций, которые часто не относятся к делу, поскольку ими игнорируются или затемняются те практические проблемы, которые действительно стоят перед нами[35]35
Подобную аргументацию см. в: Gilbert, Philosophy of Nationalism, 1, а также Poole, Nation and Identity, 7.
[Закрыть]. Поэтому нормативное изучение национализма крайне нуждается в чем-то подобном тому более реалистическому подходу к политической морали, который недавно отстаивал Бернард Уильямс и другие[36]36
Williams, In the Beginning Was the Deed, 1–3. Обзор различных способов апеллирования к понятию реализма у политических теоретиков недавнего времени см. в: Galston, «Realism in Political Theory», 385–411.
[Закрыть]. Данный подход, которому я следую на протяжении этой книги, настаивает на том, что наше понимание проблем политической морали проистекает не из приложения к политической жизни независимо полученных моральных принципов, а из анализа уникальных социальных отношений, структурирующих политическую жизнь[37]37
Хотя Уильямс проводит различие между «реализмом» и «морализмом» в политической теории, он явно отстаивает какой-то особый подход к пониманию политической морали, а не сбрасывает со счетов значение морали для политики, как это происходит в более известных трактовках политического реализма. С его точки зрения, проблема политического морализма не в том, что он задает моральные вопросы, а в том, что он задает неправильные моральные вопросы.
[Закрыть].
Но потребность в интеграции объяснительного и нормативного анализа не менее велика, когда мы пытаемся осмыслить национализм, чем когда мы пытаемся придумать, что же с ним делать. Объяснительные теории, не рассматривающие нормативные допущения, которые встроены в эмпирические категории (например, дихотомию между гражданскими и этническими нациями), поощряют распространение неточных, а случается, и заведомо необъективных представлений о том, как устроен мир. Помимо этого, объяснительным теориям национализма нужно не терять контакт с нормативным анализом, чтобы идентифицировать те социальные силы, которыми они интересуются в первую очередь. Ведь, как я пытаюсь показать в части I, если мы хотим понять, что же делает национализм такой могучей силой в нашей жизни, нам нужно хорошо понять, каким образом люди начинают печься о благополучии друг друга. Национализм, как я здесь предполагаю, в немалой мере является продуктом моральной предрасположенности, причем особо сложным продуктом. Мы не сможем надлежащим образом объяснить его появление и воздействие на современную политику, если мы не готовы выйти за пределы индивидуальной психологии интересов, идентичности и принадлежности и рассматривать моральную психологию взаимного попечения и лояльности в связи с отношениями в сообществе.
Вместе с тем я должен отметить, что даже во второй части книги мой подход является больше диагностическим, нежели предписывающим. Ввиду продолжающегося насилия, сопряженного с этнической ненавистью и националистическими конфликтами, поиск решений наших проблем становится совершенно безотлагательным делом. Однако сообразить, перед какими проблемами мы оказываемся, для любого морального или политического теоретизирования хорошего уровня уже значит выиграть полбитвы. Ведь решения, которые не решают стоящие перед нами реальные проблемы, в конце концов вообще не имеют большого толка. Тем же, кто справедливо указывает на неотложность решения этих проблем, я могу сказать только одно: не спешите, в ближайшем будущем они никуда не денутся.
Часть I
Глава 1. Миф гражданской нации
Знатоки национализма посвятили много времени и энергии развенчанию мифов, преувеличивающих особые достоинства и древность наций. Но, развенчав один набор таких мифов, они неосмотрительно вдохнули новую жизнь в другой – мифы, преувеличивающие нашу независимость от случайностей рождения и культурного наследия. Один из этих мифов, который я называю мифом гражданской нации, разделяется многими западными интеллектуалами и политиками. Он предполагает, что в либерально-демократических государствах на смену культурному наследию в качестве основания политической солидарности пришли свободно выбранные принципы. Если бы мы только могли, гласит аргумент, убедить сербов – или косоваров, или индусов, или квебекцев – заменить их представления об этническом или культурном единстве нашими представлениями о гражданской солидарности, то национализм перестал бы по необходимости разжигать этническое насилие и нетерпимость.
Впрочем, у этого изображения либеральных демократий как исключительно гражданских сообществ есть три крупные проблемы. Прежде всего, оно превратно трактует историю. Либерально-демократические государства, такие как Франция, Канада и Соединенные Штаты, возможно, и стали относительно открытыми обществами, предлагающими права гражданства всем людям, но начинали они не с этого. Каждый раз все начиналось с ограниченных сердцевинных сообществ (core communities) – будь то сообщества белых, католиков, британцев или европейцев, – которые затем расширялись вовне[38]38
В результате, когда мы уговариваем националистов, скажем в Боснии или Ираке, следовать нашему примеру и основывать нации исключительно на базисе совместных политических принципов, мы фактически убеждаем их сделать то, чего мы сами никогда не делали. Обзор недемократичных истоков так называемых гражданских наций см. в: Marx, Faith in Nation, 114, 167–168 и далее.
[Закрыть]. Вторая и более важная проблема: возвеличивание гражданского национализма вводит нас в заблуждение, представляя образ либерально-демократических сообществ в их нынешнем состоянии, а не в том состоянии, в каком они были в старые скверные дни своего прошлого. Как бы у граждан эти сообщества ни ассоциировались с неким набором политических принципов, каждая из этих наций получает свою идентичность из наследия, сопряженного с их историческим своеобразием. И наконец, даже если бы современным либерально-демократическим сообществам пришлось трансформироваться в исключительно гражданские нации, этой трансформацией вводились бы разные формы исключения и нетерпимости, столь же мощные, что и те, которые эти сообщества пытались упразднить. Вот так миф гражданской нации дает неверное представление о ценности, равно как и о существовании, той формы сообщества, которую он же и славит.
Живучесть таких мифов затрудняет признание той высокой роли, какую в политической жизни современности играет межпоколенческое сообщество. Поэтому-то моя книга и начинается обстоятельной критикой, которой я подвергаю миф гражданской нации.
Гражданская нация и миф о нейРазличение этнических и гражданских наций – это наиболее позднее из длинного ряда более или менее параллельных различений, которыми ученые пользуются для концептуализации разных форм бытия нацией: восточный/западный национализм[39]39
Kohn, The Idea of Nationalism, 574ff. Более тонкую версию этого различения см. в: Plamenatz, «Two Types of Nationalism».
[Закрыть], этнос/демос[40]40
Francis, Ethnos und Demos, 60–122.
[Закрыть], культурные/политические (или «государственные») нации[41]41
Meinecke, Cosmopolitanism and the National State, 9–12. Это различение недавно было возрождено Хаимом Гансом (Gans, The Limits of Nationalism).
[Закрыть], немецкое/французское понимание того, что значит быть нацией[42]42
См.: Renan, «What Is a Nation?» [Ренан Э. Что такое нация?], а также: Dumont, German Ideology.
[Закрыть]. Эти концептуальные различения разрабатывались, чтобы помочь осмыслить целый ряд легко наблюдаемых фактов относительно наций и национализма. Некоторые национальные сообщества, такие как Соединенные Штаты, Канада и большинство африканских наций, своими истоками обязаны учреждению государства, тогда как о других, таких как немецкая или чешская нация, с полным правом можно утверждать, что они предшествовали тем государствам, с которыми теперь ассоциируются. У каких-то наций, таких как Франция или Канада, их характер больше проистекает из политических идеалов, практик и символов, нежели у других, таких как Япония или Италия. Одни нации, такие как Германия, больше полагаются на происхождение от предшествующих представителей данного сообщества, чем другие, такие как Франция или Соединенные Штаты, распространяющие членство на людей, рожденных в пределах национальной территории, равно как и на детей, родившихся у членов этого сообщества. Наконец, в этих различениях отражаются два способа употребления в повседневном языке термина «нация»: один, чтобы указать на различимое в культурном отношении межпоколенческое сообщество, и другой, чтобы охарактеризовать те политические сообщества, которые соотносятся с современными государствами (как в выражениях наподобие «Организация Объединенных Наций»).
Но различение между этническими и гражданскими нациями, как и все ему предшествовавшие, разрабатывалось, чтобы служить не только описательным, но и нормативным целям. Другими словами, оно разрабатывалось, чтобы помочь отличить более ценные или приемлемые формы национализма от форм менее привлекательных. Национализм ассоциируется с некоторыми лучшими и худшими чертами современной политической действительности, с нападками на тиранию и империализм, равно как с примерами величайших жестокостей, которым когда-либо подвергались люди. Было бы гораздо проще, если бы все хорошее мы могли приписать одной форме национализма, а все плохое – другой. Некоторые прежние исследователи, такие как Фридрих Мейнеке, проводили различие между культурным и политическим национализмом, чтобы восславить превосходящую глубину первого[43]43
Meinecke, Cosmopolitanism and the National State, 9–12.
[Закрыть]. Впрочем, сегодня большинство ученых, как правило, благоприятно смотрят на политическую или гражданскую сторону этих дихотомий. Они проводят различие между гражданским и этническим пониманием того, что значит быть нацией, чтобы национальная солидарность равнялась на либеральные идеалы и институты, ассоциирующиеся у них с достойным политическим строем.
Книга Майкла Игнатьеффа «Кровь и принадлежность» дает превосходную иллюстрацию этой двойственности, с какой используется различение гражданских и этнических наций. Игнатьефф, по его же собственным словам, космополит – а как еще, спрашивает он, назвать человека, «чей отец родился в России, чья мать родилась в Англии, кто получил образование в Америке и чья трудовая жизнь прошла в Канаде, Великобритании и Франции?»[44]44
Ignatieff, Blood and Belonging, 11. Это было написано еще до того, как Игнатьефф собирался стать лидером канадской Либеральной партии.
[Закрыть] Однако он признает, что космополитизм – это вариант, реальный только для довольно привилегированной прослойки граждан богатых индустриальных обществ. И даже их безопасность покоится на том, что права гражданства, на защите которых стоит нация, они считают чем-то само собой разумеющимся.
Соответственно, Игнатьефф и не отрицает, что нарисованная Просвещением картина космополитического мирового общества, состоящего из рациональных индивидов, – картина, с которой он согласен, – не может быть реализована в современном политическом мире, по крайней мере в обозримом будущем. Современным индивидам, утверждает он, для поддержки самих же прав и свобод, по-видимому, необходимо ощущение принадлежности к национальному сообществу из страха перед тем, что силились создать просвещенческие космополиты[45]45
Ibid., 11–13.
[Закрыть]. Но политическое наследство Просвещения может сохраниться только в гражданской нации, которую Игнатьефф мыслит как «сообщество равных, наделенных правами граждан, единых в патриотической преданности совместному набору политических практик и ценностей». Гражданская нация, утверждает Игнатьефф, представляет собой сообщество, созданное в результате выбора, совершенного индивидами в пользу какого-то конкретного политического мировоззрения. Как таковая она относительно совместима с наследством просвещенческого рационализма и индивидуализма, поскольку превращает «национальную принадлежность в некую форму рациональной привязанности». Этнический национализм, напротив, не приемлет это наследство, так как настаивает на том, что «глубочайшие привязанности индивида наследуются, а не выбираются», что «не индивиды определяют национальное сообщество, а национальное сообщество определяет индивида»[46]46
Ignatieff, Blood and Belonging, 7–8. В подобном же русле (в качестве одной из форм принципиального индивидуализма) англо-американский национализм описывается Лией Гринфельд. См.: Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, 31. [Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. С. 33.]
[Закрыть]. Или же, по словам Ганса Кона, одна форма национализма «обращена к будущему» и выражает «рациональную и универсальную концепцию свободы», тогда как другая обращена к «истории, памятникам и кладбищам» и выражает своего рода «племенную солидарность»[47]47
Kohn, The Idea of Nationalism, 574. Подобная аргументация используется в защите гражданского национализма Богданом Деничем (Bogdan Denitch, Ethnic Nationalism: The Tragic Death of Yugoslavia), в различении англо-американской и континентальной форм национализма Лией Гринфельд (Liah Greenfeld, Nationalism) и в защите Доминик Шнаппер идеи гражданской нации, в которой она пытается доказать, что «само понятие этнической нации является противоречием в терминах» (Dominique Schnapper, La communauté des citoyens: Sur l’idée moderne de la nation, 24–30, 95, 178).
[Закрыть].
Всякому, кто хоть сколько-то симпатизирует либеральным, космополитическим взглядам, трудно отбросить такие аргументы. Тем не менее я скептически отношусь к тому, чтобы подобным образом характеризовать разницу между гражданским и этническим национализмом. Когда выходит, что мы все делаем рационально, по собственной воле и хорошо, а они – под влиянием эмоций, унаследованных стереотипов и плохо, в этот момент нам следует сильно насторожиться. Это выглядит уж слишком хорошо, чтобы быть правдой, уж слишком похоже на то, как нам хотелось бы думать о мире. Несмотря на то что эту схему гражданского национализма придумывали, чтобы защитить нас от опасностей этноцентричной политики, сама она представляется довольно-таки этноцентричной, поскольку она, по-видимому, не учитывает тот факт, что политические идентичности, подобные французской или американской, также являются культурно унаследованными артефактами[48]48
Действительно, идея гражданской нации, с ее изображением сообщества как совместного и рационального выбора общезначимых принципов, сама является культурным наследием в нациях, подобных Франции или Соединенным Штатам. Одним из аспектов французской и американской политических идеологий является то, что они свою собственную культурную наследственность изображают общезначимым объектом рационального выбора. См.: Dumont. German Ideology, 3–4, 199–201.
[Закрыть]. В конце концов, полагаю, что она представляет собой всего-навсего сочетание самохвальства и принятия желаемого за действительное.
«Гражданские» идентичности, подобные канадской, – это такой же унаследованный культурный артефакт, как и «этнические» идентичности вроде квебекской[49]49
Похожую критику использования Игнатьеффом идеи гражданского национализма см. в: Kymlicka, «Misunderstanding Nationalism». Другие недавние критические замечания об идее гражданского национализма см. в: B. C. J. Singer, «Cultural versus Contractual Nations», и Spencer and Wollman, «Good and Bad Nationalisms».
[Закрыть]. Жители Квебека, считающие своим политическим сообществом не Квебек, а Канаду, вместо одной унаследованной локализации идентичности выбирают другую. Возможно, они делают этот выбор, потому что они убеждены, что канадское правительство лучше будет защищать определенные политические принципы, но сами по себе эти политические принципы не определяют Канаду. Канада – это случайное место, где эти принципы локализованы, место, к которому прилагается разнообразный багаж унаследованной культуры: связь с Великобританией и британской политической культурой, история трений и сотрудничества носителей французского и английского языков, двойственное отношение к могучему южному соседу Канады и так далее.
То же самое верно и когда объектами идентификации выступают Соединенные Штаты и Франция. Сколько бы они ни отстаивали определенные политические принципы, каждая нация нагружена при этом унаследованным культурным багажом, сформировавшимся благодаря случайному своеобразию своей истории. Это не значит, что мы обязаны верить в образ «истинной» Франции или Соединенных Штатов, который некоторые разыскивают в исторических документах. Совместные идентичности постоянно находятся в процессе развития и интерпретации. Заявления о нашей «подлинной» или «изначальной» идентичности – это чаще всего способ покончить со спорами, касающимися интерпретации нашего сложного и зачастую противоречивого культурного наследства[50]50
См.: Lebovics, True France, а также: R. Smith, Stories of Peoplehood. Между прочим, обращение к изначальным политическим принципам выполняет точно такую же функцию, что и обращение к культурным истокам, когда хотят закрыть дискуссию о смысле своего политического сообщества. Противники мультикультурализма, как, например, Артур Шлезингер (Arthur Shlesinger, The Disuniting of America), часто таким образом используют обращение к изначальным принципам вроде e pluribus unum [из многого единое (лат.), слова Цицерона, используемые на гербе США. – Прим. пер.].
[Закрыть]. Но даже допуская, что совместные идентичности, такие как французская и американская, – это всего-навсего площадки для идеологических столкновений и социального конструирования, мы не можем отрицать, что сами эти площадки являются культурными артефактами, унаследованными нами от предшествующих поколений.
Либеральные теоретики иногда высказываются в том смысле, будто государство должно держаться от соперничающих культур на таком же огромном расстоянии, на каком оно держится от соперничающих религий. С этой точки зрения либеральное государство не должно «быть на стороне какого-то конкретного свода моральных, религиозных или культурных убеждений (а тем более проводить их в жизнь), за исключением тех, которые, как, например, верховенство права, внутренне присущи самой его структуре. Его функция состоит в том, чтобы обеспечить властный каркас и свод законов, в рамках которых индивиды вольны жить так, как они [хотят]»[51]51
Parekh, «The “New Right” and the Politics of Nationhood», 39.
[Закрыть]. Но либеральные государства не могут так же дистанцироваться от культуры, как порой они отстраняются от религии, хотя бы только потому, что они должны пользоваться культурным инструментарием и символами для организации, отправления и передачи политической власти[52]52
Kymlicka, «Sources of Nationalism», 58. См. также: Francis, Ethnos und Demos, 104, с аргументами о том, что национальное государство – это еще обязательно и культурное государство.
[Закрыть]. Поэтому государства не могут обеспечить нас свободными от культуры площадками для конструирования чисто политической идентичности. Политические идентичности, даже когда их ядром являются государства, в определенной мере обязательно принимают форму унаследованных культурных артефактов.
В основе политической идентичности французских, канадских или американских граждан не лежит набор рационально выбранных политических принципов. Неважно, с какой симпатией жители Соединенных Штатов могли бы относиться к политическим принципам, которым благоволят большинство граждан Франции или Канады, им и в голову не придет считать себя поэтому французами или канадцами. Для многих граждан современных либеральных демократий преданность определенным политическим принципам, возможно, и является необходимым условием лояльности национальному сообществу, но она далеко не достаточное условие для этой лояльности.
Возможно, и есть смысл противопоставлять нации, у которых лейтмотивом отличительного культурного наследования являются политические символы и предания, нациям, лейтмотивом культурного наследования которых выступают язык и предания об этнических истоках. Однако интерпретировать это противопоставление как различение между рациональной привязанностью к принципам и эмоциональным возвеличиванием унаследованной культуры неразумно и нереалистично. Чтобы отзываться о «национальной принадлежности [как о] некоей форме рациональной привязанности»[53]53
Ignatieff, Blood and Belonging, 7–8.
[Закрыть], надо закрыть глаза на случайный порядок наследования характерного опыта и культурных воспоминаний, которые неотделимы от всякой национальной политической идентичности. Надо сделать вид, будто такие нации, как Франция, Канада и Соединенные Штаты, имеет смысл характеризовать в качестве добровольных ассоциаций для выражения совместных политических принципов. Таков миф гражданской нации.
Сторонники этого мифа часто приводят известнейшие слова Эрнеста Ренана, описывающие нацию как «повседневный плебисцит», – слова, которые, казалось бы, указывают, что источником национальной идентичности является индивидуальное согласие. Но они редко замечают, что это высказывание представляет собой лишь половину ренановского определения нации. «Две вещи», настаивает Ренан, образуют нацию.
Одна лежит в прошлом, другая – в настоящем. Одна – это общее обладание богатым наследием воспоминаний, другая – общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством. ‹…› Нация, как и индивидуумы, – это результат продолжительных усилий, жертв и самоотречения[54]54
Renan, «What Is a Nation?», 19. [Ренан Э. Что такое нация? С. 100.]
[Закрыть].
Для Ренана нация – это, возможно, и повседневный плебисцит, вот только на голосовании стоит вопрос, что же нам делать с этой смесью соперничающих символов и преданий, составляющих нашу культурную наследственность. Без «богатого наследия воспоминаний» такая вещь, как лояльность сообществу, просто не выносилась бы на обсуждение и голосование[55]55
Маргарет Канован тоже замечает эту некорректность Ренана (Canovan, Nationhood and Political Theory, 55). См. также: Emerson, From Empire to Nation, 148. О фиксации Ренана на «почитании предков» см.: Thom, «Tribes within Nations», 23.
[Закрыть].
Ренан не говорит, будто есть две разновидности нации: одна, которая зависит от субъективно подтвержденного согласия своих членов, и другая, которая зависит от более объективных критериев. Нет, он говорит, что каждая нация – признает она это или нет – полагается и на субъективно подтвержденное согласие, и на культурное наследие. С этой точки зрения гражданское изображение нации, согласно которому национальное сообщество является формой рациональной привязанности к свободно выбранным принципам, столь же неверно, как и этническая или «немецкая» идея нации, согласно которой бытие нацией объективно характеризуют язык или происхождение, неважно, какая идентичность утверждается субъективно[56]56
Сетование Ренана на «немецкое» понимание того, что значит быть нацией (согласно которому верность эльзасцев должна была принадлежать Германии, вопреки тому, что они явным образом отождествляли себя с Францией), обусловлено не отсылкой к культурному наследованию как источнику бытия нацией, а тем, что это понимание аннулирует в бытии нации компонент выбора. Это представление о бытии нацией не позволяет эльзасцам сосредоточиться на наследстве французских традиций, которое, как и немецкий язык, составляет часть их культурной наследственности. Для Ренана нация вырастает из того выбора, который мы совершаем в рамках нашей культурной наследственности.
[Закрыть]. Представители каждой нации, говорит Ренан, проводят повседневный плебисцит, на котором избирательно подтверждают какие-то конкретные составляющие своего культурного наследия.
Если Ренан прав (а я полагаю, что это так), то строгая дихотомия между этническими и гражданскими нациями соответствует не двум способам организации фактически существующих сообществ, а двум мифам или двум односторонним мнениям о том, что значит быть нацией. Миф этнической нации гласит, что в процессе создания вашей национальной идентичности у вас вообще нет никакого выбора: вы – это только то, что вы унаследовали от предшествующих поколений, и ничего больше. Миф же гражданской нации, напротив, гласит, что ваша национальная идентичность – это исключительно ваш выбор: вы – это те политические принципы, которые вы разделяете с прочими единомышленниками. В противоположность этому действительные нации сочетают выбор и культурное наследие.
Миф гражданской нации – это миф согласия. Он создает неверное представление, будто избирательное подтверждение унаследованных политических принципов и символов есть некий совместный выбор по поводу того, как нам наилучшим образом осуществлять самоуправление. Другими словами, он предполагает, что в гражданских нациях воедино нас сводит то, что мы соглашаемся неким образом организовать нашу политическую жизнь, в отличие от случая, когда мы утверждаем унаследованные политические идеалы и институты. При этом межпоколенческое сообщество нации он превращает в добровольную ассоциацию, служащую для выражения совместных политических принципов. Ведь даже нации, основанные на явном соглашении, закрепленном, например, в Декларации независимости или Клятве Федерации[57]57
Клятва верности Французской федерации, произнесенная на Марсовом поле 14 июля 1790 года. – Прим. пер.
[Закрыть], продолжают существовать благодаря тому, что последующие поколения утверждают наследие, воспринимаемое ими от основателей наций.
Напротив, миф этнической нации – это миф происхождения. Он создает неверное представление, будто совместное подтверждение чего-то, что составляет часть нашей совместной культурной наследственности, есть факт рождения. При этом он игнорирует избирательность, приводящую к тому, что в качестве источника взаимных связей с другими мы подтверждаем совместное происхождение, а не что-то еще из того многого, что мы разделяем с людьми вокруг нас. Кроме того, им игнорируется то, каким образом даже в утверждении нашей совместной линии предков присутствует избирательное утверждение той, а не иной составляющей нашего культурного наследия.
В конце концов, как мы определяем, кого из множества предшествовавших нам людей считать своими предками? Например, кто предки квебекцев, воображаемых как некое сообщество с совместным происхождением? Франкоязычные поселенцы, пришедшие в Квебек до британского завоевания, или же те французские или бретонские сообщества, из которых происходили сами эти поселенцы? Подобным же образом, кто предки немцев, воображаемых в качестве чисто этнической нации? Обитатели Первого рейха, германизированной Священной Римской империи? Народы, одолевшие Западную Римскую империю (которые также являются предками многих французов, итальянцев или испанцев)? Германские племена, описанные Тацитом? Какое-то более чистое, исконное сообщество арийцев, мигрировавших из северо-западной Индии? В качестве предков нынешних немцев можно было бы вообразить кого угодно из них. Ведь у всех нас больше возможных предков, чем нам известно. Если в качестве своих предков мы решаем указать ту, а не иную группу, вероятно, это происходит потому, что мы хотим акцентировать какую-то черту или какой-то опыт, ассоциируемые с этой группой. Если часть квебекцев описывает себя не как потомков своих французских или бретонских предков, а как потомков исконных поселенцев на этой земле, это происходит потому, что в качестве своего культурного наследия они склонны акцентировать свой совместный опыт жизни в Новом Свете и британское завоевание, а не какую-то связь с культурой и образом жизни Старого Света. Если часть немцев описывает себя не как сынов Германна[58]58
Чаще латинизированное Арминий (16 г. до н. э. – ок. 21 г.) – вождь племени херусков, нанесший римлянам в 9 г. поражение в Тевтобургском лесу. – Прим. пер.
[Закрыть] или наследников Первого рейха, а как потомков исконных арийских племен, это происходит потому, что в качестве своего драгоценнейшего наследия они стремятся акцентировать воображаемую расовую чистоту, а не сражение против Римской империи или попытку создать в средневековой Европе всемирную христианскую империю. Таким образом, идентификация сообществ предков требует для себя гораздо большего, чем восхождение по семейному генеалогическому древу. Здесь требуется выбирать из целого ряда имеющихся у нас предков-конкурентов, каждый из которых обладает собственными отличительными характеристиками.
Исправление мифов согласия и происхождения не должно удерживать нас от проведения менее претенциозных и более правдоподобных различений этнических и гражданских наций. Например, как гражданские или политические нации имеет смысл описывать те сообщества, которые делают четкий акцент на политических символах, практиках или границах как сердцевине своего национального наследия. Подобным образом как этнические нации имеет смысл описывать те сообщества, непременным условием членства в которых является происхождение от предшествующих членов. Ошибкой является трактовать разницу между ними как дихотомию между выбором и культурным наследием, принятыми за исток национального сообщества. Ведь гражданские нации, понимаемые таким образом, полагаются на межпоколенческое наследие не меньше наций этнических, даже если это наследие и носит более политический характер. Как мы видели, в этнических нациях тоже присутствует выбор: и в акцентировании происхождения как истока сообщества, и в указании некоей конкретной группы как сообщества их предков.
При таком понимании для того, чтобы характеризовать некое сообщество в качестве гражданской или этнической нации, требуется судить категориями «более или менее», а не «или-или». Ведь даже такие очевиднейшим образом политические принципы и символы, как Американская конституция или Великая французская революция, передаются из уст в уста в характерных культурных идиомах, которые также становятся истоком национального сообщества. И хотя этнические нации, возможно, и делают совместное происхождение необходимым условием членства, это не означает, что при установлении членства в гражданских нациях происхождение не играет абсолютно никакой роли. Все нации, включая те, в которых наибольший акцент делается на политическом наследии, предлагают членство потомкам своих прежних представителей. Отличает же этнические нации то, что происхождение от предыдущих членов делается в них необходимым, а не только лишь достаточным условием членства. Подобное различение, без сомнения, имеет значительные последствия, особенно в отношении политик иммиграции и натурализации. Но вряд ли оно сделает так, что при предоставлении членства в гражданских нациях перестанут учитываться случайности рождения. Оно лишь настаивает на открытии дополнительных путей к получению членства. Кроме того, наиболее распространенный из этих способов получения гражданства, когда членство дается тем, кто родился внутри территориальных границ нации (так называемое jus soli), полагается на случайности рождения не меньше, чем принцип происхождения (так называемое jus sanguinis)[59]59
На чем делает акцент Айелет Шахар в: Shachar. The Birthright Lottery, 7, 127.
[Закрыть].
Стоит только подобным образом умерить масштаб различения этнического/гражданского, как станет ясно, что есть нации, которые подходят под обе категории либо не подходят ни под одну. В конце концов мы легко можем сделать так, чтобы происхождение от некоей исконной группы, учредившей определенный набор политических практик или сколотившей новую политию, стало требованием, непременным для членства в национальном сообществе. Например, американские нативисты, такие как Дочери американской революции, видят в себе порой не восприемников какого-то очевидным образом неполитического наследства, а исключительных наследников американских принципов. А многие африканские нации ограничивают право гражданства принадлежностью ко второму или третьему поколению резидентов своих территорий, несмотря на тот факт, что национальная территория сама была делом чисто политического деления Африки на государства в недавние времена[60]60
См.: Herbst, State and Power in Africa, 239–246.
[Закрыть]. Добавим сюда и все те нации, у которых в почете такие менее политические формы культурного наследия, как совместный язык, но которые не делают совместное происхождение обязательным условием вхождения в национальное сообщество. В конце концов различение гражданских и этнических наций равнозначно различению между сообществами, связываемыми в особенности политическими формами национального наследия, и сообществами, претендующими на то, что их наследие передается исключительно посредством происхождения от предшествующих членов. При таком понимании этого различения у нас будут и нации, которые не являются ни политическими, ни этническими, и нации, которые являются и теми и другими.
Заманчиво сделать вывод, что действительная разница между гражданскими и этническими нациями состоит в вере в тот или иной из двух этих мифов: мол, гражданские нации отличает ложная убежденность, что их единство обязано только лишь сознательно выбираемым принципам, тогда как этнические нации отличает ложная убежденность, что они являются просто сообществами происхождения. Но мы должны сопротивляться этому искушению. Ведь хотя есть много примеров наций, воображающих себя исключительно потомками какой-то особо примечательной группы предков (или пытающихся превратиться в таковых), нет наций (по крайней мере я о них не знаю), которые бы изображали себя исключительно добровольными ассоциациями для выражения совместных политических принципов. Действительно, риторика так называемых гражданских наций (вроде Франции и Соединенных Штатов) громогласно взывает к славным предкам и благодарным потомкам.
Миф гражданской нации – это идеал либерально-демократических теоретиков, а не либерально-демократических наций. Ведь идея чисто политической и «принципиальной» основы взаимного попечения и солидарности очень привлекательна для западных ученых, большинство которых справедливо презирают мифы, на которых держатся этнонационалистические теории политического сообщества. Она особенно привлекательна для многих американских мыслителей, чье своеобразное национальное наследие – основание конституционного строя (constitutional founding) и последовательные волны иммиграции – подогревает иллюзию, что их взаимная ассоциация основывается только лишь на сознательно выбранных принципах. Но эта идея с тем же успехом создает неверное представление о политической действительности, что и этнонационалистические мифы, для борьбы с которыми она и задумана. А распространение нового политического мифа, как мне представляется, – это особенно неподходящий способ защищать наследство просвещенческого либерализма от опасностей, создаваемых ростом националистических политических страстей.









































