Читать книгу "Национализм и моральная психология сообщества"
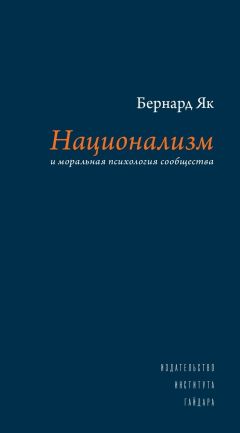
Автор книги: Бернард Як
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 2. Моральная психология сообщества
Нация и сообществоРенан, настаивающий, что нация создается двумя вещами – культурным наследием и субъективно подтвержденным согласием, – возможно, указывает нам правильное направление. Но пока мы продолжаем полагаться на те концептуальные дихотомии, которыми формируются большинство современных концепций сообщества, получить из смешения этих двух элементов связное понимание того, что значит быть нацией, едва ли возможно. Ведь эти дихотомии побуждают нас распределить оба компонента бытия нацией между двумя взаимоисключающими моделями ассоциации. Культурное наследие отождествляется с аффективными узами и чествованием предков, что сопряжено с моделями Gemeinschaft и традиционного общества. Субъективно подтвержденное согласие отождествляется с контрактами и инструментальным разумом, что сопряжено с моделями Gesellschaft и модерна. В свете этих дихотомий нация неизбежно приобретает вид некой аномалии: большое, обезличенное общество, рядящееся в малое межпоколенческое сообщество, или две отдельные формы ассоциации (этническое и гражданское сообщества), ошибочно принимаемые за одну.
Но как только мы корректируем эту точку зрения, понимание нации становится гораздо менее трудным делом. Ведь, как я утверждаю, тогда становится ясным, что это сочетание объективных и субъективных факторов, из-за которого так нелегко дается концептуальное осмысление бытия нацией, не является какой-то своеобразной особенностью наций, а характеризует сообщество во всех его формах. В конце концов, одна из причин, почему наши концепции бытия нацией настолько дискуссионны, возможно, заключается в том, что еще недостаточно дискуссионны наши концепции сообщества. Другими словами, нам нужно пойти против привычных концепций этого родового явления, сообщества, если мы хотим осмыслить его наиболее горячо оспариваемый вид – нацию.
В этой главе представлены результаты подобного вызова. Надеюсь, мое альтернативное понимание сообщества станет подспорьем при анализе разнообразного спектра социальных феноменов. Но, предлагая его здесь, я прежде всего делаю первый шаг к лучшему пониманию той роли, которую нации и национализм играют в политической жизни современности.
Общность и социальная дружбаДавайте начнем с анализа обыденного языка. Мы употребляем слово «сообщество» в отношении потрясающе разнообразного множества социальных групп. Мы говорим так обо всем: от делового или академического до этнического или международного сообщества, от сообществ геев или еврейских общин до городских или сельских сообществ.
Есть два способа как-то упорядочить употребление понятия, на которое мы полагаемся для характеризации такого широкого ряда социальных групп. Мы можем попытаться сузить область его использования до менее многочисленного и более цельного набора объединений, либо мы можем искать некоторые общие феномены, которые могли бы оправдать употребление нами одного и того же понятия для характеризации такого широкого ряда социальных групп. Социальные и политические теоретики, стремящиеся осмыслить сообщество, обычно следуют первым путем, чаще всего в полной уверенности, что современный мир движется прочь от тех относительно малых и плотно интегрированных структур, которые связываются у них с этим понятием[89]89
Их решение не удивительно, поскольку в большинстве своем исследования сообщества как социального феномена вдохновлялись либо любопытством, либо отчаянием по поводу отрыва современных обществ от ранних форм общества. См.: Yack, The Problems of a Political Animal, 43–50.
[Закрыть]. Я же в этой главе пойду по второму пути. Я пытаюсь осмыслить сообщество не как дифференцирующий термин, помогающий нам охарактеризовать мир, уже утраченный нами в эпоху современности, а как родовое понятие. Я следую этим путем, потому что отождествление сообщества с относительно малыми и крепко спаянными формами ассоциации хотя и помогло нам сосредоточить внимание на некоторых отличительных особенностях современного и досовременного общества, но тем не менее заслонило гораздо более общую форму взаимосвязей в человеческом обществе, которую я попытаюсь здесь концептуализировать.
Приняв этот родовой подход к понятию сообщества, я отчасти вдохновляюсь тем, как работает с предметом Аристотель. Аристотель, в отличие от современных социальных теоретиков, не сталкивался с проблемой объяснения новых и непривычно индивидуалистических форм ассоциации, появлявшихся в современной Европе и Северной Америке. Следовательно, и начинать ему было вольно не с тех концептуальных дихотомий, на которые опираются большинство современных социальных теорий, а с единого родового понятия человеческой ассоциации, koinonia (лучше всего это слово переводится как «сообщество»)[90]90
См. ibid., особенно главу 1. Аристотелевской теории сообщества не отводилось много внимания, потому что большинство читателей не делали различия между его пониманием полиса, или политического сообщества, и более широким родовым понятием, сообществом (koinonia), к каковому и принадлежит полис.
[Закрыть]. Конечно, это родовое понятие не является единственным действенным способом охарактеризовать сообщество. Но оно особенно полезно, если мы имеем дело с такими социальными феноменами, как нация, которые, по-видимому, не даются тем концептуальным дихотомиям, на которые рассчитывают большинство современных социальных и политических теорий.
Очевидно, что у разнообразных социальных групп, описываемых нами как сообщества, есть хотя бы что-то общее. Прежде всего, все они состоят из групп индивидов, имеющих некую общность – будь то вера, территория, цель, деятельность или попросту отсутствие какого-то качества, которым, как считается, обладает еще какая-то группа. Когда мы говорим о человеческом сообществе, мы имеем в виду всех индивидов, одинаково являющихся представителями человеческого вида. Когда мы говорим о гей-сообществе, мы имеем в виду всех индивидов, одинаково разделяющих определенную сексуальную ориентацию. Когда мы говорим о городском сообществе, мы обозначаем так людей, чья общность состоит в том, что все они живут в одном плотно населенном районе, и так далее[91]91
Я говорю здесь об «общности» во всех ее смыслах: общее использование, разделение на части, поочередность пользования и т. д. Все они могут послужить фундаментом сообщества, когда мы воображаем, что благодаря им мы связаны друг с другом как объекты взаимного попечения и лояльности.
[Закрыть].
Впрочем, членов каждой из этих групп, помимо их общности в чем-то, связывают чувства социальной дружбы, из-за которых они расположены уделять особое внимание благополучию друг друга. Представители человеческого вида одинаково и неизменно разделяют видовые характеристики с каждым из их числа, но ощущение принадлежности к какому-то отдельно взятому человеческому сообществу приходит и уходит. Гетеросексуалы, возможно, и разделяют одну сексуальную ориентацию, но им недостает ощущения связи друг с другом в качестве объектов особого попечения, в результате чего мы и говорим именно о гей-сообществе[92]92
Конечно, и гетеросексуалы, вообразив, что им угрожает распространение прав геев и гей-культуры, без труда начинают думать в терминах гетеросексуального сообщества.
[Закрыть]. И горожане, может быть, одинаково занимают одно общее пространство и одинаково разделяют определенные формы взаимозависимости, но едва ли есть смысл говорить о городском сообществе, если они укрываются друг от друга за покровом взаимного безразличия или враждебности.
Как я предполагаю, общность в чем-то, которую вы разделяете с другими, еще не делает вас членом их сообщества, если только вы не воображаете и не подтверждаете ее в качестве источника взаимной связи. И наоборот, душевное переживание связанности с членами сообщества не делает вас его членом, если, подобно пресловутому «белому негру», вы не можете одинаково разделять те вещи, которые в первую очередь порождают ощущение сообщества[93]93
Кто угодно может начать отождествлять себя со вкусами и ценностями членов какого-то конкретного сообщества. Но если сообщество является тем, что оно есть, именно в силу совместного опыта, недоступного этому индивиду, то он так и останется вне сообщества. «Белый негр» может стать членом сообщества, связанного, скажем, любовью к джазу, гарлемским ночным клубам и афроамериканской культуре. Однако он не может стать членом сообщества, вырастающего из совместного опыта тех, кто побывал в шкуре угнетенного расового меньшинства в Америке.
[Закрыть]. Конечно, другие могли бы относиться к вам как к члену сообщества, даже если у вас отсутствует это ощущение социальной связи. Но так было бы, вероятно, оттого, что вы одинаково разделяете с членами сообщества нечто такое (например, религиозные верования, социальные обычаи или цвет кожи), к чему в массе своей они относятся как к средоточию взаимной лояльности и попечения.
Есть соблазн добавить к этому списку определяющих особенностей сообщества еще и третью – ощущение исключения или осознание границ, которые отделяют нас от других[94]94
Этот подход особенно популярен у антропологов; классической работой является введение Фредерика Барта к изданному под его редакцией сборнику «Этнические группы и социальные границы». Интересное приложение этого подхода к изучению этничности и национализма см. в: Eriksen, Ethnicity and Nationalism.
[Закрыть]. Все же противопоставление себя другим – это один из самых мощных способов установления социальных связей. Сосредоточение на качествах, отличающих другие группы от нашей, позволяет нам игнорировать или не принимать в расчет качества, отличающие нас друг от друга внутри нашей группы. Например, большинство преград, мешающих нам вообразить целиком все человечество единым сообществом, вероятно, растаяло бы, если бы нам когда-нибудь пришлось встретиться с инопланетянами, особенно если бы они были враждебными.
Впрочем, хотя противопоставление или дифференциация и могут помочь трансформировать общность в ощущение связанности и взаимного попечения, это тем не менее не является непременным условием[95]95
По этому поводу см.: Brewer, «The Psychology of Prejudice».
[Закрыть]. Совместные цели и деятельность часто способствуют ощущению сообщества невзирая на то, конкурируют ли в данный момент цели и деятельность одних людей с целями и деятельностью других. Некая одинаково разделяемая цель или опасность (как, например, нависшая угроза земной атмосфере или запасам питьевой воды) в ответ могла бы породить даже общемировое человеческое сообщество. Итак, вместо того, чтобы трактовать ощущение исключения в качестве третьего компонента сообщества, я трактую его как одну из конкретных форм общности, а именно как общность ощущения своей отличности от некоторой группы других. Эта форма общности часто усиливает прочие источники сообщества, если они существуют, а порой и создает новые, если их нет.
Таким образом, сообщество, как я его понимаю, имеет две ключевые особенности: общность и производное отсюда ощущение социальной связи или дружбы. Сообщество – это группа индивидов, воображающих себя объектами особого попечения и лояльности, связанными друг с другом чем-то, что они одинаково разделяют.
Сообщества как таковые покоятся на сочетании объективных и субъективных факторов, на чем-то одинаково разделяемом и одинаково переживаемом. Вы можете поспорить, что на самом деле у членов группы нет ничего из тех общих вещей, которые заставляют их считать, что они состоят друг с другом в особой связи; например, что в действительности они не подвергаются преследованиям со стороны своих соседей или что в действительности они не происходят от одних и тех же выдающихся предков. Но вы не можете спорить, будто на самом деле они не переживают и не чувствуют свою связанность друг с другом, коль скоро они говорят о существовании этих чувств. Ведь несмотря на объективные замеры, показывающие, есть ли у людей реальная общность, единственный критерий социальной дружбы носит субъективный характер[96]96
Конечно, вовсе не обязательно, чтобы разделяемые членами сообщества вещи сами были объективными, как территория или набор институтов. Они также могут быть субъективными, как набор убеждений или ощущение, что ты исключен другими. Описывая образующую сообщество общность как объективную, я хочу сказать, что она основывается на заявлении по поводу некоторого объективного условия, что группа людей действительно разделяет нечто общее и что такие заявления могут, в отличие от ощущения связанности с другими в силу одинаково разделяемых с ними вещей, оспариваться сторонними наблюдателями как неверные.
[Закрыть].
Значит, все сообщества покоятся на чем-то вроде повседневного плебисцита, мыслившегося Ренаном в связи с нациями. Ведь силу свою все они черпают не просто из одного факта существования совместных предков, верований, территорий и тому подобного, а из субъективного подтверждения некоторой формы общности в качестве источника взаимной связи. Вместе с тем это создающее сообщества субъективное подтверждение редко принимает форму явного и осознанного выбора среди нескольких вариантов, как подразумевалось выразительной метафорой Ренана. Вместо этого оно чаще всего попросту дает понять о нашем принятии того факта, что конкретные формы общности занимают в нашей жизни заметное или значимое место. Как и в случае с личной дружбой, осознанные решения о том, к какой социальной дружбе нам примкнуть, мы принимаем, как правило, только когда вынуждены решать вопросы конфликтующих лояльностей.
Сообщества выступают в столь многих и столь разных обличьях и формах, потому что у людей может быть и уже есть очень много разных вещей, которые они одинаково разделяют: происхождение, территориальная близость, верования, цели, ритуалы, формы выражения – вот перечень лишь некоторых из самых обычных и распространенных примеров. Они довольно-таки переменчивы – не только потому, что старые формы общности исчезают и постоянно появляются новые, но и из-за того, как привычные формы общности обретают или теряют значимость в новых обстоятельствах. Возможно, чуть иной исход битвы или иной выбор партии для королевского брака сотни лет назад сохранили бы старые формы общности, уже исчезнувшие в наши дни. Новые же сообщества, даже межпоколенческие сообщества вроде наций, могут весьма внезапно появляться по случайным обстоятельствам (например, из-за кровавого бунта или успешного вторжения), и наше внимание сосредоточивается на одной, а не другой форме общности[97]97
См.: Beissinger, «Nations That Bark and Nations That Bite», 173.
[Закрыть].
Чтобы акцентировать гетерогенность, составляющую существенную часть жизни сообщества, я, характеризуя сообщество, говорю об общности (sharing), а не об идентичности. Сообщество, как я считаю, предполагает осознание не только общего, но и различающегося. Другими словами, сообщества слагаются индивидами, в центре внимания которых находится нечто, что не столько стирает их различия, сколько наводит между этими различиями мосты. Сотрите эти различия в целях единства или идентичности, и, как утверждает Аристотель в своей критике платоновского «Государства», вы сотрете само сообщество[98]98
Аристотель. Политика (1261–1262).
[Закрыть]. Платон, в надежде популяризировать идею единства, увязываемую с семейной жизнью, предлагает нам попытаться уподобить справедливый полис отдельной семье. Но если определяющей особенностью сообщества вы делаете единство или идентичность, почему же, спрашивает Аристотель, вы останавливаетесь на семье? Почему в качестве модели для сообщества не взять отдельного индивида? Действительно, Платон принимает такую точку зрения, ведь он полагает, что его идеальное общество разделяло бы «общие радость или горе»[99]99
Платон. Государство (464a).
[Закрыть], общие вплоть до такого единения, что, если моего соседа пронзит меч, я почувствую боль. Как бы то ни было, отдельный организм, если не прибегать к аналогиям, – это не сообщество, как и сообщество может быть названо организмом только по аналогии или метафорически[100]100
Пользуясь органическими метафорами, легко потерять из виду эти различия. Удержать их в мысли было бы легче, если бы для характеристики единства, обнаруживаемого в организмах, мы, подобно Аристотелю, использовали политические метафоры. Когда он говорит, что внутреннюю организацию животного «можно уподобить управляемому хорошими законами полису» (Аристотель. О движении животных, 703a28), никто не сомневается, что речь о схожести животных с политическими сообществами. Но когда он говорит, что граждане похожи на части тела, его слова часто истолковывают так, что политическое сообщество на самом деле есть организм, а не напоминает его некоторым любопытным образом. См.: Yack, The Problems of a Political Animal, 92–94.
[Закрыть]. И организм, и сообщество обладают внутренней дифференцированностью, а также общими целями или деятельностью. Но сообщество, в отличие от организма, сложено из отдельных членов, которые могут по отдельности выживать и получать свой жизненный опыт. В обычной жизни его члены переживают свою связь с другими не как идентичность или единство, а как наведение мостов между различиями.
Нам нужно акцентировать этот аспект жизни в сообществе, чтобы нейтрализовать влияние коммунитарианской риторики, настаивающей на необходимости единства и коллективной идентичности. Скрадывание индивидуальных идентичностей в идентичности коллективной, без сомнения, может быть мощной силой в человеческой жизни, особенно в конфликтах между сообществами. Но это относительно редкий и преходящий социальный феномен; в противоположность сообществу Герман Шмаленбах называет это «союзом» (bund)[101]101
Schmalenbach, «Communion – a Sociological Category».
[Закрыть]. Союз – это тот концентрированный опыт потери своего «я» в коллективе, который так часто стремятся вызвать ораторы и так часто с ностальгией вспоминают разочарованные. Он может иметь место во всех сферах деятельности – и у членов команды по боулингу, у которых одна на всех волнующая победа, не меньше, чем у солдат, у которых одни на всех тяготы окопной жизни[102]102
Шмаленбах (Schmalenbach, «Communion – a Sociological Category») правильно подчеркивает, что мы совершаем ошибку, когда отождествляем опыт «союза» с жизнью в тех малых сообществах, которые Тённис увязывает со своим понятием Gemeinschaft. Утратить личность точно так же можно и в добровольной ассоциации, такой как команда по боулингу или ашрам, и в унаследованной форме сообщества. Ключевое здесь то, что в обоих случаях опыт «союза» или утраты собственной личности является относительно скоротечным. Это побочный продукт совместного образа жизни, а не один из его составных элементов.
[Закрыть]. Это мощный опыт, могущий вдохновлять на большое самопожертвование и серьезно повышать коллективную силу сообществ, – вот почему ораторы так часто стремятся к его насаждению. Но его трудно поддерживать сколько-нибудь длительное время, поэтому-то я и не включаю его в свое определение сообщества. Совместная память о моменте единения в союзе – например, у участников революционной борьбы, окопных сражений Первой мировой войны или даже спортивных триумфов и трагедий – может стать основанием общинных привязанностей[103]103
Союзы на основе общих воспоминаний также могут разрушать существующее сообщество, пробуждая более высокие ожидания единства, чем это возможно в нормальных обстоятельствах. См.: Musil, «“Nation” as Ideal and Reality», 120–121.
[Закрыть]. Но само единение в союзе, утрата индивидуальной идентичности в коллективе, – это слишком мимолетный и ненадежный феномен, чтобы служить цементом, обыкновенно скрепляющим сообщества.
Что касается социальной дружбы, я употребляю этот термин для характеристики уз сообщества, потому что им ухватывается тот своеобразный вид взаимных обязательств, который и инспирирован сообществом[104]104
Я придерживаюсь здесь тех довольно широких понятийных рамок, какие имеет греческое слово philia (дружба), отсылающее не только к близости несексуального характера, но и к семейным, социальным и политическим узам. См.: Fraisse, Philia: La notion de l’amitié dans la philosophie de l’antique. Особенно интересно широтой этого греческого термина в своей моральной и политической философии пользуется Аристотель. См.: Yack, The Problems of a Political Animal, 35–39, 109–26.
[Закрыть]. Друзья, по мысли Аристотеля, делают друг для друга то, что могут сделать, а не то, что полагается делать[105]105
Аристотель. Евдемова этика (1244a21), Никомахова этика (1163b15).
[Закрыть]. Это означает, что они вычленяют друг друга в качестве объектов особого попечения и лояльности. Если смогут, они сделают друг для друга несколько больше, чем им полагается делать, – если же, впрочем, они будут не в состоянии помочь друг другу, они захотят, чтобы каждый из них делал для другого меньше, чем полагается делать. Это расположение, когда друзья делают, что могут, нагляднее всего проявляется в своих наиболее знакомых формах – в семейственности и в личной близости. Но, готов поспорить, его можно обнаружить также и в гораздо менее личных и привычных формах сообщества. Далеко ли простирается наша готовность делать друг для друга возможное, будет очень сильно зависеть от источника дружбы в любом конкретном сообществе. Свои жизни мы проживаем в лоскутной пестроте более или менее интенсивных отношений социальной дружбы.
Для концептуализации этого ощущения взаимной связанности, которым конституируются сообщества, гораздо чаще употребляют термин «солидарность», а не «дружба». Но «солидарность» несет в себе слишком сильный призвук социального единства и не схватывает всю сложность и гибкость связей внутри сообщества. Какой момент ни возьми, мы всегда связаны с другими и наши связи, накладываясь друг на друга и зачастую конкурируя, образуют сложный узор. Чтобы разобраться в этих связях, мы, вместо того чтобы солидаризоваться сначала с одной, а затем с другой группой, взвешиваем и уравновешиваем факторы, благодаря которым они затрагивают наши чувства, так же, как мы поступаем в случае с конфликтующими лояльностями, порожденными личной дружбой. Говорить о нашей дружбе с двумя конкурирующими группами гораздо легче, потому что дружба подразумевает взаимное попечение, а не слияние или затвердевание идентичностей. По этой причине я полагаю, что сложный узор привязанностей в сообществе гораздо лучше схватывается не понятием солидарности, а понятием социальной дружбы.
Позвольте особо отметить, что, охарактеризовав социальную дружбу или ощущение взаимного попечения и лояльности как один из двух базовых элементов сообщества, я в то же время не думаю, что сообщество основывается на взаимной приязни, характерной для личной дружбы. Как и в семейных отношениях, чтобы проявлять особое попечение о благополучии других членов нашего сообщества, нам не нужно испытывать к ним какую-либо особую приязнь. Также я не думаю, что сообщество является особенно гармоничной формой ассоциации. Особые чувства взаимного попечения и лояльности порождают собственные характерные и неприглядные формы конфликта, поскольку зачастую формируют завышенные ожидания в расчете на участие и заботу, каковым мы не в состоянии соответствовать[106]106
Это главная тема моей книги «Проблемы политического животного» (Yack, The Problems of a Political Animal). В особенности см. 1–5, гл. 4 и гл. 7.
[Закрыть]. Кроме того, зачастую проявления особого попечения раздражают и оказываются нежелательными, что, без сомнения, засвидетельствует любой, кому приходилось иметь дело с непрошеными советами друзей, родственников и знакомых. Социальная дружба – это одно из первейших средств, сближающих нас друг с другом в той или иной ассоциации. Но она далеко не гарантия жизни в гармонии или согласии.
Понятое таким образом сообщество – это не какой-то особый продукт традиционной деревни и семейной жизни, а базовый элемент того, что Юн Эльстер называет «цементом общества»[107]107
Elster, The Cement of Society: A Study of Social Order.
[Закрыть]. Я предполагаю, что человеческое общество не распадается благодаря соединению личного интереса, норм справедливости и социальной дружбы. Другими словами, у нашей кооперации друг с другом есть три мотива: расчеты, касающиеся того, что послужит нашим собственным интересам, убеждения, касающиеся того, чем мы обязаны друг к другу, и чувства особого попечения о благополучии людей, с которыми у нас есть какая-то общность.
Из этих трех мотивов вне поля зрения чаще всего оказывается социальная дружба. Личный интерес невозможно игнорировать и к тому же его легко можно сделать еще и инструментом объяснения. Убеждения же касательно справедливости, откуда бы они ни происходили, играют в уравновешивании и канализировании личного интереса такую роль, которую, по-видимому, обойти вниманием не менее трудно. Но социальная дружба (делание для людей, с которыми мы чувствуем себя связанными, того, «что в наших силах»), по-видимому, устанавливает гораздо более смутные и менее надежные стандарты, чем поведение в соответствии с тем, что правильно или благоразумно. Ей недостает определенности, проистекающей либо из расчета средств, необходимых для достижения себялюбивой цели, либо из измерения весомости конкретного действия, осуществляемого вопреки общему правилу или принципу. Проследить социальную дружбу из-за этого становится труднее, но тем не менее это не помешает нам признать, что она служит одним из трех мотивов (наряду с эгоистическими расчетами, а также убеждениями относительно справедливости) для создания и поддержания социальных связей у людей. Даже самые произвольные и тривиальные формы общности, что часто демонстрируется исследователями в области социальной психологии, по-видимому, способны порождать сильные чувства связи со своей группой[108]108
Baumeister, The Cultural Animal, 377–379. См. обсуждение этих исследований в: Appiah, The Ethics of Identity, 62.
[Закрыть]. Представляется, что, даже не имея на кону никаких существенных ставок либо серьезных оснований полагать, что мы обязаны уделять другим особое внимание, мы, как правило, питаем чувства особого попечения и лояльности по отношению к людям, с которыми, как мы осознаем, у нас есть какая-то общность.
Есть веские основания трактовать эту расположенность к социальной дружбе как присущую самому естеству человека[109]109
См., например: Brewer, «The Psychology of Prejudice: Ingroup Loyalty or Outgroup Hate»; Stern, «Why Do People Sacrifice for Their Nation?», 109.
[Закрыть]. Первым делом кажется, что это одна из тех редких черт человеческого опыта, которые представляются универсальными. Что существеннее, современные биологические исследования говорят, что эта расположенность к социальной дружбе является эволюционным приобретением, причем таким, какое наш вид разделяет с большинством других приматов[110]110
См. особенно: de Waal, Good-Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals. Книга де Вааля содержит очень полезную поправку к чрезмерно восторженному и некритическому изложению этих аргументов в таких популярных книгах, как Wright, The Moral Animal, и Ridley, The Origins of Virtue [Ридли М. Происхождение альтруизма и добродетели: от инстинктов к сотрудничеству].
[Закрыть]. Эти исследования брались показать, как посредством определенного механизма, естественного отбора (который обыкновенно вознаграждает поведение, повышающее наши шансы на выживание) у нашего вида могли появиться альтруистические нравы. По большей части они сосредоточиваются на двух способах, какими могли формироваться подобные нравы: через отбор черт, которые, возможно, содействовали бы выживанию индивидов, нашей близкой родни, с которой у нас в значительной мере одинаковая наследственность, и через отбор черт, способствующих формированию ожиданий взаимности, а также ожиданий наказания для тех, кто ее не оказывает[111]111
Оба эволюционных пути к альтруизму широко признаны. Но первый легче защитить, поскольку он соответствует формам самопожертвования, встречающимся во всем животном царстве. Второй же зависит от допущения, что в неоднократных схватках наибольшие выгоды с точки зрения выживания имеют те, кто подготовлен сотрудничать и наказывать тех, кто не сотрудничает. См. классическое исследование: Axelrod and Hamilton, «The Evolution of Cooperation in Biological Systems», in Axelrod, The Evolution of Cooperation, 85–105.
[Закрыть].
Эти два расположения, попечение о близкой родне и ожидание взаимности, явно соответствуют чувствам социальной дружбы и нормам справедливости, двум неэгоистическим компонентам того, что описано мной как цемент общества. Из этого не следует, что каждый раз, когда мы печемся о члене группы или негодуем по поводу несправедливости, нами движут инстинкты. Это всего-навсего значит, что наше попечение о других и наши требования справедливости не менее естественны, не менее укоренены в человеческой психологии, чем наши своекорыстные расчеты. Формы общества, в которые нас забросила материальная и культурная эволюция, безмерно масштабнее и сложнее, чем те, в которых зародились эти расположения, однако мы все еще пользуемся всеми ими, делая наш мир осмысленным. Как только станет ясно, что мы расположены искать что-то вроде справедливости, пусть даже в простейшей форме взаимности, тогда уже не будет удивительным тот факт, что в своем бесконечно более сложном мире мы привязались к столь замысловатому и умопомрачительному разнообразию норм справедливости. И как только станет ясно, что в отношении самых близких людей мы расположены обнаруживать чувства взаимного попечения и лояльности, тогда не будет удивительным, что в мире, где так много конкурирующих и накладывающихся друг на друга форм общности, подобные чувства раздуваются нашим воображением в столь многих направлениях.
Тот факт, что эти неэгоистические нравы в конечном счете способствуют выживанию наших собственных «эгоистичных» генов, привел к некоторой путанице относительно их характера[112]112
Преобладающая у эволюционных биологов интерпретация, в наиболее известном и выразительном виде представленная Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген», состоит в том, что единицей отбора является ген. Однако у группового отбора все еще остаются серьезные защитники (Sober and Wilson, Unto Others: The Evolutionary Psychology of Unselfish Behavior).
[Закрыть]. Использование теории игр и других моделей рационального выбора для определения результатов генетической конкуренции не должно вводить нас в заблуждение и заставлять трактовать практику социальной дружбы как некую форму эгоистичного или своекорыстного поведения[113]113
Классическим примером является статья Аксельрода и Гамильтона (Axelrod and Hamilton, «The Evolution of Cooperation in Biological Systems», in Axelrod, The Evolution of Cooperation, 85–105). О развитии эволюционной теории игр см.: Wright, The Moral Animal, 189–209.
[Закрыть]. Ведь именно оттого, что генетическая конкуренция выработала в человеческих существах неэгоистические нравы, у нас нет необходимости объяснять эволюцию социального сотрудничества исключительно с точки зрения суммы своекорыстных решений индивидов. Если у человеческих существ уже сформировалась определенная ограниченная расположенность к альтруистическому или кооперативному поведению, значит, своекорыстному расчету приходится конкурировать – или же уравновешивать или укреплять его – с совсем иным источником человеческой социальной связанности.
Неразличение генов и отдельных организмов в качестве объектов естественного отбора зачастую затмевает этот момент, особенно у социальных исследователей[114]114
См.: de Waal, Good-Natured, 15.
[Закрыть]. Теории родственного отбора[115]115
Отбор, направленный на сохранение признаков, благоприятствующих выживанию близких родственников данной особи. – Прим. пер.
[Закрыть] и взаимного альтруизма порой объясняют неэгоистическую расположенность отдельных организмов, сосредоточивая внимание на «эгоистичных» интересах формирующих их генов. Другими словами, эти теории показывают нам, что «эгоистичные гены для достижения собственных целей иногда используют бескорыстных индивидов»[116]116
Ridley, The Origins of Virtue, 20. [Ридли М. Происхождение альтруизма и добродетели. С. 54.]
[Закрыть]. Но если это действительно так, то, выходит, неверно, что люди «неизбежно и всегда делают то, что лучше для них» и что «хорошие поступки могут быть обусловлены плохими мотивами»[117]117
Ibid., 27, 46. [С. 71, 111–112.]
[Закрыть]. Ведь эти теории как раз таки и объясняют наличие у нас хороших мотивов, нашей расположенности делать что-то на благо других, а не ради себя.
Когда биологи и социальные исследователи мечутся между своекорыстными генами и своекорыстными индивидами – а стало быть, между эволюционной теорией игр и теорией рационального выбора, – они не замечают это различие. Они забывают, что «об эволюционных причинах наших мотивов нельзя судить так, словно они и есть наши мотивы»[118]118
Стивен Пинкер, цит. по: de Waal, Good-Natured, 237n18. Особенно полезна предложенная де Ваалем критика этого неразличения генетической и индивидуальной эгоистичности (ibid., 14–17, 116–117).
[Закрыть]. Эволюция наших генов сама, возможно, и не полагается на «альтруистические» мотивы (то есть на расположенность содействовать репликации других генов). Но отдельные организмы, образующиеся благодаря генам, демонстрируют-таки подобные мотивы. И это означает, что любая попытка объяснить социальное сотрудничество исключительно с точки зрения рационального расчета потребностей и интересов абсолютно нереалистична[119]119
У социобиологов и подобных им социальных исследователей этот недостаток реализма обычно оправдывается обращением к принципу экономности теоретических средств. Но, как демонстрируют Собер и Уилсон (Sober and Wilson, Unto Others, 291), обращение к личному интересу как предельному мотиву индивидуального поведения – это в прикладном отношении все что угодно, но только не экономность. Чтобы переистолковать все, казалось бы очевидные, примеры неэгоистического поведения как своекорыстные, этим теоретикам приходится апеллировать к такому множеству сомнительных вспомогательных гипотез о человеческих потребностях и интересах, что их теории, взятые в целом, начинают являть нелепую сложность машины Руба Голдберга [машина, выполняющая примитивное действие (например, движение салфетки) с помощью сложного механизма, устроенного по принципу домино. – Прим. пер.]. В конце концов гораздо проще и экономнее согласиться, что у человеческого сотрудничества может быть два или три предельных источника, чем давать место, по-видимому, бесконечной серии гипотез, необходимых, чтобы все неэгоистическое поведение выводить из единственного эгоистического источника.
[Закрыть].
В качестве источника связи между людьми социальную дружбу отличает не расчет средств для достижения эгоистичных целей, а чувство попечения о других или же убеждение, что мы обязаны друг другу. Подобно любви или проявлениям спонтанности, социальная дружба как таковая – это не что-то избираемое нами произвольно, а побочный продукт наших выборов и опыта. Другими словами, хотя вы можете произвольно поделиться чем-либо с другими людьми, вы не можете произвольно почувствовать себя связанными с ними узами социальной дружбы. Конечно, какие-то объекты общего обладания, как например родной дом, предки или религиозные верования, гораздо вероятнее внушают ощущение связи с прочими людьми, чем другие. Но даже в этих случаях узы социальной дружбы не обязательно следуют из общности в каких-то вещах, что живо передает выражение «чужие под одной крышей». Кроме того, даже те, кто, подобно современным нациестроителям, сознательно собирается расширять и интенсифицировать какую-то конкретную форму общинной дружбы, делают это в основном косвенным образом. Вместо того чтобы, скажем, пытаться убедить людей, что правильным адресатом лояльности к членам сообщества является не Бретань, а Франция, они пытаются изменить языковые, образовательные привычки и обычаи, что способствует появлению ощущения национального сообщества (в качестве побочного продукта)[120]120
Этот взгляд изложен в классической работе Евгена Вебера (E. Weber, Peasants into Frenchmen).
[Закрыть].
Я подчеркиваю этот момент, чтобы прояснить отношения между сообществом и рациональностью, равно как и сложность наших моральных расположений. Узы социальной дружбы, соединяющие нас друг с другом в жизни сообщества, не являются иррациональными в смысле примитивной инстинктивной силы, ослепляющей и одолевающей рассудок. Однако они не-рациональны – в том смысле, что своим происхождением они не обязаны расчету и выбору. Некоторые теоретики рационального выбора высказывают иное мнение, утверждая, что в своих привязанностях к конкретным сообществам, местным спортивным командам, а равно к конкурирующим нациям, мы должны видеть рациональные решения проблемы координации. По утверждению этих теоретиков, если благо, к которому стремятся индивиды, – это, например, переживание радостного волнения вместе с тысячами других болельщиков родной команды, то принятие конвенций, позволяющих остановиться на каком-то конкретном совместном объекте лояльности, будет вполне рациональным шагом[121]121
Hardin, One for All: The Logic of Group Conflict, 27–33; Goodin, «Conventions and Conversion, or Why Is Nationalism Sometimes So Nasty?», 91.
[Закрыть]. Но у нас речь идет именно о мотивах, а не о результатах человеческих действий. Другими словами, мы здесь пытаемся установить источник людской связанности, а не ее итоговые воплощения. Пусть общие объекты лояльности и снимают проблемы координации, вопрос, которым мы сейчас задаемся, состоит в том, как получается, что люди сосредоточиваются на таких объектах: суммированием ли индивидуальных выборов, преследующих данную цель, или же это становится побочным продуктом, на уровне переживаний сопутствующим опыту общего местонахождения, общих часов, проводимых на стадионе, или общих рассказов о былом величии? Тот факт, что совместные чувства и настроения могут порой обеспечивать рациональные решения наших проблем, не должен помешать нам увидеть их независимость от рационального расчета как одной из сил, действующих в нашей жизни.









































