Текст книги "Национализм и моральная психология сообщества"
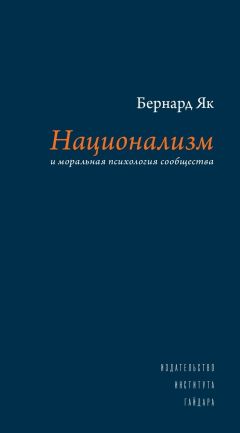
Автор книги: Бернард Як
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Большинство исследователей согласны, что наше понимание национального сообщества должно включать признание, что таковые сообщества как-то связаны с определенными территориями. Пара-тройка случаев (как, например, еврейская нация до сионистского движения), которые, возможно, и заставили бы нас усомниться в их заявлениях, обычно лишь подтверждают правило, вынуждая нас отыскивать более утонченное понимание отношений между нациями и территориями. До появления сионизма евреи и не жили на той земле, которая считалась ими своей, и не стремились завладеть этой землей. Но они все равно чувствовали себя связанными с землей Израиля, со священным местом, на котором разворачивались самые важные события в истории иудейства и еврейской религии[176]176
См.: Emerson, From Empire to Nation, 105–106.
[Закрыть].
Вопрос в форме, какую принимает эта связь с территорией. Классические, примордиальные представления усматривают корни национальной идентичности в связи между кровью и почвой. La terre et les morts – это и есть la patrie[177]177
Земля и мертвые – это родина (фр.). – Прим. пер.
[Закрыть], согласно небезызвестному лозунгу, провозглашенному Морисом Барресом[178]178
Barrès, Scènes et doctrines du nationalisme, 8–13.
[Закрыть]. С этой точки зрения именно тесное обращение и непрерывное – поколение за поколением – проживание на одном месте и соединяет нации с конкретными территориями. Корни нации питаются кровью сыновей и дочерей, похороненных в ее земле, так что конкретные места становятся для ее членов священными (в переносном, а подчас и буквальном смысле).
У этого классического примордиального взгляда на связь между нациями и территорией есть две проблемы. Прежде всего, хотя и довольно общо заметим, что среди наций это далеко не универсальная закономерность. Многие национальные сообщества остаются столь же (или даже сильнее) привязаны к территориям, откуда они пришли, как и к тем, на которых живут сейчас. Некоторые нации более привязаны к территориям, где было явлено их недавнее величие, нежели к тем, где они некогда обитали. У новых наций могут выработаться (и уже выработались) очень сильные привязанности к конкретным территориям и без ощущения того, что они живут там с незапамятных времен (хотя в своей риторике они часто апеллируют к такому ощущению)[179]179
Возьмем, к примеру, французские слова, которыми начинается оригинальная, французская версия канадского государственного гимна, «O Canada, terre de nos aieux» [ «О, Канада, земля наших предков». – Прим. пер.], свидетельствующие, что территория их предков находится в Северной Америке, а не в Нормандии или Бретани.
[Закрыть]. В идее же кочевых наций вообще нет ничего нелогичного. Сильная привязанность к территории может развиваться и без ощущения укорененности, столь весомого для примордиалистских воззрений на кровь и почву. Таким образом, это представление о жительстве на земле с незапамятных времен, будучи слишком специфичным, не может само по себе характеризовать национальную связь с территорией.
Во-вторых, такое понимание связи между нацией и территорией делает особый акцент на местном и хорошо знакомом – акцент, который вроде бы совсем не гармонирует с той крупной, безличной формой, какую принимает большинство наций. Здесь нужно провести различие между тем, что Фредерик Герц называет чувством родного очага и национальным чувством территории.
Зачастую считается, что национальный дух – это не что иное, как привязанность к родной почве. И все же национальное чувство и чувство родного очага не одно и то же, а национальная территория ‹…› не тождественна родине в более узком смысле, то есть месту, где мы родились или которое стало самым близким нашему сердцу благодаря долгому пребыванию и многим бережно хранимым воспоминаниям. Эта узкая территория имеет совсем иную психологическую значимость, нежели отечество. Она значит память о детстве и юности, о жизни в кругу семьи, о родственниках и друзьях молодости. Ее леса и луга, долины и реки, ее села и исторические памятники гораздо роднее нам, чем те, которые принадлежат другим частям нашего отечества и многие из которых мы видели лишь мимоходом, если вообще видели. ‹…› [Напротив,] любовь к национальной территории прививается в нашей душе общей историей, силой общественного мнения, образованием, литературой, прессой, народными песнями, памятниками и еще множеством других вещей[180]180
Hertz, Nationality in History and Politics, 149.
[Закрыть].
Я бы сказал, что с конкретными территориями членов нации связывает то, как эти земли фигурируют в их культурном наследии. Истории о жительстве в том или ином конкретном месте, возможно, и вызывают гордость за это место в некоторых национальных культурах, но такие истории не обязательно затмевают рассказы о происхождении или былом величии. Как полагает Энтони Смит, нации территоризируют память. Места великих драм и свершений они превращают в родину[181]181
A. Smith, The Antiquity of Nations, 75.
[Закрыть].
При таком понимании одни и те же или перекрывающие друг друга земли могут принадлежать более чем одной нации, поскольку члены национальных сообществ не только часто живут бок о бок на одних и тех же территориях, но также могут иметь воспоминания об одних и тех же местах прошлого величия и травмы. Считать, что данная территория должна принадлежать одной и только одной нации, люди начинают только с расцветом убеждений о праве на национальное самоопределение. Ведь с идеей национального суверенитета появляется иной, новый смысл обладания территорией: контроль или распространение власти равномерно по всей данной территории. Одной из причин, почему националистические споры о территории являются настолько острыми, является напряженность между этими двумя способами описания территории как своей собственной. В эпоху национализма национальные сообщества начинают требовать права на осуществление контроля над «их» землями, но идентифицируют они какие-то конкретные земли как «свои» посредством вольной трактовки национальной территории, которое позволяет многочисленным нациям высказывать решительные притязания на одну и ту же территорию. На Балканах, например, национальные конфликты пошли в гору и сильно интенсифицировались в силу того факта, что в каждом сообществе жили воспоминания о прошлом величии, простиравшемся далеко за пределы мест их нынешнего проживания. Будь это лишь вопросом прояснения границ, внутри которых в настоящее время живут разные языковые и культурные группы, разрешить напряженность между ними было бы гораздо проще[182]182
См.: Bibo, «The Distress of East European Small States», 22–23.
[Закрыть].
Если мы принимаем изложенную до этого характеристику национального сообщества, то как нам понимать этничность и ее отношение к национальности? Судя по нашему расхожему употреблению этого термина, «этничность» сильно напоминает «национальность», вызывая в сознании образ межпоколенческих связей, но кажется понятием более старым, менее субъективным и более опирающимся на биологическое происхождение. Значит ли это, что через национальность и этничность манифестируют себя отчетливо разные формы сообщества? Очевидно, многие исследователи именно так и думают. Однако их усилия выстроить различение между этническим и национальным сообществом наталкиваются на многочисленные трудности, не последняя из которых – отсутствие обыденного английского слова, представляющего этническую сторону этой дихотомии. Наиболее проработанное из этих усилий, авторитетное освещение Энтони Смитом этнических истоков наций, для восполнения этого пробела заимствует французское слово ethnie[183]183
A. Smith, The Ethnic Origins of Nations, 15, 22–23, и The Antiquity of Nations, 184–190.
[Закрыть]. Но тот факт, что ученым, чтобы создать контраст с нашим понятием национального сообщества, приходится обращаться к словам, родственным греческому слову ethnos, которое в течение долгого времени переводилось как «нация» или «народ», дает нам хорошо ощутить те концептуальные трудности, с которыми они сталкиваются.
Действительно, тщательное исследование сообществ, взятых в качестве примеров этноса, обычно обнаруживает, что и для них характерна отличающая нацию форма межпоколенческого сообщества. В частности, оказывается, что они не более примордиальны, объективны и необходимы, нежели национальные сообщества. Подобно нациям, они зависят от субъективного утверждения совместного наследия[184]184
См.: Zubaida, «Nations, Old and New», 329–31; J. M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, xiii, 19–23, 32–33; Tambiah, «Ethnic Conflict in the World Today», 335.
[Закрыть], пусть даже это наследие зачастую включает и мифы об общем происхождении. Они имеют ту же тенденцию к разделению и слиянию в ответ на непредвиденности войны и политики, религиозной борьбы и культурных новшеств[185]185
Исчерпывающее исследование см. в: Armstrong, Nations before Nationalism. См. также: Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, 115–118; J. M. Hall, Ethnic Identity in Greek Antiquity, 28–29; Tambiah, «Ethnic Conflict in the World Today», 335–336.
[Закрыть], что, вероятно, объясняет, почему Макс Вебер в конце концов признается, что «понятие этнической группы, распадающееся, если мы даем этому термину точное определение, в этом отношении соответствует одному из самых досадных, в силу его эмоциональной заряженности, понятий – нации»[186]186
M. Weber, Economy and Society, 389, 395.
[Закрыть]. Наша нужда в заимствовании древнегреческого термина для различения этих двух форм сообщества, возможно, говорит нечто о самом мире, а не только о бедности нашего словаря.
Самым верным знаком того, что понятия нации и этноса относятся к одним и тем же феноменам жизни сообществами, является факт, что со знатоками последнего зачастую происходит ровно то же самое, что и со знатоками первого: в конце концов они всплескивают руками от отчаяния и объявляют, что этническая группа – это совокупность людей, убежденных, что они образуют этническую группу[187]187
См.: Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 12.
[Закрыть]. Как замечает Томас Эриксен, в последнее время происходит конвергенция между антропологами, изучающими этнические группы, и теоретиками национализма, хотя последние пока не спешат это признать. Антропологи стали понимать, что этнические группы также являются конструкциями, основанными на «разговоре о культуре», а не на объективных культурных различиях[188]188
Ibid., 99.
[Закрыть]. В конце концов, нация и этнос (или ethnie) – это два слова, обозначающие одну форму ассоциации: межпоколенческое сообщество, основанное на утверждении совместного культурного наследования.
Однако существует и другая, более объективная, черта, характеризующая индивидов, для описания которой мы часто используем термины «этничность» и «национальность». Когда мы говорим, что кто-то наполовину поляк, наполовину итальянец (не говоря о случаях, когда мы начинаем вычленять четвертые и восьмые части), мы просто отмечаем тот факт, что один его родитель – поляк, а второй – итальянец, а не измеряем степень его приверженности к другим полякам и итальянцам. Мы имеем в виду, так сказать, ту «отметину», которую его родители оставили на нем (польские с одной стороны, итальянские с другой), а не какие-либо субъективные чувства, которые, возможно, он испытывает, нося такую «отметину»[189]189
Stevens, Reproducing the State, 11.
[Закрыть]. Это использование термина «этничность» (или, если на то пошло, термина «национальность», как в паспортах, некогда выпускаемых в Советском Союзе) проводит между нами различие, обращая внимание не на наши собственные, а на родительские привязки к сообществам. С этой точки зрения кто-нибудь, вроде Даниэля Деронда, героя последнего романа Джорджа Элиота, узнав о своих еврейских корнях, не станет евреем в большей степени, нежели он был им до того, как ему это открылось. И эта еврейская этничность остается при нем независимо от того, решит ли он принять свои только что открывшиеся связи с еврейским сообществом или же отвернуться от них[190]190
Великая ирония в утверждении Деронда своего еврейского наследия состоит в том, что в немалой мере оно мотивировано чувством чести, производным от его английского наследия (например, отрицать, что являешься сыном собственных родителей, было бы недостойно джентльмена).
[Закрыть]. Ведь этничность, будучи объективным показателем, говорит нам о том, откуда мы родом, а не о том, что нам известно о себе или какие чувства мы испытываем по отношению к другим[191]191
Этничность, понимаемая таким образом, является более широким понятием, чем раса или расовая наследственность, поскольку отсылает не только к биологическим признакам отличия, но и к тому, этническую принадлежность кого из родителей индивид считает своей.
[Закрыть].
Как таковая этничность манифестирует членство в некоем множестве, в противоположность более требовательным формам членства, ассоциирующимся с сообществами и организациями. Вероятно, многие члены этнической группы воображают себя связанными друг с другом в качестве объектов взаимного попечения и лояльности в силу одинаковых корней их родителей. Другие, возможно, пытаются скоординировать свою деятельность и тем самым учреждают организации, посвященные взаимопомощи и сохранению культуры. Действительно, на этничность как отдельный социальный феномен обратили внимание как раз таки благодаря «живучести» таких этнических организаций и сообществ в крупных политиях, подобных Соединенным Штатам. Но одинаковая этничность или национальность в этом смысле не требует от своих представителей испытывать взаимную эмпатию или иметь организацию.
Возвращаясь к этничности как манифестации межпоколенческого сообщества, замечу, что желание отличить ее от национальности отражает тот же самый интерес к проведению различий между межпоколенческим наследованием и политическими принципами, который мы видели в случае дихотомии между этническими и гражданскими нациями. Одни нации, обычно более старые, сочиняют множество историй об общем происхождении, общность которого, как правило, приводится в качестве определяющей черты этноса. Другие, обычно более молодые, предпринимают очень много усилий, чтобы взять под контроль свою политическую жизнь, заявление о наличии которой, согласно многим теориям, и отличает нацию от этноса[192]192
См.: A. Smith, The Ethnic Origins of Nations, 15, 22–23 и National Identity, 21, 42. Смит, как уже отмечалось, излагает наиболее пространный перечень различий между нациями и тем, что он именует ethnies. Нацию от ethnie он отличает, указав в дополнение к признакам, характеризующим первую, политическую организацию. Обе формы сообщества носят одно наименование, имеют одну историческую территорию, общие мифы, чувство солидарности и ощущение совместной судьбы.
[Закрыть]. Таким образом, кажется, будто нам следует отличать эти группы и те две формы сообщества, которые они представляют. Но, поступая так, мы склоняемся к преувеличению их различий и занижению роли той важной и плохо понятой формы межпоколенческого сообщества, которая им одинаково присуща.
В современном мире изменилась не сама природа национального сообщества, а, скорее, применение (и особенно политическое применение), которое было дано этой форме межпоколенческого сообщества. Те сообщества, которые Смит и другие склонны характеризовать как ethnies, появлялись там и тогда, где преобладающие формы политической организации (империи, династии, племенные федерации, города) обычно не считались с границами сообществ. Те же сообщества, которые они склонны описывать как нации, достигли видного положения в эпохи, когда под давлением обстоятельств происходит координация межпоколенческого сообщества и политической организации. Без сомнения, благодаря этому стремлению в жизнь наций входит много изменений. Но ошибочно считать, что само это стремление вдохновлено появлением новой, отличной от других формы сообщества. Вопреки этому в следующих главах я попытаюсь показать, что это продукт конфронтации старой и хорошо знакомой формы сообщества с новой и беспрецедентной формой политической организации – с современным государством.
Глава 4. Народ, нация и национальное государство
Многие хорошо известные знатоки национализма в своих концепциях, трактующих статус нации, особенный акцент делают на одном моменте, который упущен в моей, а именно – на связи с современным государством и политическим самоопределением. Бенедикт Андерсон, например, определяет нацию как сообщество, воображаемое «ограниченным и суверенным». А Эрик Хобсбаум настаивает на том, что «рассуждать о нациях ‹…› вне этого контекста (вне контекста государства. – Прим. ред.) не имеет ‹…› никакого смысла»[193]193
Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780, 9; B. Anderson, Imagined Communities, 6–7. [Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. С. 19; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. С. 32.]
[Закрыть]. И здравый смысл, и чувство истории вроде бы их в этом поддерживают. Ведь мы регулярно используем термин «нация» в значении соотносящегося с государством сообщества, например когда говорим об Организации Объединенных Наций. И даже при минимальном знакомстве с курсом современной истории становится ясным, что государство сыграло переломную роль в распространении и политизации национального сообщества.
Почему же тогда в своем концептуальном осмыслении национального сообщества я упорно не делаю никакой отсылки к государству или суверенитету? Этому есть три причины. Во-первых, в предыдущей главе я, надеюсь, показал, что «рассуждать о нациях вне контекста государства» отнюдь не бессмысленно, что под нацией понимается особая форма межпоколенческого сообщества, существование каковой не зависит от государства. Во-вторых, в этой главе я надеюсь показать, что, хотя с современным государством действительно связан новый характерный способ воображать групповое членство, этой группой является народ, а не нация. Другими словами, без отсылки к современному государству немыслимо не межпоколенческое культурное сообщество, обсуждавшееся в предыдущей главе, а, собственно, та группа, для которой современными теоретиками создано понятие «учредительного суверенитета».
Наконец, я настаиваю на данном различении нации и народа, потому что полагаю, что взаимодействие между этими двумя способами воображать групповое членство дает ключ к пониманию национализма и тех неуправляемых социальных сил, которые спущены им с цепи в современном мире[194]194
По словам Иштвана Хонта из его важной статьи (Hont, «The Permanent Crisis of a Divided Mankind» 171), «без исторически выверенного понимания теории народного суверенитета невозможно никакое прояснение современного языка национального государства и национализма».
[Закрыть]. Определять национальное сообщество, ссылаясь на государство и суверенитет, ученых поощряет неоспоримый вклад современного государства в подъем национализма. Но именно для того, чтобы осмыслить этот вклад, нам нужно исключить такие отсылки из наших концепций национального сообщества и сформулировать ясное различение между нацией и народом. Ведь новый способ воображать групповое членство, тот, который, как мы увидим, помогает трансформировать лояльность к нации в национализм, инспирирован как раз таки потребностью контролировать и ограничивать беспрецедентные силы современного государства. Дайте нации определение в терминах государства и народного суверенитета, и вы потеряете из виду момент встречи этих двух независимых источников современного социального воображения: один вдохновлен новыми убеждениями по поводу политической легитимности, другой – переживаниями, сопряженными со старой и хорошо знакомой формой межпоколенческой лояльности.
Сразу отмечу, что в этой главе представлено концептуальное, а не семантическое различение между нацией и народом. Другими словами, в ней не говорится, что изложенное здесь различение между народом и нацией регулярно задействуется в обыденном употреблении английского или любого другого знакомого мне языка[195]195
Напротив, в большинстве языков эти два слова или их эквиваленты являются взаимозаменяемыми. В английском языке термин «нация», как правило, имеет больше культурную коннотацию, а народ – больше политическую. В немецком же языке наоборот, хотя, как указывает Эммерих Францис, это является результатом долгой эволюции, перевернувшей употребление этих терминов. См.: Francis, Ethnos und Demos, 61.
[Закрыть]. Вместо этого здесь говорится, что эти два термина используются нами как удобные точки отсчета для двух разных способов мыслить членство. Тот факт, что слова «нация» и «народ» для описания этих двух форм группового членства мы стали использовать как взаимозаменяемые, не должен препятствовать их различению, пусть даже нам и придется для этого совершить некоторое насилие над обыденным языком.
Подобно «нации», словом «народ» стали обозначать различные способы воображать групповое членство, включая и ту разновидность межпоколенческого сообщества, которую в предыдущей главе мы отождествили с нациями. Особенно оно известно как используемое для характеризации неэлитных групп в рамках любого политического сообщества – плебса, толпы («многих») или простонародья. Назовем это популистским образом народа. В то же время этот термин регулярно используется для обозначения целого сообщества, осуществляющего свою волю посредством политических институтов. Назовем это республиканским или демократическим образом народа. Двойственная трактовка двух этих образов народа восходит к древним афинянам, которые регулярно обращались к тому и другому, говоря о демосе. К нему явно апеллировали и в современной политической риторике, как, например, в знаменитой речи Линкольна, славящей «правление народа, волей народа и для народа».
Но это относительно новый образ народа – образ, который появляется в ответ на чрезвычайную концентрацию власти у современного государства, который играет переломную роль в подъеме национализма и который регулярно путают с национальным сообществом. Это образ народа как группы, от которой проистекает вся легитимная политическая власть и к которой она возвращается при распаде системы правления. И хотя этот образ народа легко спутать с более старым республиканским или демократическим образом народа как тела, устанавливающего волю политического сообщества, на деле он является изобретением политической мысли раннего Нового времени. Он рисует народ не обладателем, а предельным источником политической власти и судьей того, как она используется, учредительным, а не правительственным сувереном[196]196
По теории учредительного суверенитета см.: Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty; Hont, «Permanent Crisis», 201; Forsyth, «Thomas Hobbes and the Constituent Power of the People», 191; Béaud, La puissance de l’état, 208–227; Beer, To Make a Nation, 312–321; Pasquino, Sieyes et l’invention de la constitution en France.
[Закрыть]. Государство, согласно этому взгляду, – это иерархически организованная структура институтов и служб, все из которых имеют конкретные и ограниченные полномочия. Неограниченна лишь власть учреждать или распускать таковую структуру, и эта власть зарезервирована за народом в целом и отрицается для любых индивидов или групп, претендующих их представлять. Традиционное понимание народного суверенитета было гораздо проще: осуществление политической власти многими или большинством, а не одним индивидом или относительно малочисленной группой «лучших». Напротив, новое понимание выстраивает картину косвенного суверенитета, предназначенного умерить борьбу за политическую власть, ведущуюся одним, немногими и многими. При этом оно «столь же подтачивает традиционное понятие народного суверенитета, сколь и традиционное понятие государства, возглавляемого государем»[197]197
Hont, “Permanent Crisis,” 172, 184–185.
[Закрыть].
Одним из первых такое понимание народа систематически изложил Джордж Лоусон в своем трактате «Политика священная и гражданская» (Politica Sacra and Civilis, 1660)[198]198
Lawson, Politica Sacra et Civilis. О лоусоновской версии аргумента об учредительном суверенитете см.: Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty, 53–86, а также: Morgan, Inventing the People, 87–89.
[Закрыть]. В нем Лоусон проводит различие между «сообществом» и «государством» (commonwealth); этому различению вторит Локк в заключительном параграфе «Второго трактата о правлении»[199]199
Locke, Two Treatises of Government, 2: § 243. [Локк Дж. Два трактата о правлении. С. 404–405.]
[Закрыть]. По мысли Лоусона, «сообщество есть общество лиц, непосредственно способных образовать государство; иначе говоря, это общество, подходящее для того, чтобы получить форму публичного правления»[200]200
Lawson, Politica, 24, 22.
[Закрыть]. Понимаемое таким образом, сообщество предшествует учреждению правительства и сохраняется после его роспуска, и в такие времена «имеет свободу и право решать, какая форма [правления] ей угодна». Сообщество как таковое удерживает при себе то, что Лоусон называет «действительным величием», которое, по его определению, есть «власть образовывать, упразднять, видоизменять и реформировать формы правления», сила, «большая, нежели личное [величие], которое олицетворяет власть государства, уже образованного»[201]201
Ibid., 30, 46–47. Вторя «Политике» Аристотеля, Лоусон описывает сообщество как материю, а строй как форму государства (22). Однако при этом он решительным образом переворачивает формулировку Аристотеля. Ведь первостепенное значение Аристотель придает строю или форме полиса, утверждая, что само существование и особый характер граждан (или материи) полиса зависят от строя (или формы) (см.: Аристотель. Политика, 1276a – b). Напротив, для Лоусона приоритетом является материя или сообщество государства, поскольку он настаивает, что она предсуществует строю и учреждает строй, сообщающий государству его форму.
[Закрыть].
Свою знаменитую защиту права на революцию Локк аналогичным образом строит на различении «между распадом общества и распадом системы правления». С распадом системы правления, утверждает он, высшая власть «возвращается к обществу, и народ имеет право действовать в качестве верховной власти и продолжать являться законодательным органом, либо создать новую форму законодательной власти, либо, сохраняя старую форму, передать эту власть в новые руки, как сочтет лучшим»[202]202
Locke, Two Treatises, 2: § 211, § 243. Заметим, что в этих параграфах Локк использует термины «народ», «общество» и «сообщество» как взаимозаменяемые, противопоставляя их всех «государству» (commonwealth), то есть сообществу, учрежденному конкретной формой правления. [Локк Дж. Два трактата о правлении. С. 385, 405.]
[Закрыть]. Еще более громогласная формулировка новой доктрины представлена в статье III «Декларации прав человека и гражданина», принятой в эпоху Великой французской революции. «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации»[203]203
См.: Французская Республика: Конституция и законодательные акты. М.: Прогресс, 1989. С. 27. – Прим. пер.
[Закрыть]. «Суверенитет, – как толкует это право Томас Пейн, – принадлежит единственно только нации, а не какому-либо индивиду, и у нации всегда есть непреложное и неотъемлемое право упразднять любую форму правления, сочтенную ею непригодной, и учреждать таковую в согласии со своим интересом, нравом и счастьем»[204]204
Paine, The Rights of Man, 165, 207.
[Закрыть].
Неважно, используется ли термин «народ», «нация», «сообщество», «общество», апелляция происходит к одному и тому же образу группового членства: целокупное тело политической ассоциации как предельный источник строения политической власти, направляющий ход ее общественных дел. Как разъясняет Пейн, в значении носителя учредительного суверенитета термины «народ» и «нация» употребляются как взаимозаменяемые. «В Америке конституционные начала учреждаются народом. Во Франции вместо слова „народ“ используют слово „нация“, но в обоих случаях конституция – это то, что предшествует правительству»[205]205
Ibid., 213. Таким образом, нет никаких оснований заключать, как это делает Иегошуа Ариэли (Yehoshua Arieli, Individualism and Nationalism in American Ideology, 95), что эти два термина отсылают к двум разным пониманиям сообщества: «„народ“ ‹…› к свободно объединившимся людям, „нация“ – к неделимому единству общества».
[Закрыть]. И даже Сийес, красноречиво славящий нацию как лоно народного суверенитета, отмечает, что «„политическое общество“, „народ“, „нация“ суть синонимы»[206]206
Sieyès, “Contre la ré-totale,” 175.
[Закрыть]. Политическая власть, говорит он, «исходит от народа, то есть от нации»[207]207
Sieyès, Écrits Politiques, 200.
[Закрыть].
«Начиная с периода революций, – полагает Мюррей Форсайт, – эта идея народа как учредительной силы постепенно стала действительностью во всем западном мире». В «народе» все чаще стали видеть «„субъект“ конституции», тот предельный источник, из которого проистекает вся легитимная власть[208]208
Forsyth, “Thomas Hobbes and the Constituent Power of the People,” 191.
[Закрыть]. «В той или иной форме этот принцип принят сейчас во всех конституционных системах» и даже во многих диктатурах. Действительно, «он даже может казаться очевидным»[209]209
Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty, 124.
[Закрыть].
Может быть. Но это все еще довольно странная идея, в некотором отношении более странная и абстрактная, чем те абсолютистские доктрины, которые, по изначальному замыслу, она должна была заменить. Все-таки
короля, сколь бы сомнительной ни казалась его божественность, не нужно было воображать. Он был наглядно присутствовавшей фигурой, с короной на голове и скипетром в руке. С другой стороны, народ как таковой никогда нельзя увидеть. Прежде чем приписать народу суверенитет, нам придется вообразить, что вообще существует такая вещь, нечто, что мы персонифицируем, как будто это единое тело[210]210
Morgan, Inventing the People, 153.
[Закрыть].
И когда либералы становятся либеральными демократами, эта тайна не исчезает. Ведь в либеральных демократиях народ, подобно средневековому монарху, имеет два тела: институционально определенное большинство, правящее в системе правления, и включающая гораздо больший круг людей, но бесформенная группа, устанавливающая ограниченные институциональные полномочия мажоритарного правления.
Особенно таинственным этот образ мышления кажется оттого, что для него нужно, чтобы мы считали народ единственным в своем роде коллективным актором, предшествующим учреждению какого-либо из институтов правления, которые в рядовом порядке позволяют нам отличать голос одного коллектива от голоса другого. Вообразить народ сообществом всех индивидов, подчиненных одной и той же политической власти, или же сообществом всех тех, кто сам участвует в осуществлении этой власти, относительно легко. Но чем же один народ отличается от другого в отсутствие организованной координации индивидуальных воль, установленной существующими структурами политической власти? Ничем, ответят абсолютисты вроде Гоббса. Система правления может учреждаться в силу и ради нужд и пользы обыкновенных людей, утверждает Гоббс. Но без представляющего их суверена группа индивидов не способна говорить или действовать как коллективный актор. «До установления государства, – настаивает он, – не существует народа как некоего единого лица, а лишь множество отдельных лиц»[211]211
Hobbes, De Cive, 110. [Гоббс Т. Основы философии. Часть третья. О гражданине. С. 353.] Для Гоббса из этого следует, что «народ правит во всяком государстве, ибо и в монархическом государстве повелевает народ, потому что там воля народа выражается в воле одного человека. И при монархии подданные – это толпа, а, как это ни парадоксально, царь есть народ» (ibid., 154) [С. 395].
[Закрыть]. А «множество людей становится одним лицом, когда оно представлено одним человеком или одной личностью ‹…› Ибо единство лица обусловливается единством представителя, а не единством представляемых»[212]212
Hobbes, Leviathan, chap. 16. [Гоббс Т. Левиафан. С. 127.]
[Закрыть]. Если, вопреки сильным возражениям Гоббса, принцип учредительного суверенитета народа стал теперь очевидным, то это произошло только потому, что мы уже привыкли воображать себя членами этой странной, не имеющей строгого определения группы. Это значит, что обращение к нашему социальному воображению служит опорой для либеральных идеалов ограниченного правления не меньше, чем выстраивание институциональных механизмов вроде разделения властей.
Как же в таком случае принцип учредительного суверенитета ведет к тому, что мы воображаем себя членами народа? Какая из групп является представителем воображенного таким образом народа? Вопреки (или, может быть, благодаря) тому, что эти вопросы хорошо известны в качестве фундамента почти всех современных притязаний на политическую легитимность, было сделано мало усилий, чтобы дать на них точные ответы[213]213
Идея народа – это такое общее место либерально-демократической теории и практики, что вы могли бы подумать, что почти все, что можно было бы об этом сказать, уже сказано. На деле же, идея народа не получила и доли того внимания, какое социальные и политические теоретики посвятили нации. Ситуация начала меняться недавно, с появлением таких работ, как книга Маргарет Канован (Margaret Canovan, The People). См. также: R. Smith, «Citizenship and the Politics of People-Building»; Frank, Constituent Moments; Nässtrom, «The Legitimacy of the People». До сих пор наиболее интересные и проницательные трактовки этого понятия были представлены в исследованиях нации, что не так уж и удивительно, учитывая, как эти два понятия стали отождествляться друг с другом. См., например: Beer, To Make a Nation, и Greenfeld, Nationalism (первые главы). Хорошее историческое освещение истоков понятия «народ» см. в: Morgan, Inventing the People.
[Закрыть].
Считать ли нам народ формой сообщества, то есть группой индивидов, воображающих себя связанными друг с другом узами взаимного попечения и лояльности? Не думаю. За народом данного государства остается власть учреждать и распускать структуры правления независимо от того, какие чувства составляющие его индивиды испытывают друг к другу. Как сказал Кант, легитимную политическую власть может учредить и «народ дьяволов», если только они обладают рассудком[214]214
Kant, “Perpetual Peace,” 112. [Кант И. К вечному миру. С. 33.]
[Закрыть]. Народ, понимаемый в таком смысле, создается вовсе не благодаря взаимной доброжелательности.
Тогда, может быть, следует думать о народе как о некоей организации, способе координировать воли собранных в группу индивидов, чтобы они отвечали совместной цели (в данном случае – учреждению и контролю полномочий государства)? Локк, скажем, поощряет нас думать так своей теорией о двойном договоре: первым учреждается народ в качестве учредительного суверена, а вторым учреждается форма правления. «То, что создает сообщество и сводит людей из разъединенного естественного состояния в одно политическое общество, – это соглашение, которое каждый заключает со всеми остальными о том, чтобы объединиться и выступать в качестве одного целого и стать таким образом единым особым государством»[215]215
Locke, Two Treatises, 2: § 211. [Локк Дж. Два трактата о правлении. С. 384–385.] Однако даже Локк не может скрыть неправдоподобность этого утверждения и признается, что «те, кто настолько нравился друг другу, что желали объединиться в общество, были связаны каким-либо знакомством и дружбой друг с другом и доверием друг к другу; они гораздо больше опасались остальных, чем друг друга». Он признает, что для них «было естественным создать для себя ‹…› форму правления» (ibid., 2: § 107 [там же, c. 323]). Полный анализ того, до какой степени «Локк считает само собой разумеющимся, что политическое общество покоится на социальном сродстве», а не на добровольной ассоциации, см. в: Rabkin, «Grotius, Vattel, and Locke».
[Закрыть]. Но следование Локку ставит вопрос о том, кто (и какой властью) организует группу индивидов, чтобы в первую очередь сформировать народ, чем подразумевается, что за властью народа могла бы стоять и другая власть. Вот почему Сийес, приписывающий Франции честь открытия различения между учредительным и законодательным суверенитетом, настаивает, что «учреждается не нация, а правительство»[216]216
Pasquino, «The Constitutional Republicanism of Emmanuel Sieyes», 111.
[Закрыть]. «Учрежденная нация или народ», отмечает он, – это противоречие в терминах, поскольку только нация или народ обладают учредительной властью[217]217
Sieyès, What Is the Third Estate?, 126–28. См.: Hont, «Permanent Crisis», 193n46.
[Закрыть]. Другими словами, для учреждения нации потребовалась бы другая нация, что означает, что поиск договорных истоков нации ведет к бесконечному регрессу.
Поэтому я думаю, что народ, воображаемый в качестве учредительного суверена, лучше всего понимать как множество (set), а не как организацию или сообщество. Другими словами, членство в народе идет просто-напросто от общности некоей конкретной черты или ситуации, а не от той связанности, которая проистекает из доброжелательных чувств, порождаемых сообществами, и не из скоординированной деятельности, порождаемой организациями. Группа, которую наделяет суверенитетом это новое понимание политической легитимности, представляет собой множество всех, кто постоянно подчинен власти конкретного государства, воображаемое отвлеченно от того, каким образом там организована политическая власть. Общей для членов этой группы характеристикой является их подчинение власти конкретного государства. Теория учредительного суверенитета приписывает этой группе предельную и неограниченную силу учреждать и распускать структуры правления, а потом эта группа воображается первичной или отвлеченной по отношению к любой конкретной структуре политической организации.
Народ, воображаемый таким образом, – это решительно абстрактная группа, как часто сетуют политические теоретики. Например, Гегель высмеивает это «несчастное представление о народе», согласно которому он есть «бесформенная масса, уже больше не представляющая собою государства и больше уже не обладающая ни одним из определений, наличных лишь в сформированном внутри себя целом, не обладающая суверенитетом, правительством, судами, начальством, сословиями и чем бы то ни было [благодаря чему] он перестает быть той неопределенной абстракцией»[218]218
Hegel, Philosophy of Right, § 279. [Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 320–321.] Об этом пассаже см.: Stevens, Reproducing the State, 79–80.
[Закрыть]. И все же именно эта абстрактная и бесформенная концепция народа потеснила всех своих конкурентов на роль источника политической легитимности современного государства[219]219
Franklin, John Locke and the Theory of Sovereignty, 124. См. также: Hont, «Permanent Crisis», 201, и Forsyth, «Thomas Hobbes and the Constituent Power of the People», 191.
[Закрыть]. Популистский образ народа как простого люда, массы покорных рядовых граждан, разумеется, жив и в современной политике. Им всегда можно воспользоваться, чтобы разжечь призывы против преимуществ богатых и сильных. Жив, конечно же, и более старый образ народа как демоса, подпитывая собой запросы на то, чтобы демократии было еще больше. Но широчайшее влияние на современную политическую теорию и практику было оказано как раз таки этим новейшим образом народа, позволившим говорить обо всех обитателях территории как о коллективном источнике власти в государстве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































