Читать книгу "Национализм и моральная психология сообщества"
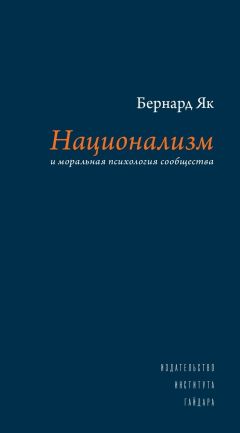
Автор книги: Бернард Як
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Проблемы, имеющиеся у чисто гражданского понимания национального сообщества, с очевидностью обнаруживаются в самой влиятельной из последних версий гражданско-националистической мысли – защите Юргеном Хабермасом идеи «конституционного патриотизма»[61]61
Habermas, «Citizenship and National Identity». [Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность.] См. также: Habermas, The New Conservatism, 256–262, а также: «The European Nation-State». Благожелательное обсуждение и критику концепции конституционного патриотизма Хабермаса см. в: Booth, «Communities of Memory»; Markell, «Making Affect Safe for Democracy», а также: Mueller, Constitutional Patriotism. Маркелл утверждает, что, хотя аргументация Хабермаса в пользу конституционного патриотизма и пала во многом жертвой мифа гражданского национализма, ее «малая тема» (39) представляет собой продуктивную альтернативу, которая способствует политической солидарности, не делая ее предпосылками ни заданный набор принципов, ни закрытые национальные горизонты.
[Закрыть]. Хабермас использует эту идею, чтобы дать бой возрождающемуся после воссоединения Германии этническому шовинизму[62]62
Хабермас не единственный современный теоретик, который дает Ренану неверное толкование, о котором говорилось в предыдущем параграфе. По его мысли, «Ренан только потому смог отклонить претензии Германской империи на Эльзас, ‹…› что „нацию“ он понимал как нацию граждан». Согласно Хабермасу, «знаменитое изречение Эрнеста Ренана “L’existence d’une nation est… un plebiscite de tous le jours” (Существование нации есть непрерывный плебисцит) уже находится в контексте, направленном против национализма». Habermas, «Citizenship and National Identity», 258–259. [Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность. С. 214].
[Закрыть]. В качестве альтернативного средоточия немецкой идентичности он предлагает лояльность либерально-демократическим принципам послевоенной конституции. Соответственно, он противопоставляет два способа характеризовать включение восточногерманских земель в Федеративную Республику: с одной стороны – восстановление «дополитического единства как сообщества исторической судьбы»; с другой стороны – восстановление «демократии и правового государства на той территории, где начиная с 1933 года гражданские права были так или иначе лишены силы»[63]63
Habermas, «Citizenship and National Identity», 256. [Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность, с. 211.]
[Закрыть]. Защита Хабермасом конституционного патриотизма – это в значительной мере защита второго, чисто гражданского описания воссоединения Германии.
Учитывая страшную историю немецкого национализма, стремление принизить значение дополитической немецкой идентичности было бы понятно. Но гражданская интерпретация воссоединения Германии у Хабермаса всего-навсего оправдывает или легитимирует изменение политического режима – от коммунизма к либеральной демократии – в Восточной Германии. Она никак не объясняет и не оправдывает воссоединение с Федеративной Республикой. Учредить либерально-демократический режим в Восточной Германии, наверное, было легче, интегрировав ее в уже действующую (не говоря о том, что богатую) либеральную демократию, такую как Федеративная Республика. Но этот вариант не предлагался (и даже теоретически не рассматривался Федеративной Республикой) обитателям Чехословакии или Польши или еще какого-нибудь бывшего коммунистического государства. Как же объяснить существование этой возможности для безболезненного перехода от коммунизма, не взывая к дополитическому сообществу с совместной памятью и историей, которые привязывали западных немцев к восточным, не обращаясь к ощущению общности, благодаря которому последние стали единственными адресатами особого внимания и поддержки первых? Этот вопрос так и напрашивается в связи с хабермасовской гражданской интерпретацией воссоединения.
Хабермас молчаливо признает то же самое, когда говорит, что конституционный патриотизм представляет собой способ разместить универсалистские принципы «в контексте истории какой-либо нации граждан»[64]64
Ibid., 264. [Там же, c. 222.] См. также: The New Conservatism, 233, где Хабермас говорит о связях «с нашими родителями, бабушками и дедушками через сеть семейных, местных, политических и интеллектуальных традиций ‹…› сделавших нас теми и такими, кто мы есть сегодня», как о том, благодаря чему можно настаивать на особых обязательствах немцев в отношении памятования геноцида и антисемитизма и сопротивления им.
[Закрыть]. Из этого утверждения явствует, что аудитория, к которой обращены аргументы о данном средоточии политической лояльности, – это не какая-то беспорядочная совокупность индивидов, объединенных одной только верностью совместным принципам, но дополитическое сообщество со своим собственным культурным «горизонтом» совместных воспоминаний и исторического опыта. Только существование таких культурных горизонтов и превращает конкретное собрание индивидов, а именно немцев, в аудиторию, которой адресуются аргументы Хабермаса об интерпретации немецкой политической истории[65]65
Некоторые из защитников Хабермаса, такие как Анна Стилц (Stilz, Liberal Loyalty, 153–160) и Пэтчен Маркелл (Markell, «Making Affect Safe for Democracy», 38–39), говорят, что фактически Хабермас пытается переключить наше внимание с совместной политической наследственности на проводимую сейчас демократическую практику как источник тех принципов, которыми вдохновляется конституционный патриотизм. (См. также: Mueller, Constitutional Patriotism, 34ff.) Но даже если мы принимаем эту интерпретацию, у его концепции конституционного патриотизма остаются две значительные проблемы. Прежде всего, ничуть не ясно, порождает ли демократическая практика именно те совместные принципы и лояльность, к которым он апеллирует. Разность мнений – это центральный пункт демократической практики, что, возможно, объясняет, почему более подлинные демократии участия, такие как в Афинах, имеют тенденцию инспирировать более бурные формы разлада, нежели наши собственные. Во-вторых, даже если идеалы, которыми вдохновляется конституционный патриотизм, и порождаются совместными проектами в рамках демократической практики, это не отвечает на вопрос, почему в конечном итоге наша демократическая практика складывается именно с той, а не иной группой лиц и как наши предшествующие связи с этой группой отражаются на облике тех проектов, которые мы сообща реализуем.
[Закрыть].
Вне этих культурных горизонтов горячий призыв Хабермаса к конституционно сфокусированному патриотизму, в общем-то, не имеет большого смысла[66]66
Другими словами, существование чего-то наподобие национального сообщества является предпосылкой его аргументации. См.: Canovan, Nationhood and Political Theory, 87–88.
[Закрыть]. Именно оттого, что у немцев есть общие страшные воспоминания о расистском и милитаристском насилии, им есть смысл цепляться за Основной Закон послевоенной конституции как их самое ценное историческое наследство. Лучше всего аргументация Хабермаса работает в рамках напряженных попыток истолковать ту значимость, какую наследство совместных воспоминаний имеет в конкретном сообществе. Но как таковая она предполагает существование того самого дополитического сообщества, которое Хабермас, как и большинство защитников гражданской трактовки нации, отвергает во имя сообщества, основанного на рациональном согласии и политическом принципе[67]67
Как замечает Джефф Спиннер-Халев (Spinner-Halev, «Democracy, Solidarity, and Post-Nationalism», 14–15), есть противоречие между желанием Хабермаса вывести нас за пределы национальных сообществ, в основе которых совместные дополитические настроения, и его же настойчивыми требованиями, чтобы немцы не забывали о бремени преступлений своих предшественников.
[Закрыть].
Существование такого сообщества – это допущение, молчаливо, но, как правило, без исследования принимаемое в контрактном и неокантианском изводах политической теории, к которым Хабермас, как и многие современные либералы, относится с особым благоволением. Аргументы теории общественного договора служат легитимации – через фактическое или подразумеваемое согласие – других способов упорядочения социальных и политических отношений внутри заранее определенной группы индивидов. Ведь эти аргументы предполагают, что у индивидов, совещающихся друг с другом о справедливости и общественном договоре, имеются достаточные основания внимать предложениям и решениям друг друга, а не еще каких-нибудь индивидов вне этой группы. Поскольку вся суть этих теорий состоит в определении надлежащего порядка внутри данной группы индивидов, в большинстве споров о значении либерально-демократических принципов это допущение о дополитическом сообществе можно благополучно выпустить из виду. Только в ситуациях, когда границы таких групп оказываются под сомнением (как при рассмотрении возможности воссоединения Германии), допущение о дополитической лояльности сообществу как раз таки и выходит на свет.
Либеральные критики национализма любят характеризовать апеллирование к дополитическим национальным идентичностям как элемент романтического и иррационального бунта против Просвещения и современной политической культуры. Но эта хорошо знакомая критика не учитывает то, в какой мере сама либерально-демократическая культура вдохновляет людей считать себя членами дополитических сообществ. В особенности это касается риторики народного суверенитета. Аргументы о народном суверенитете поощряют современных граждан считать себя членами организованных групп, логически и исторически предшествующих тем сообществам, которые созданы их совместными политическими институтами. В той мере, в какой тенденция искать дополитические истоки политической идентичности подвергается осуждению, современная демократическая политическая культура оказывается проблемой, а не решением[68]68
Более подробно я излагаю этот момент ниже, в главах 4 и 6.
[Закрыть].
Хабермас справляется с этой трудностью, давая народному суверенитету кантианское толкование. Он изображает народный суверенитет в виде «абстрактной модели» принятия индивидами законов для самих себя: «консенсус, которого достигают ‹…› в конечном счете лишь на единстве процедуры, по поводу которой пришли к согласию»[69]69
Habermas, «Citizenship and National Identity», 259–260. [Хабермас Ю. Гражданство и национальная идентичность. С. 216.] См. также: «Popular Sovereignty as Procedure» // Habermas, Between Facts and Norms, 600–631.
[Закрыть]. Каковы бы ни были ее философские достоинства[70]70
Критику этой интерпретации см. в: Yack, «Democracy and the Love of Truth».
[Закрыть], эта интерпретация народного суверенитета не имеет большой исторической ценности. Современные политические культуры, которые Хабермас приводит в качестве основы конституционного патриотизма, учреждались и защищались все-таки во имя народа и la nation, а не во имя «исходной позиции» или «идеальной речевой ситуации». Кроме того, процедуры локализации консенсуса, к которым Хабермас апеллирует как к основе народного суверенитета, предполагают, что индивиды заранее знают, с кем, то есть с какой группой людей, они стремятся достичь консенсуса. Абстрактность хабермасовского понимания консенсуса внутри сообщества ни в коей мере не упраздняет это допущение, даже если и затрудняет эту локализацию. До тех пор пока в вопросе об историческом референте риторических апелляций к народу (как в Английской, Американской и Французской революциях) не существует крупных разногласий, это допущение, как правило, остается фоновым. Расхождение же мнений по поводу исторической идентичности «народа» ставит это допущение под сомнение, создавая серьезные затруднения для аргументов о народном суверенитете. Мы не должны отворачиваться от того, чем чревато наше упование на такие допущения, даже если это причинит нам неудобства, показав, что индивидуальные права и политические свободы в определенной мере зависят от случайностей совместной памяти и идентичности.
Но что, если бы миф гражданской нации стал реальностью? Что, если бы либеральные политии смогли превратиться в ту разновидность добровольных ассоциаций для выражения совместных политических принципов, какой их изображает миф? Обеспечили бы они оптимальную среду для распространения терпимости и разнообразия, как, по очевидному мнению сторонников гражданского национализма, это и происходит на самом деле? Будь оно так, мы, возможно, захотели бы сберечь гражданскую нацию в качестве морального и политического идеала, пусть даже и отказываясь считать, что этим понятием описываются существующие либеральные политии.
Однако я полагаю, что миф гражданского национализма наделяет нас ущербным политическим идеалом, а не только дает неточное описание либерально-демократической политики. Более того, подозреваю, что так происходит только потому, что на самом деле мало кто всерьез принимает идею сообщества, основанного на совместных принципах, чтобы мысль о ней как о противоядии исключению и нетерпимости не вызывала у нас никаких затруднений. Ведь даже самый беглый взгляд на историю социального конфликта учит нас, что разделяемый сообществом выбор в пользу принципов может инспирировать не меньше насилия и нетерпимости, чем бездумный этноцентризм.
Все-таки осуждению и преследованию американские граждане подвергаются не только под предлогом их иностранного происхождения, но и под предлогом цепляния за неамериканские политические принципы. Во время маккартианской охоты на ведьм комиссия по расследованию антиамериканской деятельности искала не незаконных иммигрантов, а скрытую подрывную деятельность. И якобинский террор, сам являясь «сильно морализированным политическим вариантом этнической чистки»[71]71
Hont, «Permanent Crisis of a Divided Mankind», 205.
[Закрыть], был инспирирован не этнической солидарностью, а гражданскими принципами. Более того, как напоминает нам Джордж Мосс, многие методы преследования и массовой паранойи, эксплуатировавшиеся фашистами и националистами-ксенофобами в XX веке, были изобретены как раз таки подчеркнуто гражданской нацией французских якобинцев[72]72
См.: Mosse, Confronting the Nation, 65–72.
[Закрыть].
Похоже, что сосредоточение на политических принципах как основе коллективной верности может сделать нас более, а не менее подозрительными по отношению друг к другу. Легко понять, почему это могло бы происходить. Если единственная причина, почему мы доверяем друг другу, – это наша приверженность определенным политическим принципам, то выявление подлинности или неподлинности выбора друг друга, вероятно, будет заботить нас гораздо больше, чем сейчас. И поскольку не существует никакой процедуры, с помощью которой мы могли бы раз и навсегда отмести подозрения в неискренности, усилившееся высматривание, насколько кто привержен своему политическому выбору, непременно приведет к росту недоверия. Это одна из причин того, почему революции так часто терпят крах, погрязая во взаимных подозрениях и обвинениях в измене[73]73
См. классическое исследование Франсуа Фюре «Постижение Французской революции».
[Закрыть]. Революционеры требуют друг от друга решительной и принципиальной приверженности, в искренности которой легко усомниться в неспокойные и неопределенные времена. Подобным же образом, если бы американцы приурочивали гражданство к приверженности политическим принципам (вместо простой случайности рождения от родителей-граждан или на американской территории), то, возможно, они стали бы со значительно большей подозрительностью относиться к тому, как их сограждане декларируют свою политическую лояльность. Гражданство по праву рождения может способствовать терпимости именно тем, что изымает вопрос о членстве в сообществе из сферы выбора и прений о политических принципах[74]74
Те, кто, подобно Айелет Шахар (Shachar, The Birthright Lottery) и Питеру Шаку с Роджерсом Смитом (Shuck and Smith, Citizenship without Consent), сетует на аномальность для американской политической культуры института гражданства по праву рождения, как правило, недооценивают его вклад в толерантность. В своей более поздней работе Смит признается, что чисто консенсуалистское представление о гражданстве по большей части выдвигалось в поддержку нетолерантных представлений о политическом сообществе в духе эксклюзивизма. См.: Smith, Civic Ideals, 507n41, а также: Stories of Peoplehood.
[Закрыть].
Совместные принципы кажутся более инклюзивным истоком сообщества, нежели культурное наследие, как раз таки потому, что каждый человек может, по крайней мере в теории, выбрать свои политические принципы, в то время как никто не выбирает, когда или где родиться. Но совместные принципы являются одним из самых мощных источников фракционности. Ведь, как заметил Юм, «такова природа человеческого ума, что он всегда стремится покорить каждый ум, который к нему приближается, и в той же мере, в какой его изумительно укрепляет единство во мнениях, его поражает и раздражает любое противоречие»[75]75
Hume, «Of Parties in General», 60–61. [Юм Д. О партиях вообще. С. 516.]
[Закрыть]. Сосредоточение на совместном наследии побуждает нас выискивать раздражающие знаки противоречия в корнях и обычаях друг друга. Сосредоточение же на совместных принципах побуждает нас вместо этого выискивать свидетельства противоречия в умах друг друга. Гораздо более здравым представляется употребление обеих форм сообщества для взаимного умерения их исключающих тенденций, вместо того чтобы дурачить самих себя, полагая, что проблему исключения и недоверия к инаковости может ликвидировать общность принципов. Все-таки одной из причин, почему в современном политическом ландшафте столь видное место стало принадлежать совместному культурному наследию, является то обстоятельство, что оно было путем противоборства подозрительности и ненависти к другим, которые насеивались христианскими религиозными сектами – одними из наиболее успешных в истории человечества сообществ на основе принципа[76]76
По этой причине Юму (Hume, «Of Parties in General», 60–63 [Юм Д. О партиях вообще. С. 515–517]) так не терпелось остудить наш энтузиазм по поводу «партий, основанных на принципе». См. также: «The Secret History of Self-Interest».
[Закрыть].
От похожих проблем несвободны и предложения о ликвидации социального исключения и недоверия посредством замены национализма республиканским патриотизмом в качестве средоточия политической солидарности[77]77
Наиболее полно разработанная версия этой аргументации представлена в: Viroli, For Love of Country. См. также: Viroli, «Reply to Xenos and Yack», и Yack, «Can Patriotism Save Us from Nationalism?».
[Закрыть]. Проблема с этим предложением не в том, что между национализмом и патриотизмом отсутствует какое-либо реальное различение. Несмотря на то что часто кажется, будто национализм не что иное, как патриотизм с неправильной любовью к отечеству[78]78
См.: Breuilly, «Nationalism and the State», 19.
[Закрыть], между ними можно провести весомые различия, которые не ограничиваются разным звучанием этих слов и тем, что одно из них мы предпочитаем другому. Республиканский патриотизм стоит на «любви к тем политическим институтам и тому образу жизни, на которых держится всеобщая свобода народа»[79]79
Viroli, For Love of Country, 1, 2–6.
[Закрыть]. От этнического национализма он отличается тем, что сосредоточивается на политических ценностях гражданства. От гражданского же национализма он отличается тем, что с энтузиазмом приемлет коллективную страсть, любовь к республиканской patria. Вопрос, скорее, в том, повысится ли хоть как-то вероятность выполнения республиканским патриотизмом обещанного, усвой мы его вместо мифа гражданского национализма.
На самом ли деле, как заявлялось некоторыми, «патриотизм, в отличие от национализма, фактически никогда не действовал как агрессивная политическая сила»[80]80
Alter, Nationalism, 3.
[Закрыть]? Те, кто предлагает патриотизм в качестве противоядия национализму, по-видимому, полагают, что так оно и есть. Но боюсь, их соблазнила риторика республиканского патриотизма и они не замечают его действительного состояния.
В словесной драпировке своих самых красноречивых приверженцев, от Цицерона до Шефтсбери и Робеспьера, республиканский патриотизм выглядит великодушной любовью к своим соотечественникам, которая «поддерживает свободу, вместо того чтобы разжигать исключение или агрессию» против чужаков[81]81
Viroli, For Love of Country, 8–9, 59.
[Закрыть]. Между республиканской любовью к родине и национализмом, настаивает Бенедетто Кроче, та же разница, что между «деликатной любовью человека к себе подобному» и «звериной похотью, развратом, притворством, эгоистическими капризами»[82]82
Бенедетто Кроче, цит. по: Viroli, For Love of Country, 168. [Кроче Б. Непривычное слово: любовь к отечеству. С. 259.]
[Закрыть]. Короче говоря, республиканский патриотизм дает нам, по крайней мере в теории, солидарность партикуляризма без ее омерзительных побочных эффектов, ведь «любовь ко всеобщим свободам легко простирается за национальные границы и переходит в солидарность»[83]83
Ibid., 12, курсив добавлен.
[Закрыть].
К сожалению, это противоядие национализму – просто форма дискурса, то есть способ говорить о совместных настроениях и идентичностях. Республиканские патриоты, возможно, и внушали столетиями многие достойные памятования и полезные добродетели, однако кротость и симпатия к чужакам не играют среди них заметной роли. Цицерон, основатель и центральная фигура республиканской традиции, возможно, и характеризует патриотизм как форму сострадания и уважения. Вот только так ли уж много оснований думать о патриотизме как любви, которая «поддерживает свободу, вместо того чтобы разжигать исключение или агрессию», дает история Римской республики? Я считаю, что это не так, – если только вы не станете полагать, что Римская республика завоевала западный мир в ответ на нескончаемую череду несправедливых и неспровоцированных нападений своих соседей. Шефтсбери, возможно, и не терпится, чтобы мы подражали примеру кротких и великодушных древнегреческих патриотов, которые «были столь далеки от тщеславного, эгоистичного и смехотворного презрения к другим, что даже являли собой иную крайность, восхищаясь в чужеземных нациях всем, что хотя бы в малейшей степени было искусным или любопытным»[84]84
Граф Шефтсбери, цит. ibid., 59.
[Закрыть]. Но он игнорирует экстраординарную жестокость нескончаемых войн греков против их соседей и иноземцев. Патриоты Великой французской революции, возможно, описали бы свою любовь к родине как щедрое чувство, которое они желали разделить со всем миром. Но когда мир воспротивился их объятиям, они были готовы, как советовал свирепый хор Марсельезы, «оросить свои поля нечистой кровью» врагов[85]85
Эти слова следуют за знаменитым призывом «aux armes, citoyens» [к оружию, граждане! – Прим. пер.] в хоре Марсельезы. О развитии якобинского национализма см.: Hont, «Permanent Crisis».
[Закрыть]. Где бы республиканский патриотизм ни доходил до уровня совместной страсти, великодушие к чужакам так и не стало его отличительным признаком[86]86
Это не значит, что республиканский патриотизм в большей степени, чем национализм, выражается насилием и нетерпимостью. См., например, описание явно ненационалистического значения патриотизма в английском и американском политическом дискурсе XVIII столетия в: Dietz, «Patriotism».
[Закрыть].
Проблема с национализмом не в том, что ему недостает положительных образов, в которых была бы представлена лояльность к нации, когда любовь к своему собственному соединена с уважением других и восхищением ими. У национализма, как и у республиканского патриотизма, много приверженцев, описывающих его именно так. Например, Гердер уговаривает нас лелеять каждую нацию как одну из уникальных граней человечества[87]87
Это тема главного труда Гердера «Идеи к философии истории человечества». См. также: West, Black Lamb, Grey Falcon, 843.
[Закрыть], точно так же, как республиканские патриоты учат нас лелеять свободу каждого сообщества. Мадзини же утверждает, что приверженность свободе своей собственной нации влечет за собой приверженность свободе всех наций[88]88
См.: Mazzini, A Cosmopolitanism of Nations.
[Закрыть]. В обоих случаях проблема в фактических чувствах, выражаемых их последователями, а не в том, как они описывают эти чувства. Республиканский патриотизм не может привить нас от националистической нетерпимости, потому что на практике он, по-видимому, способствует той же самой раздражительной гордости и той же самой враждебности к другим, которые ассоциируются у нас с национализмом. Сильная доза этого патриотизма, возможно, и сделала бы нас более справедливыми и совестливыми гражданами, но я сомневаюсь, что республиканский патриотизм сделал бы мир более спокойным или великодушным местом.
Миф гражданской нации отражает одну из стратегий защиты либеральной политики от угроз со стороны националистических страстей: нужно найти некую форму национальной солидарности, в основе которой лежало бы не совместное наследие, а совместные принципы. Существуй такая форма национального сообщества, и рост национальной идентичности уже не будет с необходимостью подрывать социальное разнообразие и универсальные права человека. Национализм уже не угрожал бы либеральному представлению о прогрессе, поскольку посредством гражданской нации послание истории еще могло бы быть доставлено индивидам.
Но от одного только желания дело не сделается. Миф гражданской нации защищает от национализма либеральное политическое наследство Просвещения, задействуя то самое понятие – политическое сообщество как добровольная ассоциация, – чье правдоподобие уже подорвано успехом национализма. Либеральное наследство, включающее права личности и политическую рациональность, сформировалось внутри политических сообществ, от которых исходит своего рода унаследованная культурная идентичность, совершенно непредвиденная либералами Просвещения. Битва за сохранение этого наследства происходит внутри рамок, созданных такими сообществами, а не между этнокультурными и гражданскими формами современной нации. Внутри этих рамок у нас есть все основания конструировать и защищать различия между более или менее инклюзивными формами национального сообщества. Но тогда мы не должны дурачить самих себя, думая, что конструируемая нами форма национальной идентичности является свободно выбранной и чисто гражданской.
В конце концов, я полагаю, что Ренан все понимал правильно. Две вещи создают нацию: субъективно подтвержденное согласие и богатая культурная наследственность совместных воспоминаний и практик. Без согласия наше наследство совместной памяти и идентичности было бы не набором фоновых ограничений нашей деятельности, а нашей судьбой. Но без такого наследства вообще не было бы никакого согласия, поскольку у людей не было бы никакого основания, чтобы стремиться к соглашению с этой, а не какой-либо иной группой индивидов. Сосредоточение исключительно на том или ином из компонентов национальной идентичности вдохновляет контрастно различающиеся мифы этнонационалистической и гражданско-националистической теорий политического сообщества, – мифы, которые, с одной стороны, преувеличивают нашу неспособность сменить или качественно перерасти те связи в сообществе, которые нами унаследованы, а с другой – нашу потенциальную способность пересоздать себя в соответствии с образом из либеральных теорий.









































