Текст книги "Национализм и моральная психология сообщества"
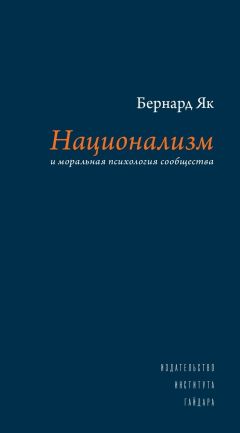
Автор книги: Бернард Як
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Особенно абстрактно этот образ группового членства выглядит оттого, что он призывает наше социальное воображение к расторжению, а не установлению социальных связей. В сообществе разделяемые нами вещи воображаются источниками взаимного попечения и лояльности. В организации совместные практики и институты воображаются средством для того, чтобы много отдельных людей действовали как один. В случае же с народом как учредительным сувереном, мы, напротив, используем свое воображение, чтобы избавиться от чего-то, чем мы обладаем в текущий момент, а именно от некоего множества взаимных связей, созданных властными средствами, с помощью которых государство координирует наши индивидуальные действия. Это негативное или деструктивное использование социального воображения хорошо знакомо из мысленных экспериментов политических философов, рассматривающих некое «естественное состояние» или «изначальное положение». Там его использовали, чтобы мы могли сконцентрироваться на нуждах и интересах тех, кого можно было бы назвать «воображаемыми индивидами», и на причинах их вступления в политические связи друг с другом. Напротив, в случае народа расторжение сложившихся политических связей должно, по идее, сосредоточить наше внимание на том, что мы одинаково разделяем, будучи членами конкретной группы.
У такого образа группового членства есть много проблем, не последней из которых является мысль, которую он, по-видимому, несет, что народ существует прежде государства, пусть даже совместное подчинение власти конкретного государства как раз таки и отличает народы друг от друга. Но он придает некоторый смысл нашей социальной ситуации посреди революции, когда наши организационные связи действительно разорваны и все же для нас все еще довольно значимо наше совместное членство в группе, определяемое подчинением власти старого государства. Когда протестующие, собравшись вместе, выкрикивают: «мы – народ», как это было во время революции 1989 года в Восточной Германии, они декларируют, что население имеет политический приоритет над организациями, сконструированными для того, чтобы его представлять[220]220
См.: Canovan, The People, 1, 104.
[Закрыть]. Действительно, теория учредительного суверенитета и была разработана, чтобы оправдать коллективное действие в таких условиях или же быть размышлением о том, как создается такая революционная ситуация, а не для того, чтобы объяснить исторические истоки правления. Согласно этой теории, вся правительственная власть проистекает из гласа народа, но народа неорганизованного, то есть не из народного гласа, структурированного каким-либо конкретным набором процедур и институтов[221]221
Ibid., 4–5. Например, Шелдон Уолин явным образом отождествляет демократию с действиями неорганизованного народа, а не с организованными людьми, говорящими посредством представителей и различных форм мажоритарного правления. См. особенно: Wolin, «Norm and Form».
[Закрыть].
Либеральные защитники учредительного суверенитета хотели убедиться, что никакой индивид и никакая группа индивидов не могут претендовать на власть суверена. С этой целью наш образ политического членства они разделили на два. С одной стороны, наше членство в государстве – организации, в которой мы связаны посредством иерархически упорядоченного набора институтов и процедур, четко определяющих ту ограниченную власть, на которую могут легитимно претендовать конкретные индивиды, группы и собрания. С другой стороны, наше членство в народе (или нации, обществе, гражданском обществе) – группе, которой дана сила учреждать и разучреждать государство и его институты, группе, в которой нас связывают узы гораздо более субъективные и неопределимые, нежели в государстве. Жозеф де Местр высмеивал это понимание народа как «суверена, который не может осуществить суверенитет»[222]222
Maistre, «On the Sovereignty of the People», 45.
[Закрыть]. Но это, некоторым образом, именно то, что и задумывалось. Ведь либеральный учредительный суверен воображается источником политической легитимности и фигурой, сдерживающей амбиции высоких чинов, а не держателем окончательной и высшей власти внутри государства. Превращение этой группы в организацию, определенную общей процедурой или принципом принятия решений (как, например, принципом большинства или сверхбольшинства), возможно, и удовлетворило бы критиков вроде Гоббса, однако этим подрывалась бы сама цель, ради которой был изобретен такой образ членства, а именно: не давать абсолютную и неограниченную власть в руки какой бы то ни было группе индивидов, неважно, насколько такая группа многочисленна или демократична.
Либеральные критики национализма часто настаивают, что «историческая уникальность современного государства состоит в том, что, в отличие от его предшественников, его единство покоится в самой его структуре, а не ‹…› на иллюзорном дополитическом фундаменте»[223]223
Parekh, «The Incoherence of Nationalism», 320–322.
[Закрыть]. Истинно ли или нет это утверждение в отношении современного государства вообще, но для либерального государства в частности оно весьма сомнительно. Когда в 1794 году Джеймс Уилсон посетовал, что провозглашать здравицы за Соединенные Штаты (в противоположность здравицам за «народ Соединенных Штатов») «политически неправильно»; он, возможно, и выразился в несколько крайней форме, но говорил-то он лишь как добрый либеральный республиканец[224]224
Цит. в: Smith, Civic Ideals, 137, 151, курсив добавлен. Цитата из мнения Уилсона по делу «Чизхолм против Джорджии», в ходе которого, согласно Уилсону, был поднят вопрос «составляет ли народ Соединенных Штатов нацию?».
[Закрыть]. Для либеральных конституционалистов государство – это в действительности относительно нейтральный инструмент, не требующий «от своих участников чего-то большего или меньшего, нежели признавать легитимность господствующей структуры власти»[225]225
Parekh, «The Incoherence of Nationalism», 321–322.
[Закрыть]. Но его цели и пределы задает группа, которая воображается существующей прежде и независимо от государства.
Теперь, когда обрисованы отличительные особенности народа, воображаемого в качестве учредительного суверена, важно выделить ряд аспектов, в каких этот образ группового членства разнится от того, который я увязал с нацией.
Прежде всего, народ, в отличие от нации, – это относительно новый или современный образ группового членства. Он вызван к жизни новыми способами мыслить политическую легитимность, такими способами мышления, которые по замыслу должны помещать в центр внимания и ограничивать чрезвычайно высокую концентрацию власти в современном государстве. Нация же, напротив, – это относительно старый образ сообщества, пусть даже его регулярно актуализируют что новые, что старые нации. Во-вторых, народ, в отличие от нации, всегда рядоположен государству. Точнее говоря, он воображается как соответствующий, хотя и предсуществующий, конкретному государству. «Ограниченный и суверенный» (андерсоновское описание нации) – это хорошее определение народа, если только мы признаем, что его рубежи обеспечены границами, на которых заканчивается власть конкретного государства. Нация же, напротив, не заимствует свои рубежи от государств, неважно, насколько тесно они могут с ними увязываться. А поскольку совместное культурное наследие, из которого она заимствует свои рубежи, часто коренится в событиях и практиках, предсуществующих конкретным государствам, лояльность к нации может использоваться для оспаривания рубежей государства, чего нельзя сделать с помощью образов народа; это является одной из причин, почему государственные лидеры зачастую столь усердно трудятся над тем, чтобы изменить облик наций, придав им формы, соответствующие их политическим границам.
Это различное отношение к государству ведет к третьему важному различию между нацией и народом. Нация не территориальная группа в том смысле, в каком ею является народ. Пределом членства в народе является территориальный рубеж, отделяющий зону властных полномочий одного государства от зоны властных полномочий другого. В пределах этой черты все постоянные жители (или все взрослые, или все взрослые постоянные жители мужского пола, в зависимости от различного подхода) составляют народ. Вне этой черты они не народ, если только их отсутствие не носит временный характер. Напротив, предел национального членства не определяется территориальными рубежами, несмотря на важность для национального сообщества конкретных территорий. Членом нации делает именно общность наследия, увязываемого с конкретной территорией, а не проживание внутри ее границ. В силу этого на одной и той же территории возможно проживание более одного национального сообщества, но лишь до тех пор, пока сообщества не стремятся осуществлять на ней исключительный контроль на манер народа, то есть не стремятся к суверенитету.
В-четвертых, народ не зависит от субъективных чувств взаимного попечения и лояльности в том смысле, в каком от них зависит нация. Ведь народ – это множество или вид, а не сообщество. В результате, в то время как национальное сообщество может присутствовать либо отсутствовать, процветать либо гибнуть, народ воображается всегда наличествующим, всегда доступным для призывов к участию в чьей-либо борьбе с политической властью (authority) или в чьей-либо конкуренции за политическую власть (power). Ведь народ существует по праву, а не по обычаю и не благодаря пробуждению самосознания. Утверждать или отрицать его существование – это дело принципа, а не вопрос социологии. Он существует, пока существует убежденность в какой-то конкретной теории политической легитимности. Отрицающие его существование повинны в несправедливости, а не в неправильном описании. Пожалуй, именно поэтому о «народостроительстве» говорят гораздо реже, чем о «нациестроительстве»[226]226
См., впрочем: Smith, «Citizenship and the Politics of People-Building», а также: Stories of Peoplehood.
[Закрыть]. Нации нужны усилия и время для складывания наследия воспоминаний и символов, которое было бы достаточно представительным, чтобы связывать разные поколения. Действительно, нельзя быть по-настоящему уверенным в существовании нации, пока ей не дано достаточного времени, чтобы вырасти – либо рухнуть[227]227
Emerson, From Empire to Nation, 90–91.
[Закрыть]. Народу же, напротив, взращивание не нужно. Он сразу налицо, стоит только индивидам принять принципы легитимности, утверждающие его существование.
В-пятых, народ, в отличие от нации, представляет собой относительно статичный, сосредоточенный на настоящем образ группового членства. В отличие от наций, развивающихся на протяжении времен, народ не стареет и не изменяется каким-либо еще фундаментальным образом[228]228
Как говорит Иегошуа Ариэли в отношении концепции американских отцов-основателей (Arieli, Individualism and Nationalism in American Ideology, 41): «„народ“ существует вне времени, вне исторических случайностей».
[Закрыть]. Не меняется он характером и при переборе синхронных примеров. Народ, к которому как к своему предельному источнику власти апеллирует шведское государство, не отличается характером от народа, к которому как источнику власти апеллирует китайское или канадское государство. Народ один и тот же в каждом случае: целокупное тело обитателей территории, воображаемое как окончательный судья того, как следует конструировать власть государства. Конечно, те, кого мы включаем в наш образ народа (собственники, все взрослые мужчины, все взрослые мужчины и женщины и так далее), с течением времени меняются в результате эволюции политических убеждений. Но стоит лишь принять такие изменения, как мы склоняемся к тому, чтобы видеть в них исправление ошибок, совершенных нашими предшественниками касательно состава народа, а не дальнейшую эволюцию самого народа. Другими словами, изменяющимся мы видим не сам народ, а свои интерпретации народа[229]229
Должен также добавить, что наши представления о народе как правительственном – в противоположность учредительному – суверене постоянно эволюционируют по мере того, как мы сужаем или расширяем право голоса, квалификационные требования для госслужащих и полномочия, которыми наделяется тот или иной институт. Такие представления поддерживают изменения норм гражданства, как в исследованиях наподобие Smith, Civic Ideals.
[Закрыть]. Как только в наш образ народа мы, скажем, включаем женщин, то наш образ народа – любого, а не только нашего собственного – обретает половую целостность.
Наконец, членство в народе повышает статус индивидов из неэлиты, используя для этого тот способ, в котором членство в нации не нуждается. И народ, и нация – это «категориальные» группы[230]230
Calhoun, Nationalism, 39. [Калхун К. Национализм. С. 92.]
[Закрыть], то есть они напрямую наделяют индивидов равным членством, вместо того чтобы делать это через посредничество других групп: никто не является членом народа или нации больше, чем любой из остальных членов. Но, как подчеркивает Лия Гринфельд, переход от образа народа как плебса или простолюдинов к образу народа как источника власти государства сообщает рядовым индивидам возможность получить статус, в котором им прежде было отказано, даже если в силе остается еще много других источников неравенства[231]231
Greenfeld, Nationalism, 6–7, 487. [Гринфельд Л. Национализм. С. 11–12, 461.]
[Закрыть]. Это значит, что апелляция к народу инспирирует формы гордости и тщеславия, которые не инспирирует нация (по крайней мере если люди не начинают приписывать национальному сообществу тот суверенитет, который изначально задумывался для народа); в этом, как я буду доказывать, и состоит немалая часть вымысла о природе и истоках национализма.
Сложите эти различия между народом и нацией – и что вы получите в результате? С одной стороны – относительно новый, статичный, территориально ограниченный образ группового членства, образ, в центре которого повышающая статус деятельность по учреждению и контролю полномочий современного государства; с другой стороны – более старый межпоколенческий образ, в центре которого совместное культурное наследие, а не политический контроль государства. В таком случае могло бы показаться, что мое различение между этими образами на другом языке просто воскресило дихотомию между гражданской и этнической трактовкой того, что значит быть нацией. Но это не так, пусть даже идея гражданской нации и черпает свое вдохновение во многом из образа народа как учредительного суверена.
Гражданская нация – это, словами Майкла Игнатьеффа, «сообщество равных, наделенных правами граждан, единых в патриотической преданности совместному набору политических практик и ценностей»[232]232
Ignatieff, Blood and Belonging, 7–8.
[Закрыть]. Как таковая она представляет собой своего рода синтез образов народа и нации. В ней сочетается чисто политический характер первого с чувствами взаимного попечения и лояльности последней. Ее защитники хотят, чтобы представители народов, ассоциирующихся с либерально-демократическими государствами, воображали себя связанными друг с другом формами социальной дружбы, проистекающими из чисто политических форм общности, таких как общая вера в основополагающие политические принципы. Тот факт, что мы уже склоняемся к тому, чтобы воображать себя членами групп, у которых в руках власть образовывать и распускать структуры государственного управления, ведет к тому, что они считают, что мы уже составляем такие сообщества. Вот в этом-то и заключается их ошибка, как я попытался показать в главе 1.
Народ и нация, как они описаны в этой главе, представляют собой два базовых строительных блока современного социального и политического воображения. На нашем воображаемом членстве в первом держатся теории народного суверенитета, которые постепенно отодвинули в сторону почти всех конкурентов, претендующих определять источники политической легитимности современного государства. А наше воображаемое членство в последней формирует наше ощущение того, кто мы такие и где наше место в случайном разворачивании человеческой истории. Гражданская нация, напротив, – это что-то, чего желают многие либеральные знатоки национализма, – синтез народного суверенитета и социальной дружбы, который сулит нам (ложно, как я доказывал) что-то вроде ощущения принадлежности и взаимной доброжелательности, ассоциирующегося с национализмом, но лишенного его потенциала насилия и исключительности. Таким образом, дихотомия между гражданским и этническим национализмом представляет собой ущербный корректив к современному социальному воображению, а не эмпирическое руководство, за которое она обычно себя выдает.
Национальное государствоЕсли, как я доказывал, связь с государством не является отличительной особенностью национального сообщества, какой же социальный феномен мы имеем в виду, когда говорим о «национальном государстве» (большинство людей думают, что этот термин обозначает преобладающую в современном мире форму политии)? Прежде всего, «национальное государство» относится к форме государства, то есть к одной из конкретных форм политической организации. Объединяя термины «нация» и «государство», мы уточняем свое понимание того типа политической организации, о котором мы говорим, а не того типа нации или сообщества, который сейчас перед нами. Кроме того, поскольку термином «государство» стала обозначаться конкретная форма политической организации (та, в которой вся политическая власть внутри данной территории организована в единую иерархически упорядоченную структуру), национальное государство представляет собой форму политической организации, в которой такая структура политической власти имеет некоторое отношение к национальному сообществу.
Есть два главных источника двусмысленности относительно термина «национальное государство». Первый порожден разными трактовками ассоциации, которые стали связываться с термином «нация». Второй порожден путаницей насчет природы отношений между политической организацией и национальным сообществом, для выражения которой и придумали термин «национальное государство». Поскольку второй из этих источников двусмысленности менее очевиден, я разберу его первым.
Самым простым пониманием отношений между сообществом и политической организацией, из которых складывается национальное государство, является частично совпадающее членство. Согласно этому пониманию, национальное государство – это политическая организация, все члены которой также являются членами одного и того же национального сообщества, как бы таковое сообщество ни понималось. Это понимание национального государства поощряется хорошо известным определением национализма как идеологии, настаивающей, что границы государств равняются границам наций[233]233
См., например: Gellner, Nations and Nationalism, 1. [Геллнер Э. Нации и национализм. С. 23.]
[Закрыть].
Впрочем, я полагаю, что использование термина «национальное государство» для того, чтобы охарактеризовать преобладающую у нас форму политической организации, инспирировано такими отношениями между сообществом и политической организацией, которые являются политическими в более специфическом смысле, чем предполагает всего-навсего совпадение членства. Говоря о том, что национальное государство вытесняет династическое или имперское государство, мы имеем в виду изменения того, как мы мыслим о политической легитимности, а не только того, как мы проводим политические границы. Таким образом, термин «национальное государство», как я полагаю, относится к тем государствам, которые в каком-то смысле черпают свою легитимность от наций, чьими слугами их воображают, а не к государству, чьи члены также являются членами одного и того же национального сообщества. Другими словами, национальное государство – это государство, чья легитимность в некотором смысле черпается из одобрения членов национальной группы. С этой точки зрения национальными государствами не могут быть династические или патримониальные государства, даже если большинство их подданных – члены одного и того же национального сообщества, поскольку свою власть они получают из источников, независимых от нужд и воли сообществ, которым служат. Династические государства начинают превращаться в государства национальные, когда у них меняется понимание отношений между политической властью и тем сообществом, которому они служат (как, например, когда Луи-Филипп провозгласил себя не правителем Франции, а «королем французов»). Таким образом, в национальном государстве сосуществуют две формы членства: членство в политической организации и членство в множестве или сообществе, – но первое коренным образом подчинено второму. В национальном государстве мы являемся членами организации, которой управляет единая иерархически упорядоченная структура политической власти, которая, как мы ожидаем, действует как рупор и слуга нашей национальной группы.
Какой же группе служит государство в национальном государстве? Все, конечно, зависит от того, как мы мыслим нацию. Я бы сказал, что в выражении «национальное государство» термин «нация» используется в основном для репрезентации двух отдельных образов ассоциаций, которые обсуждались в предыдущем параграфе, народа и нации. Другими словами, мы в основном пользуемся термином «национальное государство», обозначая им ту форму государства, легитимность которой проистекает либо из одобрения людей, у которых одна и та же самобытная структура государственной власти, либо из одобрения людей, чувствующих свою связанность межпоколенческим культурным наследием. Когда мы допускаем, что все государства связаны с нациями (как в выражениях вроде «Организация Объединенных Наций»), мы апеллируем к первому из этих двух употреблений термина. При этом мы отнюдь не путаем, как сетуют некоторые, нацию с государством[234]234
См. особенно: Connor, Ethnonationalism, 89–92.
[Закрыть]. Вместо этого мы выражаем надежду, что в любом легитимном государстве его власть будет в некотором смысле проистекать от нации или людей, живущих в его пределах. Однако если мы говорим о «национальном государстве» как дифференцирующем термине, выделяющем этот тип среди остальных легитимных государств, то мы обычно апеллируем ко второму из двух употреблений этого термина и называем так те государства, власть которых производна от одобрения отдельных и самостоятельных межпоколенческих сообществ. Иногда высказывается мнение, что истинных в этом смысле слова национальных государств мало (если они вообще существуют), поскольку почти каждое существующее в наши дни государство содержит внутри своих границ значимые культурные меньшинства[235]235
Ibid., 29–30.
[Закрыть]. Но если, как я доказывал, эту версию национального государства определяет запрос на суверенитет над государствами, а не реестры общих членов нации и государства, то эти возражения насчет их существования исчезают. Ведь существование культурных меньшинств не исключает притязаний большинства оставить за собой последнее слово относительно структуры и основных целей их политических институтов.
Излишне говорить, что национализм ассоциируется со второй, отличающейся своим культурным наследием формой национального государства. Но катализатором появления этих запросов, а следовательно, и подъема национализма, занимающего в современном мире видное положение, служит, как я утверждаю, как раз таки общепризнанность первой формы национального государства, формы, в которой просто выражается принцип народного суверенитета.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































