Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
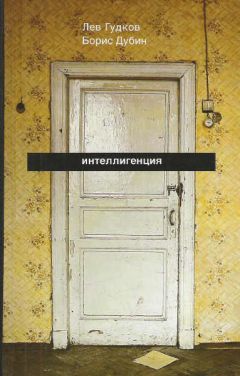
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
О вечно женском в массовой культуре
Напротив, то, что свысока или иронически называется «массовухой», поддержанное вчерашними гос– и партиздательствами, цветет и произрастает. Множатся массовые приложения, издания «для чтения», путеводители по миру аудиовизуальной культуры. Идет подписка на библиотеку дамского романа. Прилавки полны фантастикой, эротикой, приключениями, детективами, мистикой, астрологией, хиромантией, пособиями по воспитанию детей. Прикладное богословие, теософия и каббала сочетаются с гигиеническими «Радостями секса», честными в своем простодушии и назначении. Телеканалы соревнуются в предложении различных мелодрам.
Чем обеспечивает подобная продукция «массового человека»? Основной читатель и зритель у нас, как уже говорилось, – женщина. Поток массовой культуры ориентирован в первую очередь на нее, предлагая формы игры, идентифицикации себя и Другого, оценки своих отношений с мужем или партнером, детьми, родителями и окружающими.
Все, что связано с женщиной, значениями женского, несет в себе огромный запас аффективного, эмоционального, ценностного. Если роль зрелого мужчины в основе своей связана с идеей дела, профессии, заработка, т. е. достижением четко поставленных целей (соответственно, меньше всего окрашена в тона демонстративности, многозначности, театральности), то удел и назначение женщины в самом серьезном смысле – сохранение осмысленности существования, фундаментальных человеческих ценностей. Понятно, что именно из женской сферы исходит награда жизни.
Дело не только в том, что нерационализируемое ядро значений женского в культуре – это дом, воспроизводство человека (в предельно широком значении, отнюдь не сводящемся к физиологии рождения и выхаживания), предельная интимность существования, всегда выступающая в культуре в ореоле аффективно-эмоциональных связей и табу. Это и убежище, и безопасность, и психологический комфорт. Секс, любовь, эротика выступают более или менее удачными метафорами достоверности ценностей, обычно недоступных, «идеальных» – ценностей полноты человеческого понимания, доверия, согласия, всего, что выражается словом «близость».
Само вторжение темы, мотивов и языков эротики и секса в нынешнюю общедоступную прессу, в литературу, на кино– и телеэкран, вынесение прежде табуированного на публику приводит к мысли, что речь идет о вещах, несколько более серьезных, чем отношения между мальчиками и девочками. Объем подобной литературы в чтении примерно равен обращению к книгам по религии или астрологии, об открытиях в науке, и намного превышает интерес к литературе по искусству, философии или литературной критике. Идет поиск символики, средств выражения иных, непривычных, нерепрессивных отношений. В этом смысле спокойное обсуждение всего связанного с сексом снимает социальные барьеры, меняет дистанции между людьми и означается семантикой интимности. Напротив, игнорирование сложнейшей символической нагруженности данной сферы, интеллектуальный ступор перед ней заставляет видеть в любом разговоре на подобные темы что-то вроде повышенной сексуальной озабоченности. Характерно, что оживление или появление этой тематики всегда диагностирует начальную фазу эрозии нормативного социального порядка и характерной для него репрессивной культуры. Подобные области отношений (смерть, болезнь, самоубийство, акт познания – любой опыт пограничных, неконвенциональных ситуаций) обычно защищены самыми жесткими социальными запретами, заколдованы, и только для находящихся в круге интимности двоих оказывается возможным и допустимым обсуждение и переживание любых ценностных значений. Особенность этого сложного взаимодействия – одновременное переживание себя и Другого в перспективе друг друга. Самоценность субъективности в данном случае не позволяет свести эти уникальные отношения к любому общему правилу, например, – «и у бабочек то же самое». Интимность и вместе с тем принадлежность Другому означают, что собственная телесность переживается как чистая социальность.
Поэтому такое состояние в культуре наделяется максимальным ценностным рангом. И в той мере, в какой становится ценностью, – оно опосредует, переводит, сопоставляет любые значимые социальные напряжения, конденсирует смысловое многообразие реальности. Это максимум полноты самоощущения в отношении к Другому как полноценному субъекту. Иными словами, секс – такой же культурный код, как и прочие знаковые системы в культуре – языки кулинарии и социальной иерархии, этикета и моды. Однако, в отличие от них, любые ценности культуры он переводит на аффект. Поэтому секс – важная тема культуры, значимый элемент в механизмах культурного смыслообразования.
Любовь (секс) восстанавливает тот пласт первичного, базового доверия к реальности, которым характеризуется лишь начало жизни – первые фазы самовосприятия, первые детские (не младенческие, а именно детские) годы. Отсутствие угрозы, страхов, наличие теплой, неповторимой волны заботы и ласки, идущей к ребенку от родных, главным образом, от матери, создает тот энергетический ресурс, энергетику личности, которая во всей последующей жизни лишь трансформируется в различные формы интереса и ценностей.
Степень последующей цивилизованности человека в известной мере как раз и определяется балансом, тактом социального дисциплинирования и вместе с тем – сохранения в себе этой изначальной энергетики, заинтересованного и позитивного отношения к трансформациям и заместителям первичных партнеров. Перверсии этих отношений, этого слоя чувств могут быть самыми различными, в том числе ужасными. Но что несомненно – это то, что человеческий интерес к реальности связан с разными формами осмысления этого первичного экзистенциального опыта. Все зависит от того, в какой схеме отношений значимых Других он будет закрепляться и распределяться.
«Твой комплекс моей неполноценности»
Эта реплика одного из персонажей С. Довлатова фиксирует системно воспроизводящийся в нашем обществе дефект социального взаимодействия – иерархическое неравенство партнеров, действующих лиц. Существо этого дефекта заключается в том, что признание собственной неполноценности требует от другого качеств заведомо нереальных (только в таком случае они могли бы компенсировать собственную несамодостаточность или ущербность). Но за эмпирическое несоответствие партнера этим завышенным тобою же ожиданиям он полностью дисквалифицируется, становясь объектом самых жестких санкций за вымещаемое разочарование. Иными словами, структура ориентации и мотивов, которые при достижении цели должна была бы повышать самооценку индивида, здесь парализует действие и, напротив, снижает самооценку. Но наказывается за это – другой. Как это делается? Упреждающим понижением его значимости, авторитетности, привлекательности, то есть ценности.
Не надо думать, будто описываемый механизм вменения неполноценности друг другу относится лишь к психологии сексуального взаимодействия, его сфера – общекультурная, общесоциальная. Его источник – отношения с родителями и оценка отношений между ними как модельными авторитетами, а область распространения включает работу (отношения между сотрудниками и коллегами, начальством разного уровня), правительство, демократов, Запад, который нас вечно разочаровывает своей «бездуховностью» и нежеланием нам помочь и т. д.
Эта агрессивная самоинфантилизация, которая превращает любое социальное взаимодействие в отношения зависимых и ущербных, мстящих друг другу партнеров, лежит в основании нашей социальности. Ее можно рассматривать как матрицу русской культуры, переживающей перманентное «ослепление» перед воображаемым Западом. Таков модернизационный комплекс великой державы, находящейся в ситуации постоянного, по меньшей мере двухсотлетнего, вхождения в «семью европейских народов». Но этот же комплекс и блокирует завершение модернизации, обретение самодостаточности индивида, осознание себя в настоящем времени – времени действия.
Поэтому жизнь для такого сознания – всегда в горизонте ожидания: «Когда же придет настоящий день?»
Комплекс этот, имеющий своим источником и носителем интеллигенцию, вовсе не ограничивается интеллигентскими кругами. Так, обращает на себя внимание, что свойства человека, вызывающие наибольшую настороженность, а то и прямую враждебность со стороны «большинства», – это, по данным наших исследований, признаки самостоятельности (или ориентации на независимое поведение) и характеристики динамичности – установки на индивидуализм, приватность, личное благополучие, изменение статуса, образа жизни.
Стремлению к самостоятельности – экономической, социальной, культурной, к непохожести и опоре на себя, на собственные мотивы и критерии оценок противостоит комплекс консервативных установок, устроенный, надо сказать, вовсе не так просто. Во-первых, как показывает материал наших опросов, «самостоятельность» в оценке пожилых людей – применительно к самим себе – это возможность избавиться от всегда тягостной для них социальности, необходимости в чем-то рассчитывать на других, тем более удручающей, что этих других они (подсознательно) ставят ниже себя, видя в них источник негативных эмоций. Иначе говоря, в представление о Другом входят лишь значения нормативного контроля, неизбежного ограничения твоих возможностей (даже если это связано с обеспечением какими-то значимыми ресурсами), давления, обязанности и принудительности. Поэтому сам индивид от него постоянно хочет избавиться или ускользнуть, тогда как аналогичные стремления других осуждаются.
В каком-то смысле жизнь представлена подобному сознанию как угроза со стороны любого «другого» (обратная сторона несамостоятельности, принудительной коллективной лояльности). Все свое, все сколько-нибудь значимое, жизненно-затрагивающее может восприниматься лишь как повод для тревоги, беспокойства, то есть в негативной форме страха его потерять. Подобная уязвимость – как будто единственная возможность пережить чувство обладания. Важно, что другим при этом заведомо отказывается в признаках полноценности. Стоит чужакам проявить хоть какие-то признаки самостоятельности, претензии на равенство, как это тут же вызывает раздражение (в качестве «чурок», «чукчей» или «козлов» они, что называется, вполне устраивают). Не случайно именно среда пожилых и тихо озлобленных людей демонстрировала до недавнего времени самые высокие индексы этнической ксенофобии в целом. Но сильнее и вместе с тем – незаметней подобные механизмы действуют в сфере ближайшего окружения, включая семью.
С одной стороны, для большинства россиян (тем более – пожилых) характерна демонстративно признаваемая ценность семьи и дома. Пожилые и средних лет женщины (свыше 60 процентов из них) особенно настаивают на том, что главное в их жизни – семья, нормальный быт, домашние занятия. С другой стороны – именно они считают, что семейные отношения «в последние годы ухудшаются», что «все в их жизни позади», почему и «ищут утешения в Боге и вере». Они чаще других видят в старости и течении времени качества прежде всего и исключительно отрицательные – ухудшение, порчу (черта, не свойственная ни традиционным культурам, ни активистскому обществу). Вообще – и это в-третьих – пожилые женщины подчеркивают значения дома (замкнутых границ «своего» мира, его подконтрольности), мужчины же старшего и среднего возраста – значения семьи, брака, жены (тогда как жены предпочитают в общении не мужей, а детей). Удовлетворенных своим браком мужчин (по их собственным свидетельствам, полученным в опросах ВЦИОМ) вчетверо больше, чем недовольных, женщин же – лишь вдвое, а счастливых в любви – почти столько же, сколько несчастливых. Итак, демонстративно женские установки на дом, озабоченность детьми, высокая позитивная ценность любви и семьи часто сочетаются с низкой удовлетворенностью ими в реальной жизни, стремлением не выходить за пределы этого круга и сожалением, что нельзя сменить партнера (это хотела бы осуществить каждая седьмая женщина). У мужчин же высокие оценки собственного брака и тяга к семье соединяются со стремлением быть подальше от людей.
В пожилом возрасте максимально выражена неудовлетворенность молодежью (до 54 процентов опрошенных в этой возрастной группе). Сама же молодежь в большинстве случаев предпочитает внедомашние формы проведения времени (друзья, кино и проч.), общение со сверстниками, очень высоко ставит дружбу, а оставаясь дома – предпочитает включать радио, магнитофон, создавая звуковую дистанцию между собой и домашними.
Иными словами, семьей недовольны практически все, но ведут себя при этом по-разному. Молодежь склонна бежать из дома, но из-за своей социальной и экономической зависимости не может от него оторваться, а потому несет в себе негативную самооценку, заложенную репрессивным воспитанием (чувство вины свойственно каждому второму молодому респонденту). Женщины (в качестве брачного партнера) завышают планку собственных ожиданий, склонны к повышенной самооценке, в том числе – в порядке компенсации за невнимание и «агрессивной самозащиты», о которой говорилось. Неудовлетворенность браком принимает форму той же тревоги, обеспокоенности (неаутентичности); вместе с тем, она как бы повышает качества женщины, ее привлекательность: «она отдала все, а ее недооценили». Мужчины же, видимо, достаточно редко находя взаимность, все же ценят семью как прибежище от фрустраций недостижения, унизительности систематического неуспеха, как своего рода «эмоциональное депо». (Кроме того, признание неудачности брака, в противоположность женскому варианту, понижает самооценку мужчины и оценку его другими.)
В целом чувства, которые владеют пожилой частью населения, так или иначе негативны и связаны между собой. Это ощущение бесперспективности («все позади») и неавторитетности (недооцененности, в том числе ближайшим окружением); раздражение, настороженность и враждебность в отношении других; чувство небезопасности. Так, больше половины пожилых людей хотели бы, по их признанию, меньше бояться, две пятых – испытывают полностью «иррациональный» страх, что на них могут оказать воздействие словами или поступками, помимо их воли.
Характерно, что среди пожилых россиян значительно преобладают те, кто хотел бы в детстве походить на собственных родителей (треть) и вырос похожими на них (две пятых). Причем, по данным более раннего (июль 1990) исследования, ориентация на родителей раздваивается: «мать» как жизненный образец для всех возрастных категорий важнее «отца». У старших – за матерью следует «отец», затем «учитель», у молодежи – сверстники; отцы и учителя вообще не пользуются авторитетом. Примером для молодежи выступают не родители, а чисто воображаемые персонажи: для юношей – герои кино и книг, для девушек – актеры и актрисы, роли этих героев исполняющие. Поэтому и разговору с родителями молодежь предпочитает контакт с приемником или магнитофоном. Условные фигуры – герои, «звезды» – предоставляют ей разнообразие и свободу.
Можно предположить, что в структуре подобных воображаемых ориентиров важны несколько моментов. Во-первых, это образы инициативного, самостоятельного поведения (хотя бы в утрированной форме «капризов звезды»). Во-вторых, это воплощение если и не прямой удачи, то по крайней мере, той полноты и яркости существования, которые могут быть синонимом жизненного успеха («цена» его принципиально скрыта и, пожалуй, не важна). В-третьих, – что особенно важно в условиях ценностного дефицита – эти фигуры подчеркнуто выделенные, бросающиеся в глаза, значимость которых бесспорна и не требует ни дополнительного подтверждения, ни собственных усилий по осмыслению (подарок судьбы, ее даровой знак).
Иное – у пожилых. «Честность», «скромность», «уважение к старшим» – таковы основные качества, которые люди старшего возраста хотели бы видеть в своих детях и у молодежи вообще. Эти свойства они вкладывают в образ «культурного человека» (заведомо стереотипный). Иными словами, ведущее искомое качество человека здесь – «коллективная лояльность» как гарант коммуникативной «прозрачности», понятности, надежности отношений. Усиленная, навязчивая демонстрация этих качеств психологически выдает не только проблематичность самих социальных связей, но и скрываемое двоемыслие.
Молодежь, с точки зрения пожилых, явно не удовлетворяет перечисленным эталонным качествам. Поэтому она не просто «плоха», но неким таинственным образом постоянно ухудшается. Так, больше половины опрошенных респондентов считают, что молодежь 1930-х и 1960-х годов была лучше нынешней; треть опрошенных в России полагает, что сегодняшняя молодежь «по большей части плохая», а каждый пятый – что в будущем она окажется «еще хуже нынешней». Репрессивное сознание пожилых последовательно вытесняет значения, которые несет с собой молодежь или которые отмечены как молодежные, подавляет альтернативные образы Другого (разнородность ценностей, символику многообразия, перемены). Осуществляется своего рода символическая казнь обобщенного «партнера».
Подобный синдром психологической регрессии свидетельствует о глубочайшей внутренней раздвоенности и подавленности. Обеспокоенность, мрачность и неожиданно взрывающаяся агрессивность старших – внешнее выражение этого душевного склада и сформировавших его процессов. Сегодня уходят из жизни не просто старые люди, уходит, как говорит Ю. А. Левада, сам антропологический тип «советского человека» и поколение, бывшее его носителем и представителем. Социальные и идеологические механизмы, обеспечивавшие осмысленность жизни этого поколения, потеряли свою значимость и оправданность в пертурбациях последнего времени. Однако психологический стереотип подобных человеческих отношений остался и, вероятно, еще надолго.
Может показаться, что разговор о семье, поколениях, дефектах воспитания носит частный педагогический или психиатрический характер. Однако стоит принять во внимание многократно повторяющийся в наших исследованиях факт инфантильности, примитивности общества. Отношения в семье – проекция базовых характеристик социума, по крайней мере – в виде форм социального контроля. Известно, что сами эти формы, например, образцы материнской речи, резко различаются от группы к группе, от культуры к культуре.
Английский социолингвист Бэзил Бернстайн и его последователи показали, как репрессивный характер речи в низовых стратах социума (в среде рабочих) отражается на интеллектуальном потенциале личности. Более мягкая и толерантная манера общения с ребенком (убеждающая, аргументирующая, объясняющая) в семьях среднего класса повышает рефлексивные способности индивида, его контактность, продуктивность. Баланс сложившихся на этом этапе ролей и образцов становится исходной моделью реальности, на которой в семье выстраивается весь последующий путь индивида, характер его запросов, пределы возможностей – все, что человек выбирает для себя в качестве внутренних целей, ориентиров будущей биографии.
Отношения в наших семьях отражают весь драматизм нереализованной модернизации. Иерархическая структура социальных позиций, распределительная экономика, принудительная прописка, рационированная жилплощадь и все прелести столь знакомого нам быта имели, среди прочего, такие важные последствия, как патология фундаментальных социальных ролей, и мужских, и женских, с одной стороны, и ситуативный характер моральных представлений, т. е. отсутствие единого пространства всеобщих этических норм и обязательств – с другой.
Подавление установок на самореализацию, ориентации на успех у мужчин ситуативным кодом лояльности к начальству, а не к профессии обернулось необратимыми деформациями в мужском характере – пассивностью, эскапизмом, инфантильностью[14]14
Говоря о «деформации», мы считаем нормальным для семьи то, что способствует ее сплочению и устойчивости и что согласились бы считать нормой сами ее члены. По нашим данным, в семьях, где дети видят, что мать высоко ценит профессиональные успехи их отца, уровень межпоколенческой конфликтности снижается.
[Закрыть]. Столь же небезобидным оказался этот процесс и для женщин. Их отношение к «мужику» (к «делу») девальвировалось. Женщина и власть вступили в своеобразный союз, нигилистически относясь к любой возможности автономии (а стало быть – и к эмансипации от рутины, привычки как нормы социального порядка). Интересы женщины (женской роли) требовали принятия настоящего, консервации существующего.
В одной из своих работ С. Шведов показал, как элиминируется мужская роль, авторитет отца, его право на самостоятельность в советских учебниках[15]15
Шведов С. Уроки букваря // Знание – сила. 1991. № 11.
[Закрыть]. Государство в лице Сталина или правительства замещает на картинках, в текстах прописей и хрестоматий мужчину, хозяина, защитника дома. В школьной сюжетике остаются лишь женские персонажи – мать, бабушка – и Отец всех. Патерналистские идеологемы общества как большой семьи существуют в стране и сегодня и будут еще очень долго определять не просто психологию, но и экономику, политику, право и проч.
То, что принимает, на первый взгляд, формы психологические или гендерные, воспроизводит фундаментальнейшие для недоразвитого, недомодернизированного общества представления о социальной структуре, о социальном театре, пространстве социальных возможностей, правилах игры. Эти модели, характерные для сословно-статусных обществ, реагирующих на изменения только одним – традиционализацией, то есть переозначиванием и переосмыслением любого обновления в категориях привычного и ранее бывшего.
Неадекватные ожидания женщины, жены в отношении партнера вызваны проекцией на него компенсаторных представлений (в свою очередь, являющихся негативным переворачиванием и восполнением хронически конфликтных отношений между родителями). Жесткость этих запросов, их лишь на первый взгляд – романтическая идеализированность, с одной стороны, и истерическая фригидность (следствие диссонанса желаний и их «воплощения»), с другой, – вещи неразрывные. Перед нами – неизбежный эффект взаимной социальной неполноценности, неспособности к социальному взаимодействию, пониманию и терпимости. Таков врожденный порок общества, в котором люди не умеют общаться, играть друг с другом в какие бы то ни было игры, кроме игры во власть – подчинение.
Мы видим это и в массовых опросах о чертах русского национального характера. Непропорционально большое место среди этих черт занимает травматическое повторение «мы – люди простые, открытые, терпеливые, униженные и т. п.». Очень значительна доля людей, считающих себя одинокими, несчастными, лишенными веры и опоры в жизни. Фиксируемое нашими исследованиями неуважение матери к отцу передается дочери, что, в свою очередь, через определенное время воспроизводится в ее отношениях с собственным мужем. Вместе с тем зависимость от женщины, матери, связанная с ее неспособностью к эмоциональному взаимодействию, сковывает всех членов семьи в единый конфликтно-интегрированный союз, распадающийся, как только появляется возможность вырваться – получить жилплощадь и т. п.
Молодое поколение, оценивая старших как социальных и, что не менее важно, эмоциональных банкротов, порывается выстроить собственный проект биографии и жизненной карьеры. Для этого используются уже не образцы родительских отношений, а либо аффективный материал молодежной культуры (совершенно иной по фактуре, но, главное, вообще исключающей роли родителей, взрослых) – рок, сентиментально-мелодраматические модели литературы и кино, либо имажинарий западной маскультуры, обеспечивающий образцами бескомплексной идентификации. Именно поэтому молодые сегодня проще воспринимают новые альтернативы жизненного поведения, легче вписываются в новые, сомнительные или предосудительные, с точки зрения служивого люда – сферы заработка и малого бизнеса.
Нам еще предстоят первые шаги на пути от внешней принудительности к внутренней цивилизованности. Массовая культура в этом плане становится не просто источником социализирующих образцов, но и средством коллективной психотерапии, по крайней мере – снятия напряжений или невротической агрессии, возбуждения. Скажем, мелодрама сегодня, как и в момент своего рождения, не только тематизирует резкость социальных разломов, позволяя читателю и зрителю яснее представить себе границы социального пространства различных персонажей, относящихся к разным социальным стратам и группам с разным статусом и правами. Не менее важна возможность компенсировать в воображении, в игре реальный дефицит внимания, доверия, теплоты, интимности.
Получается парадоксальная вещь. «Высокая» литература, с одной стороны, внутренне идеологизирована и осложнена чисто интеллигентскими проблемами (адаптации к структурам власти, носителям различного авторитета). С другой, она деформирована жесткими требованиями лояльности к стандартам высокого и вечного. Поэтому в наших условиях она (и «высокая» культура в целом) оказывается ретроспективной, ориентированной на прошлое, на школьные шаблоны и имена, ощущается читателем как чужая для него, несвоевременная и неуместная. В то же время догматически отвергаемое «тривиальное» искусство выполняет в обществе сложнейшие функции адаптации к цивилизационным процессам и крупномасштабным изменениям. Оно вводит и распространяет в ригидных, немодерных слоях социума (втянутых в урбанизационные сдвиги, массовые социальные перемещения, разломы и расслоение общества) представления об их возможных партнерах по взаимодействию – образцы иных групп и сообществ, новые нормы реальности и модели коммуникации. Иными словами, тривиальная литература и искусство играют роль механизма рутинизации, освоения модернизационных воздействий, окультуривания полугородских, полупоселковых социальных сред с разрушенными укладами традиционно-деревенской жизни.
Попытки выработать культурные системы такого рода возникали и раньше. Так, в частности, сложились две основные стилистические и интонационные линии нашей культуры. Одну можно назвать «высокой», «одической». Она эксплуатировала государственный героико-эпический тон, вбирая при этом самый разный тематический материал. Родственно ей было и то искусство, которое стремилось обнаружить осмысленность в рутинном существовании, наделить той или иной внутренней благодатью жизнь, лишенную для интеллигента собственного смысла. В этом последнем случае т. н. «чернуха», взятая вне мелодраматической структуры и композиции, только как эстетический модус, как форма рефлексии и состав игры, сомкнулась в своей бессмысленности с бессмысленностью самой повседневности (Е. Попов, В. Пьецух, Н. Садур, В. Нарбикова и другие).
Это страшно серьезная литература, поскольку тяготеет к одноплановости и одномерности жизни. Мир для нее готов и статичен в своих смыслах. Проблема же заключается лишь в технике и правильности приведения к этому смыслу – все равно, будет ли это позитивная научная «теория» будущего, традиция, безусловный авторитет или абсурд как постулирование чистой негативности существования. Мрачность и невротизм этой культурной линии – психологическая производная от собственной бесплодности, безуспешных усилий возвести, наконец, такую систему правил и норм поведения, которая исключала бы неправильности, «слабости» и «пошлое» (то ли плотское, то ли нравственное) удовольствие. Для догматического сознания нет ничего ужаснее бытового «греха» любого рода. Лишь общеобязательная и принудительная «соборность», духовность, экзальтированность покаяния и очищения представляются подобному уму предметами, достойными мысли и изображения.
Серьезность эта объясняется неспособностью к игре, к индивидуальному смыслообразованию, к принятию многозначности и многомерности мира, т. е. возможности наращивать надо всем, что кажется устойчивым и важным (и что, вместе с тем, всегда составляет отработанный тематический или жанровый арсенал традиции), – другие, новые смысловые истолкования. Отсюда эта интонация томления, тоски, поисков опоры в чем бы то ни было, хоть в «нигилизме». Это не просто фантомные боли модернизационной «беспочвенности». С точки зрения социальной морфологии, этот синдром пустоты, неполноты есть результат отсутствия, кастрации элиты как смыслопродуктивной группы инноваторов. Атрофия социальных способностей к рефлексии оборачивается тягой к авторитетам и статичным источникам смысла – вплоть до политического конформизма. По своей структуре – эстетической, поэтической и проч. – эта линия в культуре по-эпигонски ориентирована на образцовое прошлое, на классику. Словесность такого рода пытается механически повторить приемы предшественников для своих, внутренне рутинных, идеологических целей.
Другую – лирически-субъективную – линию можно было бы назвать «бытовой». Ею по-своему жили и патефон – от А. Вертинского и П. Лещенко до «Ландышей» и Б. Окуджавы. Основным предметом изображения здесь были сложности отношений между частными людьми, внеполитическими субъектами, переживающими обстоятельства персональных, независимых ни от чего другого взаимосвязей. Это тоже игры, но игры, не связанные с внешними авторитетами и задачами «возвышения» до определенной идеи.
Можно представить себе разные типы игры (об этом в начале 1980-х писал Ю. Левада)[16]16
См.: Левада Ю. Статьи по социологии. С. 99–119.
[Закрыть]. В одних случаях правила жестко заданы и контролируются извне. Это игры ролевые, тематически они могут быть самыми разными – от карьеры до политической борьбы, от «дедовщины» до праздника. Но могут быть и такие игры, правила которых складываются или определяются в ходе самого действия. Смысл его устанавливается участниками ситуативно и конвенционально, через пародирование (в тыняновском смысле) внешней и принудительной схемы действия. Это могут быть и метафорическая игра (с переносом одних социальных ролей на других, когда оба пласта смыслов работают синхронно), и игра метонимическая (взрослые играют в детей или наоборот), или же театрально-демонстрационная.
Но в любом из этих случаев сохраняется принципиальная дистанция между партнерами. Важнейшее их здесь человеческое, культурное качество – умение не только играть свои роли, но и демонстрировать сами социальные правила их порождения, знаки различных контекстов, включая их обыгрывание, показ границ нормы, типового носителя и т. п. Ироническая или комическая, сентиментальная или рефлексивная модальность не просто обеспечивает многозначность и многоплановость действий. Она позволяет связывать самые различные пласты и сферы социальной реальности, разные институциональные системы действия. (Скажем, одной из таких, распространенных в быту игровых форм является кокетство, замечательно описанное Георгом Зиммелем в его очерках по философии культуры.)









































