Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
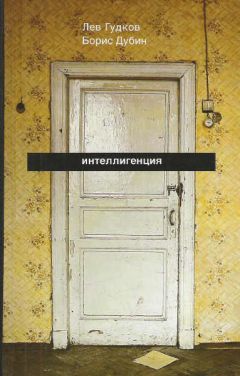
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Субъективность исследователя, оригинальность его мышления в большей мере проявлялись в склонности к ценностно-нейтральному, неидеологическому описанию культурного наследия, в занятиях периферийной для официальной науки тематикой, подчеркнутом воздержании от поверхностной социально-критической литературы как китчевой однодневки. Появление множества семинаров, кружков, альтернативных объединений, служивших анклавами «настоящей науки», «настоящей литературы», ориентирующихся на прошлое или на Запад, было необходимым условием выживания и удержания стандартов «высокой» культуры, научной и интеллектуальной работы, накопления или восстановления первичного символического капитала для независимой умственной деятельности в будущем. Это был «бульон» иной интеллектуальной и моральной среды, альтернативных ценностей и убеждений, в конечном счете разрушивших тоталитарную систему господства, убивших ее систему воспроизводства[11]11
Ряд социологических данных позволяет сделать вывод, что августовский путч был обречен не потому, что москвичи стали кольцом вокруг Белого дома, а потому, что на протяжении нескольких предшествующих месяцев (с мая или апреля по июль) большинство генеральных директоров, административное среднее звено, среднее офицерство, составлявшие основу аппарата управления брежневской системы, утратили веру в ее возможности и, сменив ценностные и политические установки, перешли под знамена демократов. Это, без всякого сомнения, конечный результат воздействия интеллигентской альтернативной культуры.
[Закрыть].
В первую очередь подобные формы возникали там, где модернизационные процессы были заметнее других, – в столичных и крупных городах: Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Тбилиси, Ереване, Новосибирске, Тарту…
Само существование этих замкнутых неформальных коллективов, границы которых не могли быть четко определенными, имело несколько парадоксальных следствий. Взаимное отчуждение, изоляция друг от друга, отсутствие междисциплинарных или межпрофессиональных контактов, а стало быть – обмена идеями, точками зрения, способами работы, – неизбежно вели к окостенению и постепенному вырождению исходного импульса, объединявшего группу. Групповые нормы существования, групповые критерии и оценки становились единственным средством самосохранения самой группы, стиля ее мышления, моральных стандартов отношения к работе, удержания своеобразных норм элиты (элиты не по функциям, а по нормам вкуса, уровню оценок «настоящей науки»). Из-за невозможности открытого выхода в печать, в журналы, в первую очередь научные, подлежащие цензуре, по крайней мере – в Союзе, складывалась немыслимая нигде, кроме как в слабеющем тоталитарном обществе, ситуация: наука, литературный авангард, наиболее рафинированные элементы культурного процесса (по идее, могущие быть лишь универсальными компонентами письменной культуры) существовали как культура устная, как устная традиция, как групповая субкультура замкнутых сообществ. Проистекавшая из этого маргинализация – включая и вынужденные аскетизм, нетребовательность к уровню, образу жизни, сужение потребностей и запросов – поддерживала чувство избранности, исключительности. Этот дух добровольных гетто, естественно, вел к установлению и сохранению дистанции в отношении всего, что являлось «чужим», профанным, идеологическим, служебным, сервильным. Подобное размежевание, даже сегрегация закрепляли сознание униженности, неизбежности приспособленчества основной массы советской интеллигенции. Жалобы на свою виновность и чувство изнасилованности воспроизводили и комплекс неполноценности, и леность или немощность ума.
Основой существования и консервации подобных анклавов были почти исключительно личные отношения, консолидируемые взаимной признательностью, уважением, порядочностью, сопричастностью к другим ценностям и другой жизни, нежели творилась вокруг (интерес к которой, в принципе, был весьма слабым). Привычка к признанию своей работы только среди «своих» с течением времени вела не просто к незаметной стагнации умственной работы из-за единообразия принятой интеллектуальной техники, но и к замораживанию моральных, социальных и культурных представлений, разделяемых данной группой.
Внутреннее дистанцирование от «системы», официальной идеологии, официальных доктрин, истеблишмента с его чинами, научными званиями и наградами было не только профилактическим средством освобождения от мертвых схем и догм, но и символической интеграцией «своих», что, естественно, приводило к системе параллельных оценок, распределению альтернативных авторитетов и критериев работы. Но одновременно социальное самодистанцирование все больше удаляло от понимания и анализа настоящего.
Корпоративные и групповые приемы работы все жестче диктовали нормы поэтики или способы научного объяснения, концепции, теоретический арсенал анализа, эстетические предпочтения. Иными словами, то, что интегрировало эти коллективы, напоминало скорее традиционную структуру общности (в социологии это называется немецким словом «гемайншафт» – общность, основанная на личных связях, личной преданности, лояльности к группе, зависимости от нее – и в психологическом, и в интеллектуальном смысле), а не современные научные или культурные объединения. Тем самым возникала странная ситуация: альтернативная культура (в самом широком смысле), представляющаяся участниками этих объединений максимальным приближением к «настоящей жизни» – искусству, литературе, «настоящим», то есть нормальным условиям интеллектуального существования, – консолидировалась и скреплялась немодерными системами отношений, духом и формами организации, присущими скорее традиционным коллективам. В первую очередь это относится к тем, кто занимался филологией или культурологией, в меньшей степени – к экономистам и социологам. Поэтому, конечно, не случайно экономисты первыми выступили с анализом и проектами реформ.
Итогом подобной дистанцированности от реальности стало почти полное отсутствие того, что составляет смысл интеллектуальной работы на Западе – рационализации повседневности. В качестве нормы объяснения происходящего до сих пор действуют не какие-то новые концептуальные средства, а прежний опыт негативной оценки существующего общества. «Мы не Запад, у нас нет настоящей демократии, нет гражданского общества, права, науки, нет…» Чего ни хватишься – ничего нет.
Остатки модернизационной идеологии в этих ситуациях работают уже лишь как межгрупповой барьер, слабеющий символ внутренней консолидации, ибо реальное содержание конфронтации с властью потеряло смысл, с одной стороны, а с другой – перестало быть сугубо внутренним делом интеллигенции. Эти идеи усвоены другими слоями и группами общества. Страна оказалась огромным белым пятном: ни достаточной и надежной статистической информации, ни понимания социального устройства, ни культурных изменений, определяющих глубинное развитие, тектонические процессы.
Лишенное идеальных ориентиров и образцов, общество без элиты, без собственных императивов, движимое лишь задачей «выжить» (или «пережить»), начинает вести себя как улитка, которая перед опасностью втягивает рожки под панцирь. Исследования показывают, что разрушение идеологической лояльности к советской власти повлекло за собой множество изменений в системе человеческих ценностей: усиливается тенденция к более примитивным и архаическим формам социальной жизни, упрощенным моральным стандартам, появляется стремление замкнуться в семье, с одной стороны, либо шире – в этнических сообществах, с другой – идет упрощение сложности социального устройства. Этот догматизм и жесткость образа мышления оборачиваются чувством собственной неполноценности, экзистенциальной неуверенностью людей, ищущих внешнего оправдания и виновников своих неудач. Эта культурная фантомность – признак неудачников культурного процесса. Им остается небогатый выбор рутинных суррогатов интеллектуальной работы – картонная фикция национальной судьбы и почвы (как у патриотов, обреченных быть второгодниками модернизационной идеологии); «жертва интеллектом», свойственная новым христианам, не выносящим сознания слабости своего ума; суетливый политический реформизм всеобщего переустройства и, наконец, утопия эмиграции как попытка – простым, механическим или хирургическим, образом, через отъезд, – решать свои внутренние проблемы.
Склад и особенности российской ментальности сформировались довольно давно. Ее принципиальные черты – проходящая через всю систему образования, просвещения, науки особенность русской культуры – травма модернизации, синдром незавершенности самоопределения. Дело не в том, что процесс вхождения в Европу не состоялся или только еще предстоит. Это вообще не описание процесса, а идеологический проект, задавший рамки и своеобразие развития самой культуры. Ее незавершенность превратилась в организующий, конститутивный принцип самосознания образованной части общества. Разрыв с реальностью, небрежение настоящим, реальным, современным, модерным, вечная тоска и томление по состоятельности – это не процесс, как сказано М. Жванецким, это состояние. Что ж, «отложенная» жизнь – это тоже способ жить.
Итак, идет процесс разрушения самого импульса модернизации, табуирование или вытеснение единственной силы, способной трансформировать обстоятельства жизни – самодостаточного индивида, способного рационализировать свое бытие. Наши пороки – продолжение наших добродетелей. То, что позволило сохранить, уберечь какие-то линии традиций или адаптировать часть заимствованных у Европы представлений, сделав их групповыми символами и основой эзотерической солидарности, спасти от обволакивающей серости застоя, – воспрепятствовало их дальнейшему развитию. Поэтому сам процесс культурного движения начал подчиняться поколенческим ритмам: смена представлений, сложившихся во время очередной оттепели или предшествующего кризиса (своеобразный поколенческий импринтинг), совершается как вытеснение одного поколения интеллигенции другим, претендующим на более эффективную социальную или идеологическую программу переустройства общества. Каждое новое поколение интеллигенции вырабатывает свой круг идей, свой образ реальности в расчете на власть, но эту власть оно должно еще само «вырастить» и обучить своим идеям. Поэтому цикл социальной динамики не просто растянут во времени, а состоит из двух тактов: формирования идей, представлений и усвоения потенциальными кандидатами на власть «готовых» взглядов и теорий. Систематический же процесс интеллектуальной работы оказывается невозможным – в силу нарастающей склеротизации интеллектуалов, способов их взаимосвязи и организации. Иначе говоря, тотальные формы мышления не исчезают, а периодически сменяют друг друга.
Разорвется ли этот круг? Наверное, да, – по мере того, как интеллигенция перестанет соперничать с властью, видя лишь в ней единственного своего собеседника. Интеллигенция и бесконтрольная власть – две стороны одной медали, одного способа организации общества. Элиту, равно как и интеллектуала, невозможно целенаправленно вырастить, они появляются в ответ на соответствующий спрос общества. Идущая сегодня резкая дифференциация в среде высокообразованных людей – свидетельство зарождения такого спроса, пусть еще небольшого. Сознательная ставка на подготовку элиты, опирающаяся на рациональное изменение системы образования, могла бы сократить период ее эмбрионального развития. Но нельзя слишком сильно уповать на это. Уход интеллигенции с исторической сцены был бы знаком принципиального изменения самой структуры общества, симптомом конца его модернизации, началом «нормального» гражданского существования.
1992
Без напряжения
Заметки о культуре переходного периода
В разноголосице сегодняшней прессы отчетливей других слышны две интонации – нытья и «стёба»[12]12
Стёб – слово из молодежного жаргона, обозначающее игровой демонстративный эпатаж словом, одеждой, манерой себя вести и т. д., род интеллектуального ерничества, состоящий в снижении символов через демонстративное использование их в пародийном контексте, например, анекдотическая перекодировка политического поведения как эротического, советского как «совкового» и т. п. Эти формы, которые можно рассматривать как варианты негативной идентификации, парадоксального соединения демонстративного неучастия с бессознательной зависимостью от объекта дистанцирования, скрывают под риторикой и позой тотального доминирования обстоятельства самоунижения.
[Закрыть]. Одни кричат о катастрофе в экономике, в экологии, культуре, об угрозе для духовности народа или о его геноциде, крахе демократов, конце реформ. Другие – язвительно и нахально – комментируют происходящее в тональности «удач и провалов», как называется рубрика в «Коммерсанте», где пишут о культуре. Хотя обе точки зрения можно встретить и на одной странице, они, как правило, распределены по разным изданиям. Это две полярные позиции, между которыми колеблются настроения публики. Они не случайны, поскольку в обобщенном виде воплощают самочувствие подымающихся и нисходящих групп в обществе. Основную нашу задачу мы видим в том, чтобы связать изменения в структуре и организации нынешней культуры с положением этих групп. Поэтому дальнейший разговор пойдет в двух плоскостях – мы коснемся некоторых напряжений массового сознания и их выражения в культуре.
На стёб, употребленный вне молодежного контекста, принято обижаться. Задевает содержательная сторона: самые высокие символы и понятия соединяются тут с чем-то пошлым, вымученным, несмешным, а потому сам стеб предстает воплощением безвкусицы, ерничества и т. п. Социологу в этих квалификациях достаточно легко узнать тот репрессивный словарь, который объявляет неклассическую культуру или словесность массовой и низкопробной, а неакадемическое искусство – китчем, освобождая себя от анализа, являющегося первой заповедью профессионала.
Нелепо спорить о вкусах, когда стоит задача понимания. В стебе как приеме важна не семантика, а функция. Как смысловой механизм он обеспечивает говорящему возможность дистанцироваться от авторитетной нормы (как правило, связанной с властным кодом) – возможность риторического снижения.
Стёб высвобождает, узаконивает табуированный смысл, поднимая до уровня публичности целые сферы социальной жизни, пласты культуры.
Чего стёб не может? Передать смысловую глубину, многоплановость, неоднозначность. Диапазон его культурных значений и глубина памяти соединяемых смысловых элементов невелики, отсюда – исходящее от него ощущение известной грубости. По происхождению он – механизм детско-подростковой субкультуры, позволяющий осваивать новое, недозволенное, соединяя его с хорошо известным старым.
Иными словами, это механизм адаптации, ставший сегодня распространенной формой культурной жизни в переходный период. По сути, речь идет о легализации массовой (или неофициальной) культуры, впервые осваиваемой в таких масштабах, в столь сжатые сроки и институциональными средствами – с помощью каналов массовой коммуникации. Характерно, что этот язык сохраняет обертоны молодежности, хотя адресатом обращения могут быть взрослая аудитория, деловые люди.
Катастрофическая реакция на окружающее исходит сегодня из совсем иных кругов и от иных фигур – носителей других поведенческих норм. Это, чаще прочих, как раз представители истеблишмента – функционеры и «деятели культуры», теряющие влияние, а потому апеллирующие к власти или упреждающие народ, не видящий-де разверстой бездны.
Но ни о какой катастрофе в сфере культуре речи быть не может. Исчезновение одной модели организации культуры или трансформация одного слоя носителей этой модели вовсе не означает краха или конца культуры. Да, за последний год окончательно развалилась централизованная система государственного тиражирования признанных образцов, бюрократия учреждений и надзора над культурой. Эта прежняя организация системы делала осмысленным существование массовой интеллигенции (государственных служащих с высшим образованием). Она предоставляла им определенные привилегии, вознаграждения и основания для высокой самооценки. Самоуважение данного слоя базировалось не только на политической дидактике просвещения общества, вполне устраивающей власть, не только на апелляции к классике как основе собственного авторитета и символу «духовности». Не менее важна была корпоративная принадлежность к кругу избранных, использующих усилия и достижения других – писателей и мыслителей прошлого в качестве собственного символического капитала.
Характерно, что очевидней и бесповоротней других разложилась госиздатовская книжная система, почти целиком державшаяся на переизданиях классики и официально премированных авторов. Но то же самое произошло с государственной системой в театре и кино (особенно – кинопрокате), в изобразительном искусстве. Стремительно теряют признание центральные и массовые идеологически окрашенные газеты, имевшие многомиллионные тиражи.
Вместе с тем открылись десятки новых издательств: только частные фирмы, число которых перевалило за три с половиной тысячи, контролируют 44 процента книжного рынка. Выходят сотни новых газет и десятки новых журналов, альманахов, в том числе и специализированных – от философских до посвященных бизнесу, включая типы изданий, вовсе раньше не существовавшие – от фантастики и детектива до эротики и астрологии. Сформировалась новая культура видеофильмов, опирающаяся на развитую сеть салонов, домашних видеомагнитофонов или кабельное телевидение. По данным одного из опросов ВЦИОМ (май 1992), 4 процента населения России имеют дома «видак», 14 процентов пользуются кабельным телевидением, растет аудитория западных теле– и радиостанций. Как бы там ни было, продолжают работать массовые библиотеки. Так что нынешняя деятельность т. н. «учреждений культуры» скорее должна была бы удивлять, нежели давать повод для недовольства: они, как ни странно, сохраняют известный уровень, регулярность, в принципе не сильно отличающиеся от «доперестроечных».
В бездуховности принято чаще всего обвинять молодежь. Поэтому отметим, что по всем признакам культурной активности лидируют молодые (до 25 лет). Показатели их поведения как потребителей культуры в два-три раза выше, чем у других категорий населения. Три четверти их как минимум ежемесячно бывают в кино, 53 процента – в книжных магазинах и в библиотеках. Они чаще других (23 процента против 14 процентов в среднем) пользуются словарями и энциклопедиями, читают на иностранных языках (10 процентов в сравнении с 1 процентом в среднем). Важно еще одно: обычно это молодые женщины. И значимость всего связанного с культурой (переживание искусства как высокого праздника, самозабвение в иной, небудничной, реальности), и частота контактов с книгой, театром, музеем, кино – достояние прежде всего именно молодых женщин.
Итак, сколько-нибудь серьезных оснований ни для паники по поводу состояния культуры, ни для бичевания «бездуховной» молодежи нет.
Вместе с тем значимость общепризнанных авторитетов и символов культуры неуклонно снижается. Сейчас на уровне признания хотя бы одной десятой частью населения держатся лишь вечный художник номер один Илья Репин («самый любимый»), эстрадный композитор Анатолий Добрынин и певица Алла Пугачева. За этот предел вышел только не сходящий с телеэкрана кинорежиссер Эльдар Рязанов, которого называют самым любимым 23 процента россиян. Из писателей же даже «наиболее любимые» А. С. Пушкин, М. Шолохов и А. Дюма собирают признание лишь 6 процентов. В остальном ничего близкого к «классике», с одной стороны, и «проблемной», «критической» культуре (включая еще недавно запрещенную), так будоражившую публику три-четыре года назад, не обнаруживается.
Преобладающая сегодня на уровне средних по стране показателей модель культуры – массовая, аудиовизуальная (кино и эстрада по ТВ). Она сдвинута к прошлому, пусть и недавнему, 1970-х годов, значима для людей пожилого возраста, чаще всего – снова женщин. Поэтому любимые песни большинства населения – «народные» (разумеется, не фольклор, а своего рода государственно-лирический субститут среднерусской народности, демонстрируемый, например, на парадных концертах Людмилы Зыкиной), а также «старинные романсы» и военные песни. Любимый актер – В. Тихонов (Штирлиц – князь Андрей), композитор (вслед за А. Добрыниным) – Ал. Пахмутова и т. п.
Противостоит этой модели – другая, тоже массовая и чаще всего опять-таки аудиовизуальная, но отмеченная как молодежная. Она, как правило, «западного» происхождения (рок-ансамбли, американское кино, переводная «формульная» словесность). С такого рода предпочтениями тесно связаны и определенные типы более общих жизненных ориентаций. Для мужчин это высокая оценка техники, приоритет рационального действия, установка на успех и признание, тяга к благосостоянию и комфорту. Женщины же высоко оценивают роль чувств и воображения, для них более характерна готовность «сменить образ», почувствовать себя другой. Объединяет молодежь понимание ценностей игры, склонность к риску, заинтересованность в «партнере» (причем скорее – похожем на тебя самого, чем принципиально «ином»).
Уход интеллигенции
В кругах политически неангажированных художников и исследователей (производителей культуры) прежний уровень работы частично сохраняется. Вместе с тем здесь тоже произошли свои изменения.
За два-три года начался процесс сильнейшей профессиональной дифференциации. Общеинтеллигентские встречи и события (так сказать, ритуалы групповой солидарности – типа различных чтений, конференций, просмотров, выставок, появления и обсуждения бестселлеров и проч.) – сегодня уже трудно себе представить: круг расширился и разорвался. Происходящее в какой-то одной сфере перестало быть общезначимым. Исчезла общность интеллигентского чтения. Можно сказать, ушло само понятие общеинтеллигентской сенсации, задававшей всему слою ритм существования.
Интеллигенция оказалась гораздо теснее сращенной с уходящей системой власти. И дело не просто в сложившихся социальных или «человеческих» связях. С крахом госкультуры исчезла разметка и культурного процесса, и самой реальности – рамки допустимого и запрещенного, первоочередного и долгосрочного, злободневного и неактуального. Последний подвиг интеллигентского Геракла оказался связан с публикационным бумом «толстых» журналов и следовавших за ними радио и телевидением, то есть с перекачкой и публикацией запрещенного наследия. Итоговое усилие интеллигенции, ее критика режима и мобилизация всех сколько-нибудь активных социальных сил в предвыборном объединении политической оппозиции стали концом ее идеологии и вместе с тем – концом легитимности самой системы. За этим последовал период снижения значимости любых символов и авторитетов. Для начинающейся же эпохи профессиональной работы у интеллигенции не оказалось необходимой этики, культурного ресурса, аналитического потенциала.
Может быть, главная особенность пятилетней эпохи гласности, периода публикационно-журнального взрыва заключалась в том, что в течение всего этого времени сохранялась прежняя система двойного счета, двойной оптики: цензурного ограничения и групповых эталонов достойного. Но это ведь и есть то двоемыслие, которое окрашивало само существование интеллигенции, всего слоя образованных (в этом плане – носителей советской культуры), указывая на границы модернизации общества. Для подобного сознания существовала не только двойная система оценок, двойная шкала времени, но и двойственность восприятия самих себя (убогого, пошлого настоящего, «советского» и ожидаемого, подлинного, идентифицируемого с западным, с мировым уровнем науки, искусства, творчества, жизни, в конце концов).
Наличие барьера самореализации, возможность всегда оправдаться в том, что не соответствуешь заявленным критериям, вводило специфическую временность, неподлинность, фиктивность вот этого конкретного существования. Сам барьер такого рода играл чрезвычайно важную функциональную роль не просто для физического выживания отдельных людей (хотя и это существенно). Он был ключевым элементом в структуре сознания интеллигенции и воспроизводимой ею культуры. Вытеснение инновации из сферы актуально возможного – главный энергетический механизм существования данного слоя. Угроза осознания собственных страхов перед властью, а потому сопротивление реализации были сильнее, нежели заинтересованность делом или профессиональными проблемами. Интеллигенция усердно «динамила» сама себя, кокетничала своими потенциальными возможностями, «духовностью», сертификатом которой выступала ее шумная любовь к классике.
Мы предлагаем отличать роль классиков в советской культуре от функционального значения классики в культуре Нового времени. За исключением периодов формирования имперской культуры в Германии 70–90-х гг. XIX века, классические (и прежде всего античные) авторы служили в Европе внутригрупповыми стандартами оценки культурного процесса, имманентными средствами самоорганизации литературной системы, либо личностными регулятивами (Т. С. Элиот, П. Валери и др.).
В тоталитарных же обществах «классики» получали государственные чины, звания и подлежали государственной охране, поскольку удостоверяли собой легитимность всего социально-государственного целого. Неправильное обращение с национальными святыми приравнивалось к оскорблению величия державы, покушению на достоинство нации.
Для самой интеллигенции классика, а тем более – апелляция к мученикам культуры, служила чем-то вроде коллективного контрольного пакета символического капитала, корпоративного удостоверения высот и совершенств, значимость которых достаточно было демонстрировать. В этом качестве они как бы и не требовали личного интеллектуального или профессионального усилия, собственной душевной работы. Классики должны быть мертвыми, воплощая в ритуалах их почитания нерационализируемые комплексы группы. Они обязательно должны быть вытеснены в прошлое, иначе нужно было бы соответствовать их субъективности, признать своим этический императив самодостаточного поведения, согласиться с их упорным отказом от коллективной рутины. Двойное прочтение классики как государственно признанного канона для просвещения масс и как тайной притчи о собственном сопротивлении власти позволяло уйти от неприятного вопроса об индивидуальной состоятельности, о личном обеспечении своего достоинства. Вопрос о том, по какому праву мы наследуем классикам, что именно ты значишь без А. С. Пушкина, даже не вставал.
Литература и искусство 1960–1980-х годов, включая так называемую «критическую словесность», воспроизводила инфантильный комплекс боязни быть взрослыми, ситуацию «русского человека на рандеву».
То, что это так, отчетливо обнаружилось в ситуации разлома прежней социальной организации. Начиная с прошлого года двойная оптика исчезла. Возникла ситуация: Hic Rhodus, hic salta. Как, прямо сейчас? Многолетняя игра моментально лишилась смысла.
Для правоверной интеллигенции как группы, как носителей специфической идеологии культуры это была действительно катастрофа. Разрушение корпоративной сплоченности и группового оправдания, императив индивидуальной реализации и индивидуального соответствия профессиональным канонам и требованиям работы без ссылки на запреты, работа набело, всерьез, возможность показать, что ты стоишь и можешь уже в контексте мирового сообщества, по универсальным критериям и меркам, без скидок на «зажим», оказали необычайно фрустрирующее воздействие на наших властителей дум. Одни замолчали. Другие начали уезжать. Причем стремительно, объясняя свой похожий на бегство отъезд соображением – «кому мы здесь нужны».
Дефицит профессиональной этики компенсировался неожиданно обретенным «национальным самосознанием». Причем вовсе не обязательно – еврейским. Едва ли не чаще это было осознание себя «русским», воспроизводящее весь традиционный комплекс интеллигентского противостояния беззаконной и антинародной власти.
Особенно болезненно эти обстоятельства затронули носителей определенных социальных ролей: людей, которые, не принадлежа к какой бы то ни было профессиональной сфере целиком, обеспечивали коммуникативное взаимодействие, контакты, связи между различными группами культурного сообщества, образуя то, что можно назвать «публикой». Именно они создавали феномен интеллигентской сенсации, разнося сведения о тех или иных событиях в отдельных профессиональных кругах – литературных новинках, кинопремьерах, появлении новой работы историка, искусствоведа или литературоведа – в другие группы и слои. При бедности нашей культурной среды, отсутствии специальных средств насыщения ее идеями, образцами, информацией, символами (языковой изоляции, неразвитости журнальной сети, конференций, семинаров, клубов и других средств интеграции общества), эти люди вырабатывали своего рода «клей», служили посредниками между различными слоями.
И все же, в целом, те, кто работали, продолжают работать. Более того, появились новые люди, ранее никак не обозначавшиеся, а теперь могущие предъявить либо уже наработанное, либо ресурсы компетенции, знаний, способности понимания или даже тип отношения к своей работе (что может быть еще важнее). Но их деятельность несенсационна, повседневна, а потому не создает материала для интеллигентского, литературно-художественного самовыражения.
Таким образом, значимое событие все-таки произошло. На наших глазах меняется сам способ организации общественности. Распалась система тоталитарной репродукции культуры, ее идеология. Уходит со сцены интеллигенция как служивое чиновничество от культуры. Разрыхляется публика, исчезает тип человека, социально ангажированного и культурно озабоченного, но заведомого непрофессионала, убежденного и признанного дилетанта[13]13
Неслучайность этих изменений, лишь окказионально совпавших с августовскими и последующими событиями, в более широком социальном плане связана среди прочего с концом образовательной и урбанистической революции. На протяжении жизни одного поколения Россия перестала быть преобладающе деревенским сообществом людей без формального образования. Сегодня две трети россиян имеют образование выше среднего (у двух третей их родителей не было и девяти классов), 70 процентов живут в городах, причем треть в крупных, тогда как родители их (и половина их самих) родились в селе. Общее повышение уровня образования снизило его привлекательность и престиж образованных людей в целом. Сказались здесь и процессы внутри самого слоя образованных, все более активных групп, уход наименее конформных в политическое диссиденство и культурное подполье. Менялся слой, его роль в изменяющемся обществе, истощались исторические заданные функции и претензии.
[Закрыть].
Соответственно, притязания на господство и авторитет от имени «классики» или, иначе говоря, претензии на дидактическую политику (презумпция педагогическо-просвещенческого превосходства, интеллектуального патернализма) оказываются все менее признаваемыми и подтверждаемыми населением. Слабая компетентность интеллигенции – профессиональная, аналитическая, рефлексивная – и ее корпоративная незаинтересованность повседневностью, прагматикой жизни, невнимание к «невысокому» и «нормальному» сделали ее беспомощной перед проблемами массового общества, импотентной перед необходимостью рационализировать повседневную жизнь, чего собственно и ждет от нее теперь общество. Потеря аудитории интеллигентской словесностью, кино, театром фактически означала, что интеллигенции отказали в праве симулировать собой общество. Будучи по характеру своего образования, по месту в обществе, по самой своей численности вполне массовой, интеллигенция между тем упорно уклоняется от выполнения массовых функций: элементарной рационализации повседневности, культурного посредничества между удаленными друг от друга группами и репродукции наследия в его многообразии. Сколько бы не заявляли о бережении прошлого с самых разных трибун, на деле именно оно – и прежде всего оно – оказывается в ситуации полного разора (нынешняя библиотека, школа).
В целом, сегодня можно говорить о двух типах интеллигентской реакции на окружающее. Это все более демонстративное соединение классических сюжетов, героев и конструкций с легко узнаваемой, почти шаржированной актуальностью, что дает эффект китча, – и так называемая «чернуха», «реализм» которой сочетает рутинную поэтику массовых жанров (прежде всего – мелодрамы с ее центральным персонажем, гибнущей героиней) и фикцию стороннего взгляда. Модельной фигурой в этом смысле можно считать даже не авторов «Интердевочки» и «Маленькой Веры» (возглавлявших вместе с «Рабыней Изаурой» списки зрительских предпочтений последних лет), а Сергея Соловьева, прошедшего, при сохранении внутренней структуры базового для него ценностного конфликта, путь от неоклассики «Спасателя» и «Наследницы по прямой» к программным «Ассе» и «Черной розе».









































