Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
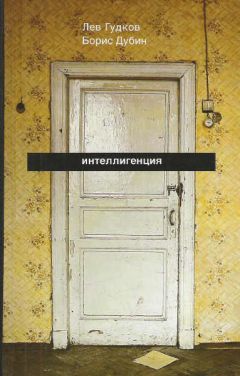
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Советская интеллигенция: рамки существования
Обстоятельства этого столкновения с реальностью и бессилие перед ней составляют предмет дальнейшего разговора. Мы сосредоточимся на судьбе одного, а точнее, полутора поколений тех, для кого слово «интеллигенция» еще что-то значило или значит и с кем оно уйдет, оставшись в словарях и энциклопедиях. По возрасту это люди 40–65 лет, сохраняющие активность мысли и действия. Мы надеемся показать, что в полном объеме понятие и проблемы интеллигенции советской эпохи были рождены, выношены и похоронены при этой группе людей, а во многом их действиями или бездействием в эпоху между хрущевской оттепелью и концом горбачевской перестройки.
В современных дискуссиях не поднимаются вопросы о хронологических границах или социальных рамках существования интеллигенции, их словно не существует. Но какая все-таки интеллигенция в каждом конкретном случае имеется в виду? Ведь одно дело, скажем, мало кем вспоминаемое сейчас разночинство шестидесятых годов XIX столетия, пореформенной и постсословной России. Это вполне определенная конфигурация социальных сил и идейных обстоятельств. Тут господствуют представления о самопожертвовании, идейной непреклонности, отзывчивости к запросам и положению других, долге перед народом и служении, не требующем наград. Знание, культура, субъективный мир мыслей и переживаний, научный интерес, моральное самоопределение не имеют здесь собственной значимости. Они подчинены задачам просвещения и спасения народа, делу искупления своей вины за отрыв от него, за раскол общества. У этих представлений есть группа носителей (по крайней мере, некое ядро), социокультурные формы выражения своих идей (независимый «идейный» журнал группы частных лиц, объединенных пониманием ситуации и целей совместной деятельности).
Совершенно иная ситуация – вторая половина тридцатых годов в Советской России. Здесь – опять-таки своя констелляция интересов и обстоятельств. С одной стороны, прямой заказ победившей и упрочившейся власти на идеологическое обеспечение ее достижений и программы на будущее, потребность укрепляющейся бюрократии в чисто экстенсивном распространении сферы массового повседневного управления. Отсюда – проблемы штата (кадров), уровня его квалификации, нормальной системы обучения и подготовки (школы). С другой – ясное понимание тех, кто остался в живых, что советская власть не просто надолго, а может быть, навсегда. И дело тут не просто в службе, а в необходимости ее оправдания, оправдания собственной жизни.
Появляется собственно советская генерация образованных людей – выпускники рабфаков, Комакадемии, Института красной профессуры и др. На рубеже 1920– 1930-х гг. начинается эпоха массовых призывов – в высшие учебные заведения, в науку, литературу, журналистику, кино. В середине тридцатых происходит массовая смена образованного слоя снизу при фактически тотальной чистке наверху. Поэтому конец этого десятилетия ознаменован уже не просто наличием нового идеологического и воспитующего «сословия», а его символическим вознаграждением – званиями, чинами, премиями, квартирами, дачами и т. п. Идет переход всей социальной системы в новое качество – не «героики революционного надрыва», риторики чрезвычайного положения, а рутинного воспроизводства существования.
Новые образованные группы в конце 1930-х – начале 1940-х гг. приносят с собой и новое представление о науке и культуре. Идет сдвиг в сторону национальной замкнутости, изоляционизма, а отсюда – непременное требование исключительно национальных достижений и приоритетов. Закладываются ретроориентированные представления о национальной классике в культуре, реабилитируются отдельные, экземплярные для отечественной истории, науки и словесности фигуры, вводится институт их общегосударственных юбилеев, собраний сочинений и т. п. Создаются – и надолго! – основы чисто консервативного, русско-центристского представления о культуре, долженствующей в виде тщательно отобранного и должным образом интерпретированного пантеона репрезентировать целое русской (и советской) истории как движения к единой и мощной мировой державе, будущему всего мира. Иначе говоря, формируется вся легенда авторитарной и бесконтрольной власти, наследницы и продолжательницы всемирного исторического процесса. Будучи заложенной в основу школьного образования (вначале в старших, а затем уже в младших классах, переходя в структуру преподавания ботаники, физики, родной речи), тиражируясь в ходе подготовки специалистов в других областях – работников радиопропаганды, кино, прессы в целом, эта система представлений уже через 15–20 лет, то есть в следующем поколении, к середине 1950-х годов, перестает восприниматься как нечто идеологическое, сконструированное, «культурное». Теперь это «сама реальность». Она не обсуждается, не составляет темы или проблемы – как бы не существует. Между тем именно в ходе обучения родной речи, при восприятии картинок в букварях и учебниках, на стенах класса, в формах повседневной или праздничной визуальности закладываются наиболее глубокие и неконтролируемые слои советского сознания, которые в массе сохраняют свою значимость вплоть до конца 1980-х годов.
Но ни то, ни другое представления (ни конца XIX века, ни 1930-х годов века ХХ) не покрывают тех высоких ценностных значений понятия «интеллигенция», которыми оно стало нагружаться в послесталинскую эпоху, в результате совершенно иных процессов и возникновения других мысленных авторитетов у образованных слоев (Запада, отечественной эмиграции). Середина 1950-х годов – начало совершенно новой ситуации в жизни советского общества. Самое важное – ограничение (а затем сдвиг на социально-административную периферию) практики прямого устрашения и регулярного уничтожения отдельных элементов бюрократического аппарата: отказ от чисток, ослабление идеологии внутреннего врага и, соответственно, необходимости, оправданности безграничных полномочий «органов», равно как и обязательности для граждан ежедневно предъявлять свидетельства своей лояльности. Бюрократия (вначале ее высший эшелон, а затем все более широкие группы – власть на местах, зависящие от нее функциональные, репродуктивные или обслуживающие группы специалистов) защищается от структур тотального контроля и политического сыска, а затем пытается и гарантировать систему подобной защиты. Если первоначальные стремления были связаны здесь лишь с расширением сферы законности (обвинений и санкций) и установлением юридических оснований для преследования (волна «позднего реабилитанса»), то затем, по мере развития этого процесса, речь уже шла о необходимости защиты статуса, возможностях социального продвижения, а тем самым – о степени допустимости отклонений, об известном диапазоне демагогии, позволявшей выживать в условиях жесткого социального контроля.
К середине 1960-х годов складывается достаточно сложный по составу и очень устойчивый комплекс представлений и переживаний, определивший и самочувствие интеллигенции, и ее отношение к другим группам и инстанциям общества. Культурная связность, символическая солидарность слоя интеллигентов строилась на внутреннем отталкивании от значений своего имплицитного партнера – официальных инстанций. Иначе говоря, парадоксальность существования интеллигенции связана с двумя взаимно исключающими обстоятельствами: слой определяет себя через противопоставление бюрократическим структурам, с одной стороны, а, с другой, теряет в ходе этого дистанцирования признаки культурной определенности, способности продуктивного действия. Эта интеллектуальная, холодная, страдающая и страдательная плазма пассивного сопротивления, удержания лишь безусловного и все сокращающегося минимума культуры (классики) может иметь не структуру или внутреннюю тематику, а внешние рамки, своего рода отрицательное силовое поле отталкивания от официоза. Наиболее важны здесь три тематических линии.
Главное – отказ от репрессивности как основного кода отношений с кем бы то ни было: между людьми, между народами, между властью и народом. Негативный опыт десятилетий сталинского террора и принудительной коммунальности существования был в этом смысле и объеме извлечен. Ненасильственность в самом широком понимании – от бытовой вежливости и простой внимательности друг к другу до отторжения от излишней принципиальности, горячности как некоторой однобокости, слепоты, фанатизма – оказывалась для интеллигенции и общежития в целом синонимом доброты, человечности, естественного и не враждебного человеку хода простых вещей. Терпимость тут в каком-то смысле даже важнее моральной образцовости, за которой в этот начальный период видится нечто жесткое, внешнее, опять-таки напоминающее об официальности, подконтрольности. В некотором смысле так же воспринималось и все собственно рациональное (и вообще автономное, безотносительное, самодостаточное). За рациональным ощущался определенным образом воспринятый и истолкованный опыт безжалостного «исторического эксперимента», насильственного приведения к единообразию, бескачественной и опасной идеологической утопии. Но здесь важно не только вытеснение нежелательного и тяжелого, но и бессознательное понимание собственной интеллектуальной слабости, беспомощности мысли, не имеющей интеллектуальных ресурсов и опыта для работы с названными реальностями и проблемами, а потому склонной их «забыть», заговорить неупоминанием или чистой негацией. Вместо этого самым ценным становилась интуиция, способность нечто чувствовать, нерационализируемым образом соединяя прежний отрицательный опыт с предощущением столь же неопределенных, но очень значимых возможностей, несколько безответственное, но приятное сознание богатства которых заставляет избегать выбора чего-то одного и отказа ото всего другого. Коллективная, демонстрируемая и опознаваемая сотоварищами чувствительность, групповой такт превращались в важный механизм ориентировки в реальности, придавали ей некий «особый вкус», остро ощущаемый (и ностальгически вспоминаемый) «своими», «посвященными». Столь же подозрительно воспринимался и «активизм», за которым теперь видели либо новоиспеченного карьериста, либо вчерашнего «комиссара». Точнее сказать, любая последовательность или определенность перестала нести в себе заранее позитивные и гарантированные сверху характеристики; ей стало необходимо чисто групповое оправдание, санкция или интерпретация, снимающая подозрение в официальности. Поэтому значимы были все категории, которые содержали метки или признаки взаимообусловленных групповых оценок, непосредственно удостоверяли взаимность ожиданий. Снятие принудительной коллективности оборачивалось отказом от любых форм институционализированной культуры. В ходу были любые квалификации, уничтожавшие анонимность и однозначность нормы – «хороший» или «порядочный человек», «искренность» (а не рациональность), «переживательность» и «отзывчивость».
Следствием подобных, чисто внутригрупповых конвенций становилась акцентируемая невыговоренность (еще и как гарантия нестукачества и взаимной лояльности). Защита от малейших проявлений принудительной социальности вела к закреплению таких стандартов поведения, которые позволяли легко узнавать «своих» и несли на себе оттенок неофициальности, естественности, «вольности» и соответствующих ценностей – искренности, психологической спонтанности, отчасти даже иррациональности как протеста против «формализма» и казенщины. Условием устойчивости подобного модуса существования и самопонимания могло быть лишь отторжение, изгнание все новых и новых элементов и людей, отличающихся своего рода ценностной одержимостью, профессиональным или культурным идеализмом, и вместе с тем желанием соответствовать ценностному вызову. Выброс этого наиболее дееспособного контингента, который мог бы составить основу для автономной аккумуляции культурного разнообразия, интеллектуального потенциала, ведет к тому, что удерживаются бесструктурность, простота устройства культуро-репродуцирующих групп, а тем самым – блокируется институционализация различных культурных систем действия, их функциональная дифференциация. Это блокирование не случайный сбой, не ошибка, а способ конформистского существования интеллектуального слоя в начинающем разлагаться тоталитарном обществе, цена коллективной адаптации.
Интеллигенция как массовая бюрократия репродуктивных систем общества
Наличие подобных механизмов негативного самоопределения усиливало дефектность культурной репродукции, влекло за собой разрыв с кругом общемировых задач в науке, общих ориентиров в культуре, методологией познания, системой авторитетов, понижение среднего уровня работы и критериев оценки. В основном эти тенденции были характерны для массового интеллигента, который пытался так или иначе удержаться в границах принятого социального порядка.
Для тех же, кто не мог или не хотел осознавать себя в этих рамках, оставался выбор нескольких вариантов существования:
а) жертва рационального смысла – «чернуха» и абсурд (отказ от презумпции правомочности существования, разумности его смысла);
б) отказ от институциональной работы – правозащитное движение, диссидентство;
в) жертва интеллекта – неохристианство или язычество, кришнаитство и др.;
г) регрессивные утопии – русский национализм, нередко приобретающий вполне расистский характер;
д) эмиграция – внешняя или внутренняя («поколение дворников», возвращение властям социального удостоверения интеллигентов).
Сама социальная система была структурирована крайне слабо. Претендовавшая на ее воспроизводство официальная бюрократия переживала начинающуюся децентрализацию, отвечая на нее не постепенной институционализацией дифференцирующихся уровней и функциональных подсистем, а региональной и ведомственной монополизацией власти, отвердением структур административного контроля. Собственно коммуникативные связи (в том числе аудиовизуальные, печатные, предполагающие определенный уровень и тип грамотности) были деформированы стратегическими задачами и практикой организации государственного управления. Системы массовых коммуникаций (газеты, радио, ширящееся телевидение) были государственно-централизованными. Их делом была не информации, а пропаганда – поддержание и узаконение единого, заданного идеологией образа мира. Формы публичного представительства интересов и ценностей тех или иных групп и слоев, их репрезентации друг другу и обобщенному, универсальному значимому партнеру («любому авторитетному и заинтересованному лицу») либо отсутствовали, либо еще только складывались, неся при этом на себе все следы того общественного устройства, от которого отпочковывались.
Но точно так же как централизованно-распределительная экономика неминуемо порождала, а далее и предполагала свою социальную тень – дефицит и «черный рынок» (теневое производство и распределение, а значит, и особую систему отношений, ролей и статусов, неформальную иерархию типов потребления, жизненных укладов), так и жесткая цензура каналов информации и репродукции, социальный контроль над инновативными системами и группами делали неизбежным появление функционально-дополнительного устройства – существование особого слоя, среды, такой организации взаимоотношений, которая и охватывается понятием «интеллигенция». Аналогия здесь вполне содержательная. Интеллигенцию невозможно помыслить вне косной системы официально-иерархических отношений, социального контроля над системами интеллектуального производства, мобильности и продвижения в обществе. Можно назвать это дефицитарной интеллектуальной экономикой закрытого, но уже не репрессивного (не тотально репрессивного) общества. Система устных и доверительных отношений компенсировала, дополняла, обходила здесь официальную сетку организации науки и культуры, всего смыслового производства. Друг без друга ни одна из них не существовала и существовать, как теперь понятно, не могла.
Понятие «интеллигенция» – один из моментов групповой самохарактеристики, своебразной структуры советского двоемыслия. Так осознает себя средний обслуживающий персонал (государственный салариат), связанный с системами репродукции общества на конкретном, посттоталитарном этапе его существования, характеризуя «внешний», представительский план своего существования, предъявляя собственную «миссию» другим (прежде всего – власти). С этими значениями взаимодействует иной пласт представлений, оценка себя уже в терминах сложившейся социальной структуры – позиций, дохода, карьеры, вознаграждения. (В соответствии с этими вторыми, «реальными» нормами и критериями, надо сказать, и рассматривают интеллигенцию ее социальные партнеры – «начальство», «органы», «работяги».)
В условиях пострепрессивного, но по-прежнему централизованно контролируемого общества репродуктивная по своим функциям и самопониманию средняя бюрократия не имела других форм самопредставления, а стало быть – рефлексии, кроме условно-игровых, эстетических. Говорить о себе можно было для нее лишь в форме разговора обо всем социальном целом. Язык подобных целостностей был единственно доступной для интеллигента формой универсализации собственных определений, знаний, символов. Поэтому экраном, формой, каналом саморепрезентации здесь выступало искусство, прежде всего – литература. Обсуждение прочитанного, прослушанного, просмотренного становилось затравкой групповых переживаний сопричастности. Но в структуру коллективности входили не просто ритуалы групповой солидарности. Процедуры группового литературного переживания складывались, в первую очередь, вокруг запрещенного, но реабилитируемого теперь культурного наследия. Тем самым, полнота и интенсивность литературных эмоций порождалась представлением о целом социальной истории, которая в свою очередь была проекцией интеллигентской идеологии (народ-власть-интеллигенция) с ее внутренним сюжетом – представительством интересов народа перед властью. Однако за этими клише стояла внутренняя травма – воспоминание о недавнем терроре и страх перед уничтожением, поиск спасения от людоеда, от персонифицированной угрозы групповому существованию. Тем самым, в суждение о литературе, в нормы интерпретации и оценки неконтролируемо вводились героизированные представления об интеллигенции и литературе, о «подлинной» истории и окружающей реальности[24]24
Напомним, что начиная с конца 1950-х годов публикация и интерпретация литературного наследия (от Ф. Достоевского, Н. Лескова, И. Бунина до С. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др., не говоря о новейших западных авторах – в том числе живописцах, музыкантах, театральных деятелях и др.) приобретала ощутимый оттенок оппозиционности прежнему, сталинскому режиму и его юбилеям. Выход любого такого текста воспринимался как общественное событие. Тем самым гасился собственно исторический контекст и фон творчества публикуемых авторов: они появлялись уже на правах классиков и общенационального достояния.
[Закрыть].
Символической автономности искусства (а стало быть универсальности его значений и принципов их интерпретации) при этом как бы не существовало. Не наращивалось многослойное символическое богатство смысловых уровней реальности и правил их субъективного связывания, синтезирования. Норма уже интерпретированной в литературе «действительности» предъявлялась как самоочевидный и неоспоримый аргумент, что возможно лишь в условиях жесточайших групповых конвенций, при монополии на определение реальности. Отсюда – программный антириторизм, предпочтения исключительно «реалистической», «очеркистской» эстетики, тогдашний отбор из всего отечественного и мирового разнообразия образцов искусства лишь тех, которые умещаются в рамки подобного канона «наглядности» и «естественной» поучительности, как бы давая урок и пример «поэзии в самой жизни».
Продукты литературных переживаний и интерпретаций закреплялись в конвенционально-групповых моделях действия – кухонных «поддавонах», пересказывании «вражьих голосов», магнитофонно-гитарной субкультуре, туристско-палаточных отпусках, пронизывающих всю среду разговорах, появлении новой сенсуальности, немыслимой в сталинское время. Разговоры не только компенсировали дефицит информации, особенно чувствительный для отдельного индивида, но и обеспечивали систематическое истолкование текущих событий, задавая групповой консенсус, нормы согласованного отношения к важнейшим моментам социального существования.
Но господствовавший в обществе страх не исчез. Он стал конвенциональным – из иррационального и тотального повседневного ожидания ужасного он превратился в горизонт существования, рамочный синдром. Сложилась своего рода система негласного общественного договора: санкции угрожали теперь не всем, а тем, кто, с точки зрения официальных инстанций любого уровня, выходил за допустимые рамки. Иначе говоря, речь шла о границах автономности и подконтрольности, формах демонстрации лояльности или независимости. Собственно, обыгрывание этой дистанции и составляло подавляющую часть интеллигентских забот, переживаний и размышлений. Только в этих условиях могло наделяться такой степенью значимости очень дозированное, медленное реабилитирование табуированных прежде планов частного или, напротив, профессионального, специализированного (но не идеологизированного) существования. При этом в поле внимания попадали слои реальности, группы людей, которые гарантировали или продолжали репродукцию жизни в самых фундаментальных (но одновременно – элементарных) и неидеологизированных формах (фильмы «Весна на Заречной улице», «Дом, в котором мы живем», «А если это любовь?»; романы Ю. Германа, лирическая и полуэкскурсионная очеркистика и эссеистика В. Солоухина, Е. Дороша; сентиментальная околоимпрессионистическая живопись и др.).
В целом героика как внутренняя структура официальной идеологии, слегка адаптированная позднее уже в форме антропологических, социальных, эстетических представлений интеллигенции, сохраняется, но воспроизводится на неканоническом, «новом» для только что пришедших военных и первых послевоенных поколений материале. Так, в негероических жанрах и формах словесности, кино, журналистики героическая сюжетика, характеры, ситуации переходили на периферию повествования, становясь его фоном. (Фильмы «Высота», «Коммунист», позднее – «Девять дней одного года», «Наш современник», целый пласт жесткого экспрессионизма и минимализма в соцреалистической живописи, опиравшейся здесь на чрезвычайно значимую для того периода и жизненных путей целого поколения поэтизацию образа геолога, альпиниста у П. Никонова, Т. Салахова и др., а затем – в туристской и авторской песне, молодом кино и его актерских типажах.) Напротив, столкновение с повседневностью или воспоминание о ней в героической прозе или кино означало открывающиеся в предельных ситуациях либо на переломных моментах глубины экзистенциальной проблематики самоопределения, нередуцируемость существования к его официальным и «формализованным» сторонам – проблематика дома, женского, любви на войне в «лейтенантской прозе» и кино, песнях Б. Окуджавы.
На первых порах реставрация или реабилитация повседневного шла как ее поэтизация или даже героизация. Тематически повседневное могло стать фактом публичности (новым планом социальной реальности) только в соединении с высокими значениями и в соотнесении, а позднее – в противопоставлении сфере официального. Самым значимым на фоне официальной идеологии здесь было представление о простых чувствах обыкновенных людей, взятых вне иерархии, и даже вне занимаемых ими социальных ролей, занятий, в их нерепрессивном, человеческом (моральном) отношении к другому. Однако продумывались, прорабатывались, проблематизировались здесь не формы или аспекты субъективности, индивидуальной ответственности, автономности, открытости собственного существования, персоналистической структуры реальности, а проблематика семьи, морали, компании, школьного класса или производственной бригады, то есть групповой нормативности, коллективной лояльности (в более глубоком виде – лояльности ко всему социальному порядку). Даже в наиболее сложных формах интеллигентского сознания, например, в фильмах А. Тарковского, субъективность тематизируется только как травма несостоятельности, невозможности субъективного осуществления, метафорами которого становятся разрыв, смысловая черная дыра, гибель, уничтожение, распад (в «Зеркале», «Сталкере», «Ностальгии», «Солярисе» источником самых болезненных и невротических переживаний становится невозможность встречи с самим собой). Тема «простоты» здесь глубоко не случайна. Это не только ностальгический культурный мотив «маленького человека», знакомый по литературе XIX в. или пролетарский рессентимент в отношении несуществующей аристократии или «буржуазии образования». В данных исторических обстоятельствах это скорее страх перед «фатальной» сложностью реальности, в том числе и собственной жизни, своего душевного устройства (фатальной именно потому, что нет средств – интеллектуальных, культурных, рефлексивных – эту сложность выразить, осознать и тем самым контролировать в определенной мере). Страх рождает бессознательную потребность в защите от возможного злоупотребления этой сложностью со стороны социального партнера, а единственный социальный партнер, который мыслится в этих условиях, – власть. Подчеркнем, что каноны «простоты» в данном случае отстаивает интеллектуальная верхушка, причем надеясь именно с их помощью осуществить репродукцию, и видя в «простоте» конститутивный элемент сообщества. Семантическими формами редукции сложности могут быть не только высокая оценка двух персонажей, отношение к которым вообще наиболее значимо в интеллигентских конструкциях реальности, – ребенка и старухи. Это может быть и современный юродивый (Деточкин у Э. Рязанова, Сталкер у А. Тарковского, «чудик» у В. Шукшина), но могут быть и не персонифицированные структуры, а своеобразная топика: мотивы комедии, сюжетика бегства из города («Вертикаль» С. Говорухина с участием В. Высоцкого; «Карьера Димы Горина» Ф. Довлатяна и др.), отказа от социального статуса, сентиментализация языка. Важно, что внутренне признанной мерой интеллигентской интерпретации большинства культурных или социальных качеств выступают фигуры или конструкции, знаменующие до-культурное или вне-культурное (аскетическое) существование. Подобные определения реальности в качестве модельных мыслимы только в условиях, когда право на смысловую оценку и толкование реальности апроприировано одной группой или слоем, так что всем остальным инстанциям и позициям в правомочности отказано.
Но это означает, что и сама интеллигенция точно также конституирована через отказ от потенций самоопределения, от признания каких-либо ценностей в качестве самодостаточных, а не составляющих только лишь ресурс группы. Именно в результате подобного упрощения механизмы поддержания групповой нормы реальности со временем (и достаточно быстро) подвергаются некрозу, парализуя и интеллектуальную продуктивность самой группы.
Чувство открывшихся в 1960-е гг. возможностей едва ли не одновременно сопровождалось у интеллигенции ощущением неспособности их реализовать, тоской, томлением по предощущаемому богатству существования. И если в начале «оттепели» этот эмоциональный комплекс связывался с первой фазой выхода из репрессивного общества, то со временем он обнаруживал гораздо более глубокую, принципиальную природу. Отсрочка (или неважность) реализации становились позитивным переживанием, и не только индивидуальным, но и коллективным. Отказ (но демонстративный!) делался даже важней достижения, изображая, симулируя независимость самоопределения. Сама демонстрация оказывалась возможной и приемлемой для группы, поскольку оставалась ее внутренним делом: никаких внешних, надгрупповых мер оценки для самой интеллигенции, при всех ее ностальгических разговорах о «гамбургском счете», по определению не существовало. Не то чтобы интеллигенция не знала, кто есть кто «на самом деле». Но задачи социальной демаркации и дистанцирования от других неизбежно подавляли начатки внутреннего структурирования, качественной и функциональной дифференциации аморфного, в сущности, слоя. Формы зарождающейся публичности, символика интеллектуального лидерства со временем все больше ритуализировались. Потенции разнообразия осознавались как центробежные силы, а задача удержания разбегающейся смысловой вселенной и сохранения тем самым собственной авторитетности превращалась в главную. Формы зарождающейся публичности, символика интеллектуального лидерства со временем все больше ритуализировались.
Иными словами, общий смысл различных форм социальности, характерных для интеллигентской жизни, мы связываем с компенсацией недоразвитости, рудиментарности субъективного начала в обществе, а стало быть – бедности публичного существования как сферы взаимной презентации, обмена перспективами. Этих форм в количественном отношении не так уж мало, но функциональное их своеобразие, то есть диапазон ценностей, вокруг которых складываются те или иные структуры социальности, не широк. За неимением сколько-нибудь развитого репертуара политической, общественно-религиозной, светской, модно-вернисажной жизни фактически все жанровое разнообразие интеллигентского социального существования можно было до последнего времени свести к двум принципиальным образцам. Один – это демонстрация неиерархической общности людей, близких друг другу по тем или иным неформальным признакам – клубы самодеятельной песни (КСП), кружки, юбилейные вечера, кухонные посиделки. Их объединяло, во-первых, отсутствие любых форм лидерства или статусного превосходства, а во-вторых, незначимость чисто профессиональных критериев деятельности (можно быть дилетантом или знатоком, но нельзя – неприлично, скучно – специалистом). Другой образец – протоформы лидерства в науке и культуре и предъявление профессиональной квалификации, знаний и умений. Это различные «чтения», разрозненные «семинары», разовые либо более или менее систематические «лекции». Все они на протяжении, по крайней мере, 15–20 лет между серединой шестидесятых – серединой восьмидесятых годов охватывали примерно один круг людей полутора-двух демографических поколений, составлявших достаточно консолидированное ядро гуманитарной интеллигенции страны.
Особенность периода, среди прочего, состояла в том, что обе эти формы социальности не просто не были отграничены друг от друга, но, скорее, составляли дополнение и даже были «измерением» друг друга: переход из одной сферы в другую осуществлялся как переключение кодов поведения – с делового на приватный и т. п. Однако этим начатки собственно профессиональной специализации, кумуляции знаний, репродукции не только содержательных значений, но и методов и техники их получения и верификации все больше блокировались. То, что собирало интеллигентский бомонд, было принципиально лишено малейших признаков дискуссионности, субъективности перспектив. Более того, существовала негласная конвенция – запрет критических дискуссий, который аргументировался тем, что «работающие люди» и так легко становились жертвой официального разноса. Но одновременно и культура все больше и больше ассоциировалась с чем-то принципиально далеким, эзотерическим, экзотическим, древним или инокультурным, архаическим. Соответственно, вся проблематика модерности, рефлексивности, выбора, политеизма, полиморфности, внутренней дифференцированности и сложности действия вытеснялась из обсуждения. Демонстрация «сделанности» (цитатность, центонность, интертекстуальность) среди «своих» вроде бы приветствовалась – но лишь как техническая виртуозность. И то, и другое по сути означало не просто вытеснение культуры из сферы рационализации актуального, но и ее музеефикацию, а тем самым – имитацию самого интеллектуального (культурного и тем более – научного поведения), «суррогатизацию» культуры. Разрыв с современной ситуацией и с мировыми горизонтами непрерывно увеличивался и закреплялся. Симптоматично, что ни один из кружков (и филологических – тартусцы, и других, например, методологических, как кружок Г. П. Щедровицкого) не дошел до уровня школы. Они распадались, поскольку никаких формализованных механизмов репродукции (знания, методов, фактажа, теории) не возникало. Более того, их возникновение никогда не было целью специальной работы, а чисто групповые симпатии или кружковые привязанности никогда не строились на рациональном дискурсе.









































