Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
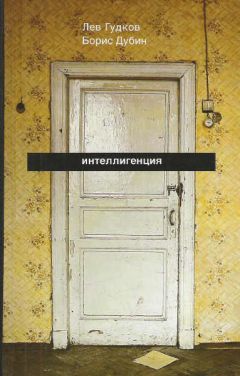
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Печать и изменения в системах ценностей постсоветского общества
Мы хотели бы представить для обсуждения четыре тезиса:
1. Масштабность политических последствий краха СССР подталкивает к мысли, что и изменения в культуре, в системах ценностных ориентаций, нормах поведения должны быть, по меньшей мере, соизмеримы с политическими. Однако, как мы полагаем, при анализе происходившего в СССР с 1986 по 1991 гг., а также происходящего сейчас в России речь может идти не о трансформации самих ценностей советского общества, а об изменении структуры их артикуляции, форм их выражения. Сами же ценностные представления, принципиальные модели реальности, отношения к различным аспектам частного и общественного существования сложились ранее и в основных группах и слоях населения практически не менялись. Более того, за это время не появилось и новых культурных или идеологических позиций;
2. Самым важным и единственно очевидным, по мнению населения, результатом всех изменений за эти годы (если не считать роста цен и инфляции) стала достигнутая свобода слова, независимость органов информации, институционально обеспечивших взаимную репрезентацию различных групп, их взглядов, культурных образов и т. п. В течение нескольких лет перестройки и распада СССР можно было наблюдать процессы массовой конфронтации определенных слоев интеллигенции с центральными властными структурами советского режима и мобилизации в поддержку различных идеологических и культурных позиций, выработанных примерно 15–20 лет назад и ранее и представляемых сегодня обществу разными органами печати. Успех этой борьбы привел к децентрализации и частичной дифференциации системы коммуникаций. После этого последовало падение признания прессы и СМИ, идеологизированной и ангажированной словесности, других форм культурной деятельности в целом. Период монопольного владения правами на идеологическую и символическую разметку реальности в ее основных событиях, героях, движущих силах для интеллигенции закончился;
3. Этот процесс связан с исчерпанностью смыслового и ценностного потенциала интеллигенции, ее общей неготовностью принять на себя задачи по рационализации повседневности, смыслового ресурса культурных традиций, лежащих за пределами отношений власти и советского общества, медленностью образования элит в функциональном смысле слова. Слабость общества как такового, потенциала его самоорганизации связывается нами с внутренними коллизиями русской культуры, препятствующими завершению модернизационного процесса;
4. Реакцией на эти обстоятельства стал усиливающийся и педалируемый в СМИ разрыв между элитарной культурой и массовой. Освобожденная от государственного контроля массовая культура работает как система адаптации к идущим социальным изменениям.
Рассмотрим эти положения более развернуто. Пять лет гласности сделали возможными несколько явлений[21]21
Приводимые нами ниже данные получены в ходе массовых исследований, проведенных авторами во Всероссийском центре изучения общественного мнения в 1989–1992 гг.; все опросы осуществлялись по репрезентативной всесоюзной или всероссийской выборке.
[Закрыть]:
а) становящееся все более открытым и прямым выражение любых взглядов, от либерально-модернизационных до радикально-консервативных – почвенных, националистических, монархических, введение соответствующего им исторического, статистического, эстетического, литературного и иного материала, подкрепляющего те или иные позиции;
б) критику властных структур (сначала очень осторожную, но затем приобретающую почти исключительно эмоциональный характер), истории и практики режима;
в) ограниченную рационализацию выраженных к тому моменту взглядов и позиций;
г) популистскую апелляцию к массам, приведшую к разрушению легитимационного базиса режима, а соответственно – утрате доверия к нему населения;
д) быструю мобилизацию, перегруппировку и смену наличного состава элитоподобных групп.
Изменение темпов социального времени, столь важное для самоощущения последних лет, не означает изменение самих ценностей советского общества. За последние шесть – семь лет произошла перегруппировка их носителей, изменился удельный вес и статус различных групп, «наборов» и «призывов», разделяющих эти ценности.
Ритм социальному времени, все более ускорявшемуся с 1986 по 1991 год, задавали не новые идеи или культурные образцы, а быстрая смена политических или идеологических позиций в поле публичного внимания, интеллигентских претендентов на роль «советчиков царя», заданная идеологией модернизации «сверху». Можно представить себе своего рода каталог возможностей реформировать советское общество как последовательную мобилизацию этих «элит», лидеры или публичные представители которых стремительно вытесняли друг друга и в свою очередь теряли признание публики. Диапазон их весьма широк: от близких и лояльных к прежней власти (А. Бутенко, А. Ципко, Т. Заславской, А. Аганбегяна, И. Клямкина, М. Захарова и др.) до либералов, центристов или маргиналов, категорически не приемлющих ничего советского (например, Ю. Власова, С. Говорухина, В. Аксючица и прочих – приводим только часть тех имен, которые названы самими респондентами в массовых опросах или экспертами). Движение этого колеса Фортуны, поднимающего и опускающего фигуры на публичной сцене – в печати и на ТВ, в первый период перестройки отмечало расширяющуюся зону плюрализма, а вместе с тем – фазы растущего бессилия прежнего руководства страны. За это время оказались выраженными практически все имевшиеся на тот момент в обществе точки зрения, представления о возможных реформах и степени допустимости свободы слова.
Важно подчеркнуть, что их спектр был уже представлен позициями давно известных авторов или же текстами самиздата, зарубежной русской печати и радикалов открытой советской периодики – как либерального, так и консервативного толка. Причем, речь идет не только о высокой литературе – исторического, религиозного, философского плана, но и о массовой культуре. В самиздате обращались практически все те тексты, которые сегодня выплеснулись на книжные прилавки и которые издаются преимущественно коммерческими издательствами – детективы, эротика, оккультные науки, воспитание детей, фантастика, пособия по иностранным языкам, книги о животных и проч. Другое дело, что за эти 15–20 лет толщина и плотность связей в данном слое выросли на два порядка. Так, по нашим расчетам, круг читателей самиздатской идеологической литературы в середине 1970-х годов составлял не более 20–25 тысяч человек в разных городах. Через 10–12 лет его объем составлял уже 1,2–1,5 млн человек.
Приведем еще один пример. Внезапная актуальность национального вопроса, возникновение множественных очагов межэтнических или межнациональных конфликтов, рост ксенофобии и другие подобные вещи для подавляющего большинства образованных людей, не говоря уже о массовом сознании, явились полной неожиданностью. Однако анализ динамики тиражей журналов, выходящих на языках народов СССР, позволяет задолго до распада империи диагностировать процессы национальной консолидации, рост сплоченности в первую очередь национальной интеллигенции, для которых журналы этого рода представляли собой средства артикуляции национальных интересов. Так, на протяжении 1981–1987 гг.[22]22
См.: Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Литература как социальный институт. М.: НЛО, 1994. С. 327–328.
[Закрыть] (то есть до горбачевской перестройки) литературные журналы, выходящие на армянском, азербайджанском, грузинском, латышском, эстонском, литовском, киргизском языках, а также на языках некоторых автономных республик, устойчиво увеличивали свои тиражи (в среднем на 10–15 процентов, хотя в некоторых случаях, как в Грузии или с журналом крымских татар, рост составлял 30 процентов и более). Напротив, издания на русском языке, выходящие в союзных республиках, теряли примерно такое же число читателей. То же самое характерно и для тех мест, где велась особенно жесткая политика русификации или подавления национальной культуры и интеллигенции (так, хирел журнал, издаваемый армянскими писателями в азербайджанской среде, в Баку, или теряли подписчиков и читателей украинские, белорусские издания, литературная периодика в тех республиках, где велась борьба с местным национализмом и т. п., в Молдавии, Казахстане, Татарии, Таджикистане, Абхазии и т. п.). Но это справедливо, по крайней мере, отчасти и для России. За этот же доперестроечный период росла читательская аудитория практически лишь у двух литературных журналов – «Нового мира» и «Нашего современника», представлявших как бы две линии консолидации российской интеллигенции – либерально-демократическую, модернизационную и националистическую, отчасти почвенную. Разумеется, цензурные ограничения сдерживали выражение и той, и другой программы, но она была вполне ощутима – в подборе авторов, тем, характере интерпретации событий, в оценках литературного процесса и проч. Понятно, что разные издания, отражающие информационные, идеологические и культурные горизонты разных групп и слоев общества, по-разному реагировали на идущие в обществе процессы. Для более адекватного рассмотрения этих изменений разобьем периодические издания на шесть типов:
а) малотиражные, иногда вышедшие лишь одним первым номером издания, представляющие собой рационализацию проблем узкофункциональных групп, близких или аналогичных элите; это академические и научные журналы, журналы, представляющие собой форму артикуляции или рефлексии проблем андерграунда, кружков, замкнутых средовых образований – социальных, культурных или интеллектуальных маргиналов, программные издания в сфере культуры или идеологии национальных движений, журналы и альманахи немассового характера (включая и псевдоэлитарные – эротические, астрологические) – «Вопросы философии», «Человек», «Путь», «Ступени», «Новый круг», «Логос», «Третья волна», «Полис», «Новое литературное обозрение», «Искусство кино», «Театр», «Декоративное искусство», «Всемирное слово», «Наше наследие», «Диапазон» и прочие. Число журналов такого рода увеличилось, хотя и очень незначительно, при этом у старых изданий резко сократилась аудитория (например, у «Вопросов литературы» – с 27 до 3 тысяч экз.). Заметная часть академических изданий в сфере гуманитарных наук перешли на репродуктивный характер публикаций – они содержат переводы западных классиков, авторов первой трети ХХ века или несколько позже, писателей, не публиковавшихся в советское время, и практически не дают материалов, связанных с пониманием сегодняшней интеллектуальной ситуации. В этом смысле они выпадают из сферы значимых изменений и руководствуются педагогическими или просвещенческими задачами. «Театр» и «Искусство кино» перестают быть собственно профессиональными журналами и превращаются постепенно в литературно-публицистические издания, приобретая одновременно и политическое значение;
б) «толстые» литературно-публицистические журналы, являющиеся мостиками или посредниками между различными элитами или группами образованных, публикой в собственном смысле, «общественностью», «интеллигенцией» (например, «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Странник», «Родина» – о них, как и двух следующих типах, речь пойдет ниже). Отметим, что их число практически не увеличилось, а частично даже сократилось, вместе с развалом номенклатурной структуры Союза писателей СССР (разорилась часть журналов, представлявших областные писательские организации);
в) средства массовой информации, иллюстрированные «тонкие» журналы или еженедельные газеты, обладающие специфической идеологической или социальной программой – «Литературная газета», «Огонек», «Известия», «Коммерсантъ», «Мегаполис-экспресс», «Литературная Россия», «День», «Воскресенье», «Русский вестник», «Правда», «Советская Россия», «Столица», «Час пик» и множество других;
г) массовые, многотиражные издания, лишенные собственной культурной или идеологической программы – «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Работница», «Здоровье» и проч;
д) массовые профилированные тематически издания, ориентирующиеся на определенные группы (например, молодежь) – женские, детские, или сферы занятий – развлечение, фантастика, дом, и прочее;
е) самиздат. Достигнув своего пика в начале горбачевской эпохи, самиздат как специфический механизм культуры, канал коммуникации и структура социальной солидарности легализовался и растворился среди множества мелких издательских предприятий-однодневок. Как социальная форма он перестал существовать в тех республиках, где достигнута известная свобода печати, но сохранился, например, в Узбекистане.
Первый период социальных изменений – 1986–1989 гг. – характеризуется устойчивым ростом аудиторий либеральных журналов – «Нового мира», «Дружбы народов», «Знамени», «Авроры», «Огонька», а также следующих им в тактике программной идеологической и политической ангажированности центральных газет, вне зависимости от направленности – «Литературной газеты», «Советской культуры», «Правды», «Известий», «Советской России» и прочих. Именно их тиражи в это время растут чрезвычайно быстро. К 1990 году либеральные журналы увеличили число своих подписчиков в 4–9 раз и более (почвенные – в 1,2–1,5 раза). Причем рост подписчиков идет исключительно в одном социальном слое: как правило, это люди с высшим образованием, жители крупных городов, демократически настроенные. Второй период – 1990–август 1991 г.: массовая поддержка интеллигентским лозунгам достигает пика, слой максимально консолидирован в своем неприятии существующей системы, рост тиражей прекратился у всех журналов и газет, кроме ставших аморфными по своей направленности – «Аргументов и фактов», «Комсомольской правды» и др., подтягивавших массовые слои к более образованным, но практически не обеспечивавших достаточной рационализации происходящего, а скорее тиражирующих уже готовые клише и символы.
С начала 1991 года идет резкое падение популярности и признания всех СМИ, причем наиболее резким оказывается падение именно вчерашних идеологических лидеров – у «Литературной газеты» утрачено 95 процентов подписного тиража, у «Правды» – 91 процент, у «Советской России» – 82 процента, «Известий» – 73 процента. «Новый мир» в сравнении с тем, что он имел на самом пике популярности, сократил свою аудиторию на 93 процента, «Дружба народов» – на 87 процентов, «Знамя» – на 80 процентов, от тиража «Огонька» осталась только треть, «Московские новости» сохранили лишь четверть своих читателей (главным образом за счет периферии, только начавшей осваивать те представления, которые уже прошли в столицах и крупных городах, то есть запаздывающих на фазу). В 1992 г. практически все «толстые» журналы вернулись к своим доперестроечным объемам, но характер их аудиторий резко поменялся – он стал более провинциальным, по своим культурным характеристикам – эпигонским, вторичным (кризис собственно аудитории). Но от этих либеральных журналов, некоторое время бывших символическими представителями интеллигенции, отвернулась интеллектуальная верхушка, наиболее развитая и компетентная, образованная, активная часть общества (что осознается как кризис авторства). Газетная аудитория в целом претерпела сдвиг в сторону более пожилых, консервативных групп, в первую очередь – местного руководства и чиновников среднего уровня, которых уже не шокируют резкости того или иного автора и журнала, поскольку подобный тон к этому моменту стал нормой. Новыми читателями почвенных журналов стали несколько более молодые, националистически настроенные представители бывшей номенклатуры, бизнеса, ИТР, провинциальные гуманитарии. Именно они, отказавшись от коммунистической идеологии, удерживают рутинный комплекс представлений о великой России и державной русской культуре. Точно такие же траектории популярности и интереса к телевидению и радио: вначале резкий рост позитивных оценок и признания значимости изменений, затем нарастающее недовольство одномерной критикой советского режима и сталинского наследия, неудовлетворенность в связи с их однообразной политизированностью, недостаточностью внимания к другим сторонам жизни и, наконец, преобладание негативных оценок над положительными при сохранении повседневного внимания лишь к чисто информационным передачам (ИТА «Новости», «Вести»). Полностью исчезла или переориентировалась коммунистическая партийная печать, составлявшая ранее свыше 50 процентов всех изданий, перестала издаваться подавляющая часть ведомственной периодики, обслуживавшей интересы государственно-бюрократического аппарата.
Незначительно изменилась та периодика, которая обеспечивала существование «элиты». Степень дифференциации ее сегодня столь же мала, что и до того. А это значит, что собственно культурной элиты – функционально специализированных групп, дифференцированных кругов, узких аудиторий, в которых вырабатывались бы смыслы, понятия, представления, обеспечивающие рефлексию, интеллектуализацию жизненного мира, рафинирование повседневности, этическую, культурную, субъективную рационализацию жизни – не образуется. И это не случайно. При анализе процессов в советском обществе мы имеем дело не с революцией, не с трансформациями глубинных структур, а с колоссальным по своей инерции процессом разложения институциональной (политической, экономической, культурной) структуры бывшего советского общества. Само слово «разложение» указывает на длительность, процессуальность совершающегося. Социальное разложение совсем не обязательно сопровождается возникновением новых культурных форм, новых моделей массового поведения, идентификации и действия. Скорее, его симптоматикой может служить навязчивость опыта прошлого, непреодоленность, нерационализируемость его. В определенном смысле адекватный образ советского общества сегодня – это человек, пятящийся в будущее, идущий спиной вперед, завороженный своим прошлым.
Обратимся к материалам периодики, представляющей для нас картину состояния умов в России. Более трех четвертей публикуемых в журналах материалов (любого жанра – беллетристика, статьи, документы, воспоминания, размышления, эссе и прочее) ориентированы на прошлое или посвящены его переоценкам и переинтерпретациям; еще небольшая часть представляет собой информацию о выходе и комментарий к остаточным публикациям архива за границей, точно так же ретроориентированного («Минувшее» и др.). В сегодняшних условиях литературная или эстетическая критика, являющаяся механизмом культурного санкционирования нового, занимает очень скромный объем и место в периодике: если в 1987–1988 годах рецензировалось примерно 8–12 процентов всех литературных новинок (таков был нормальный объем литературной селекции за год, признания литературой того нового, что появлялось в журналах – в книгах при российской издательской системе новинки до сих пор почти не выходили), то в 1991 году рецензировалось только 2–3 процента, да и те представляли собой в значительной части отзывы на российские переиздания западных книжных публикаций русских или советских авторов. Еще меньшее, если не сказать – ничтожное, значение имеет социологическая, философская, художественная, культурологическая или антропологическая, религиозная критика (едва ли не единственное исключение – сфера кино, например, «Киноведческие записки»). Правильнее было бы сказать, что ее нет, а значит нет и модерного общества, в котором только и могут существовать подобные типы рефлексии. Падение интереса к печати меньше всего отразилось на массовых, неполитизированных изданиях: они – пропорционально – потеряли меньше всех, поскольку у них отсутствовала какая-либо собственная позиция по отношению к реформам в стране. Они функционировали как рутинные репродукторы массовых представлений, занимаясь тем, что может быть названо «сюжетикой повседневной жизни», риторическим оформлением, «одомашниванием» происходящего. К таким изданиям можно отнести «Труд», «Сельскую жизнь», «АиФ», самые многотиражные «тонкие» журналы, охватывающие практически всю читающую аудиторию (на пике популярности их тираж составлял 19–20 млн. экз.) – «Работница», «Крестьянка», «Здоровье», отчасти – «Роман-газета» и проч. Но и у них плотность читательской аудитории, равно как и аудитории центральных массовых газет, снижается, они, не меняя своей структуры, начинают редеть, разрыхляться, падает общий квалификационный и образовательный уровень аудиторий, она стареет. Эти издания работают уже в режиме удержания и сохранения того ядра самых общих идей и представлений, которые были введены либеральной прессой в начале перестройки, но не притягивают новые группы читателей или зрителей.
Пик общественного внимания был достигнут именно ко времени первого съезда народных депутатов СССР в 1989 году. 1990 год был годом, исчерпавшим потенциал реформаторской элиты в рамках коммунистической системы и обозначившим начало уже определенно бессильных к этому моменту попыток приостановки реформ. В социальном смысле это был момент утраты контроля центральной власти над республиками, начало самостоятельности местных органов власти, директората промышленных предприятий и т. п., то есть разрушением тоталитарной системы бюрократической организации и управления обществом. Победа «демократов» на выборах российского президента, затем провал путчистов изменили оптику в отношении идущих событий и привели к дифференциации позиций внутри прежде единого блока оппозиционных движений. Еще раз подчеркнем – дело не в политической истории, а в механизмах консолидации интеллигенции, исчерпавших себя к декабрю 1991– январю 1992 года.
Утратили влияние основные общественно-идеологические силы общества – от правых до левых, от «Фронта национального спасения» до «Демократической России», сегодня их поддерживают 1,5 и 6 процентов населения соответственно. Но ограниченность интеллигентской критики истории советского общества, его природы, перспектив выхода из кризиса, начинает сказываться гораздо раньше как насыщение и усталость от однообразной критики сталинизма, Сталина, которого превращали в персонифицированный символ системы. Недовольство растет не только журналами, прессой, ТВ, а вообще деятельностью интеллигенции. Исчезновение из списка «героев года» вчерашних демократических кумиров (на фоне вообще снижающегося рейтинга любых лидерских фигур) на рубеже 1992–1993 гг. стало совершенно очевидным. Завышенные ожидания от политических перемен были вызваны самой идеологией культуры, которая консолидировала интеллигенцию, определяла конструкции ее реальности, видение истории. Эта идеология представляла в своем существе вариант модернизации, обеспечиваемой сверху властными структурами, которые необходимо было лишь подвергнуть либеральному просвещению. Отсюда такая чрезмерная смысловая нагрузка на политические реформы, политические институты, пафос политической дидактики и критики режима, отсюда же и зависимость любой сферы ангажированной культуры от проблематики власти и государственного контроля. Все сколько-нибудь значимое, что появлялось в последние 15–20 лет в советской публичной культуре, было интимнейшим образом связано с противостоянием режиму, осмыслением его ресурсов, его истории, его легитимности или неприятием его.
Основными составляющими этой идеологии культуры, общей для всей советской интеллигенции как слоя обслуживающей бюрократии, были идентификация с государством как силой, создающей и управляющей обществом, некритическая переоценка собственной миссионерской роли и негативная социальность (требование социальной справедливости). Соответственно, общество понималось не как институционализация отношений дееспособных заинтересованных сторон, а как ресурс власти, как совокупность образований, зависимых от государства. Сегодня хорошо ощущаются все отрицательные последствия всевластия государства – репрессии, стагнация, низкий культурный уровень и проч. Но совершенно упускается из виду то, что вся советская интеллигенция, ее культура, литература находились на содержании у государственных структур, что требования социальной справедливости (например, со стороны учителей, библиотекарей, музейных работников) являются лишь иной формой выражения того же самого принципа социальной организации, но не связываются с государственной опекой. Всеми советскими культурными институтами (школой, книгоизданием, кино, театром, литературой) поддерживались и тиражировались принципы коллективной, массовой дидактики, уравнения, неприятия субъективности, которые в массовом сознании соединялись с традиционной уравниловкой, завистью, пассивностью, подавлением наиболее инновативных, активных и преуспевающих групп, неприятием индивидуальной автономности. Именно коллективная этика и образ реальности интеллигенции блокировали возможность появления «модерного», или гражданского сознания с присущими ему ценностями групповой солидарности, свободы, рациональности, индивидуальной достижительности. Неконтролируемыми и мало осознаваемыми следствиями, особенно применительно к массовому сознанию, были сохранение массовидности, аскриптивный характер дифференциации (в первую очередь, по этническим характеристикам, а не по функциональным достижениям, что далее обернулось взрывом национальных конфликтов и усилением этнократического сознания в республиках), символическая роль насилия как средства социального взаимодействия. Именно интеллигенцией как слоем задавалась резко отрицательная оценка индивидуализма, ставшая тормозом для культурной солидарности, а стало быть – артикуляции групповых, особых интересов, а тем самым – формирования средних классов и активного дееспособного индивида, являвшихся опорными моментами современной западной цивилизации. Но именно эти обстоятельства оказываются сегодня вне поля внимания и интереса образованных групп в советском и постсоветском обществе.
СМИ, «толстые» журналы ослабили идеологизированность социальной реальности, ее двойственность, иерархичность, но не уничтожили ее полностью. Доминирующая до недавнего времени официальная картина социальной жизни задавала принудительный, сложный код поведения, включающий выражение демонстративной лояльности к власти и существование в рамках неформальных, непубличных структур. Соответственно общество представлялось только в идеологизированных, санкционированных государством образах публичной и коллективной жизни (в этом смысле общество было идентично государству), которые резко контрастировали и не пересекались со сферой повседневной, приватной жизни, локализованной кругом непосредственного общения, а потому – частичной, сегментированной и нерационализируемой. Система подобного двоемыслия определяла любые планы существования в советском обществе; от нее не был свободен никто, поскольку усилия даже критически настроенных групп, например, диссидентов или правозащитников, оказывались в том же силовом поле борьбы, разоблачения или анализа двоемыслия. Постепенное освобождение печати, ТВ, радио, других каналов коммуникации от цензуры позволило расширить диапазон образов реальности различных групп, однако не устранило самого двоемыслия. Во многих случаях обнаружение публикой неявных или несознававшихся сторон жизни сопровождалось шоком или фрустрацией (таков, например, был эффект от публичных высказываний откровенно антисемитских взглядов или обнародования фактов личной аморальности коммунистических вождей). Правильнее было бы говорить поэтому о раздроблении, или умножении, парцелляции представлений о реальности, а не о переосмыслении самого многообразия социальных интересов и ценностей, существующих в советском обществе.
В результате деятельности журналов, прессы в целом, перекачавших из самиздата и зарубежной печати все не опубликованные ранее произведения, значительную часть материалов и документов по истории страны, критики оснований коммунистической власти и т. п., система идеологического двоемыслия начала эрозировать. Разрушился верхний показной уровень лояльности к коммунистическим властям, но не к власти государства как таковой.
Сами же структуры реальности остались теми же – образ истории, структуры идентичности и самосознания и др. Если в феврале 1989 года большинство опрошенных высказывалось «за социалистический путь развития СССР», но так сказать «с человеческим лицом», то уже в мае 1991 года 56 процентов опрошенных заявляли, что «коммунизм не принес России ничего, кроме нищеты, очередей, массовых репрессий». Примерно столько же указывали, что история страны за последние 70 лет – это цепь преступлений, нищеты и безумия. Показатели коллективной фрустрации и кризиса символической идентификации за три года резко выросли. Так, доля людей, считающих, что «мы (наша страна) хуже всех», что «мы можем служить другим странам лишь отрицательным примером, как не надо жить» и т. п. выросла с 7 процентов в 1989 году до 57 процентов в 1991-м. Однако отрицательная оценка прошлого страны не меняет самой структуры соотнесения. Более того, здесь несомненно имеет место переворачивание прежнего комплекса имперского и миссионерского превосходства – были лучше всех, самими прогрессивными, сейчас – хуже всех. Признание сталинского режима преступным тем не менее может сохранять идентификацию с государством, но при этом меняется знак или смысловое наполнение: например, государственный мессианизм замещается идентификацией с властью как фактором перемен, фактором демократизации и проч. Поэтому имеет смысл обратиться к более глубоким и неконтролируемым параметрам. Например, за четыре года, когда ВЦИОМ ведет свои исследования, практически не изменилась структура исторического сознания. Основные символы, набор представлений о культуре страны, пантеон ее ведущих фигур, составляющих представления о прошлом, остались теми же (хотя сила выраженности этого набора существенно – почти вдвое – ослабла); это, главным образом, те политические деятели, которые знаменуют собой историю формирования империи – русские полководцы, советские маршалы (Суворов, Кутузов, Жуков, Рокоссовский, Фрунзе), создатели империи или советской власти (Петр I, Ленин, Горбачев, Сталин, Дзержинский и проч.), а также государственно санкционированные авторитеты в области культуры и литературы, науки, вошедшие в школьные учебники в качестве легитимации иного базиса власти – мифа творения советской реальности: Пушкин, Толстой, Ломоносов, Менделеев, Гагарин и др.
Весь объем истории человечества сводится лишь к истории советского государства в его узловых точках. Приведем данные майского опроса 1991 года. На предложение назвать несколько событий, которые, на взгляд респондентов, определили историю человечества, были названы в первую очередь: «Великая Октябрьская социалистическая революция» – 34 процента, «Великая Отечественная война» – 25 процентов, «перестройка, горбачевские реформы» – 14 процентов, «Вторая мировая война в целом» – 12 процентов, «освоение космоса» – 9 процентов, «августовский путч» – 9 процентов, «распад СССР» – 4 процента, «создание атомной бомбы» – 4 процента. Равную долю ответов получили «Гражданская война», «война 1812 года» и «возникновение христианства» («рождество Христа») и «открытие Америки» – 3 процента, примерно одинаковое число людей (менее одного процента) указали на «изобретение книгопечатания», «войну в Афганистане», «смерть Сталина», «воссоединение Германии», «античную эпоху и греческую культуру», «изобретение паровой машины» и т. п. (всего опрошенными названы около 100 событий и явлений культуры). Иными словами, ключевыми символическими событиями, являющимися опорными точками конструкции социально-культурной реальности, являются обстоятельства державного порядка, создания государства или демонстрации его величия, мощи. Новые национальные элиты в республиках (равно как и русские националисты в своих программах) намечают точно такую же жестко репрессивную культурную и социальную политику, что и полувеком ранее советская власть в стране в целом.









































