Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
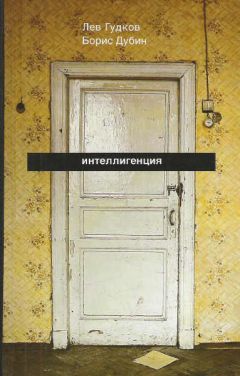
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Театр без драмы
Поскольку основой взаимопонимания и поддержания чувства причастности выступали исключительно неформальные связи, то особое значение в процессах групповой организации (а далее – всего смыслового мира участников) приобретали репрезентативные «фигуры авторитета» – персонифицированные центры ориентации и общения разных фракций и наборов интеллигенции, равно как и «места», где можно было видеть этих персонажей и друг друга.
История советской интеллигенции (так, как она здесь рассматривается) распадается на два больших периода послевоенного, но доперестроечного времени, которые можно условно назвать «оттепельный» (примерно 1955–1973) и «послеподписантский» (1973–1984). Они различаются и составом людей, игравших ведущие роли, и самим их репертуаром, и тематически, и, конечно, ценностно. Разными были их ключевые, «петушиные» слова: в первом периоде этим словом была «жизнь», «жизненно», во втором – «духовность», «культура».
«Жизнь» в первом случае была тотальной категорией, оппозиторной любому официальному и идеологическому доктринерству и утопизму, казенному скудоумию и комиссарскому нахрапу начальства, «волюнтаризму», как тогда говорилось. «Духовность» фигурировала скорее в литературных и литературно-критических кругах, позже – у почвенников, интуитивистов, еще позднее у тех, кто заговорил о «религиозном возрождении» и у национал-патриотов. За «культурой» стояли, напротив, значения символического многообразия, позитивного научного знания, эмпирически фиксируемых многообразных культурных традиций, западнического и либерального культур-антропологического отношения к прошлому или иным культурам, в том числе и потенции отстраненного взгляда на многомерность собственного общества. Различия этих периодов крайне значимы (может быть, это вообще разные фазы существования и даже типы интеллигенции), но нам важно здесь лишь наметить роли, которые складывались вокруг носителей этих значений, интеллигентских авторитетов.
Сама структура подобного авторитета и взаимодействия вокруг него и по его поводу состояла из набора элементов двух типов. С одной стороны, она содержала знаки официального признания и прикрепленности к официальной культуре или науке, с другой – пласт значений, отсылающих к области труднодоступного, неопубликованного, инокультурного, порой даже экзотического и устного по способу существования. Такими фигурами могли становиться сотрудники журнала или редакции, скажем, энциклопедии или «Вопросов философии», крупной библиотеки, академического института, архива (но практически никогда – по крайней мере, в центре, – вуза). Они в формах профессиональной специализированной работы представляли для более широких кругов интересующихся, учащихся и т. п. авторитет всей культуры, всей науки, знания как такового. Собственно, шкала вариантов здесь располагалась между полной официальностью хотя бы с некоторым оттенком либерализма (а потому – возможностью помощи в том или ином интеллигентском начинании) до полностью анонимного существования «научных сотрудников» или «референтов», работы под псевдонимом при запрете на публикацию в послеподписантские годы. Дозировка этих компонентов была, по условиям времени, достаточно тонкой, но для современников различимой, однако, опять-таки, не артикулируемой публично, письменно, а потому не дошедшей до нынешнего дня и слабо ощутимой сегодня.
Наметим некоторый (неполный) репертуар типовых ролей интеллигенции, характерных скорее для послесталинских десятилетий ее истории. Структура каждой из этих ролей задается принципиальной функцией опосредования, а специфически различающим моментом будет то, что опосредуется и в системе каких отношений, – кто те партнеры, между которыми действуют (мыслят) интеллигенты. Важно отметить, что среди этих ролей не было собственно инновативной фигуры. Функции инновации, смыслопорождения в культуре, в обществе практически не обсуждались. Мы не можем назвать сколь бы то ни было известного и авторитетного в любых кругах текста, в котором бы шла речь об инновации как таковой и связанных с ней социальных, психологических, культурных, экзистенциальных последствиях (фаустовская проблематика). Отчасти объяснением этого может служить апроприация семантики «нового» – мира, времени официальной идеологии. Но это лишь отчасти. Интеллигенция боялась – и боится – этой проблемы, даже ее упоминания, что и говорит о функции группы, о ее внутренней структуре. Даже при обсуждении инноваций в искусстве, последние лишались авангардистских значений (В. Маяковский, П. Пикассо, М. Шагал и др.).
Более официальный «край» привычного ролевого репертуара интеллигенции представляли близкие по функции типовые фигуры. Например, либеральный начальник, прогрессивный редактор, пробивающий-таки, несмотря на все препоны, «трудную» книгу, либо, наконец, приемлемый для «верхов», но и подходящий для «дела» именитый, а то и награжденный автор предисловия к полузапретному до недавнего времени философу, социологу, историку, писателю дореволюционному (но не классику), предреволюционному (но не «прогрессивному»), западному (но не прокоммунистическому) и т. д. Но искренне почитаемыми были другие фигуры – Учитель, Свидетель, Мэтр, Объясняющий, Знаток (искусствовед). Были и фигуры второго ряда: литературный критик, острый журналист, непубликуемый писатель, всезнающий библиограф («ходячая энциклопедия»), любитель и знаток редкого и малоизвестного, член кружка, в конце концов – «старший научный сотрудник». Речь идет именно о центрах интеллигентской культуры, ее держателях, несущих конструкциях всей культурной системы; более широкие круги, включая тех, кого А. Солженицын позже назвал «образованщиной», частично подхватывали, усваивали, даже подражали каким-то ее элементам, цивилизовались с их помощью (первые домашние библиотеки, портреты писателей, переписывание стихов и проч.).
Учитель – категория принципиальная, поскольку это, собственно, и есть интеллигенция в ее самопонимании и представлении другим. Это может быть и квалифицированный специалист, но в данном случае важны именно интеллигентские аспекты его роли: мудрость как ответ на «самые главные» вопросы, поучительность жизненной позиции, при которой знания выступают в функции примеров поведения, проникновения в глубину человека или историческую судьбу народов.
Мэтр, в отличие от него, не претендует на моральный или жизненный авторитет: он репрезентирует культуру как эзотерическое знание, соединяющее все со всем в некоем целостном и скрытом от непосвященных смысле. Отсюда – предельная высота его авторитета (или по крайней мере претензии именно на такой статус) и неоспоримость знания: оно не может подвергаться анализу и критике, не является предметом методологических посягательств, оно, в известной степени, неповторимо, невоспроизводимо.
Искусствовед (знаток всего: от истории литературы до сравнительного религиоведения) близок к нему, но не обладает его авторитетом, поскольку не притязает на всеобщее и полное знание, а представляет культуру как историю культуры, чаще всего – достаточно отдаленной и, как правило, не отечественной.
Объясняющий обладает ключами к пониманию современности (и это резко отличает его знания от ретро-спективизма или экзотики познаний остальных!), причем – закулисной ее стороны: политической интриги, скрытой статистики, «внутренней» мотивации действующих наверху – в политике, экономике, литературе – лиц. Его сведения либо по определению уникальны, либо не проверяемы, в любом случае – верифицировать, фальсифицировать его данные невозможно и как бы даже «неудобно».
Свидетель осуществляет еще одну принципиальную для интеллигенции функцию – соединения времен. Он либо патриарх по возрасту, либо «осколок» иного мира, другой культуры: или помнит эпоху до нынешнего ее состояния (до революции), или свидетельствует о предельном опыте (лагерь), или же доносит образцы инокультурного существования (Запад, вообще заграница – реэмигранты и др.), но в нынешней жизни, как правило, практически не участвует, даже противопоставлен ей, отдален от нее.
Строго говоря, во всех перечисленных случаях речь идет не о знании. Оно тут в принципе не рассчитано на проверку любого заинтересованного (хотя знаток может сказать себе или соседу: «туфту гонит!») и, что характерно, не фиксируется письменно. Мы здесь имеем дело исключительно с устным жанром, отсюда – ощущение его богатства для тех, кто внутри ситуации общения, но и сильнейшего обеднения при письменной фиксации (или превращении этих текстов в образцы, точнее сказать, препараты другой культуры, как, скажем, в романах А. Зиновьева). Отсутствие кумуляции, рефлексии, профессиональной специализированной дифференциации приводит к тому, что единственным видом слоевого или межгруппового интегрирования становятся различные формы внутренней театрализации коллективного поведения, саморепрезентации интеллигенции в так или иначе разыгрываемых ситуациях, объединенных сюжетом просвещения народа и власти, наследования и сохранения культуры. Согретое чувством взаимности, человеческой теплоты, сопричастности важному для тебя и близких тебе людей, понятно, не может быть нелепым и смешным. Однако оборачиваясь (а это для интеллигенции неизбежно) претензией на эзотерическое знание или руководство душами непосвященных, подобное поведение превращается в комичную демонстрацию собственной значимости с точки зрения Истории, будущего коллективного биографа, напоминающую стихоподобные тирады Васисуалия Лоханкина.
Но внутренним сюжетом этой «пьесы» является специфическая для группы форма редуцирования актуальности, проблематичности настоящего, для схватывания и понимания которой у интеллигенции нет развитых интеллектуальных средств. Сам способ представления реальности включает механизм отставания – как своего рода демаркационную черту, обозначающую «пространство группы», выстроенное и тем самым контролируемое ею. Интерпретация нового сводится к нахождению характерной обобщающей аналогии. Аналогия стягивает определенные, наиболее значимые для группы исторические эпохи или репрезентативные фигуры, подтверждая общую схему единого канонического представления о реальности. Образуется жесткая сетка сугубо оценочных понятий: собственно аналитическая работа с ними уже невозможна.
Так идет музеефикация современности. Соединяются значения нерушимой упорядоченности этого космоса, его архаизированной отдаленности, анонимности самого мыслительного пространства и принципов его систематизации, поскольку сами конвенции упорядочения реальности здесь не обнажаются, не рефлексируются, не подлежат публичному обсуждению. Выход за рамки актуальности стирает с «реальности» следы ее групповой обработки, придает ее конструкциям анонимный, само собой разумеющийся, «естественный» характер. Культура предстает в виде энциклопедии, нормативного словаря, а история – собранием биографий классиков или хрестоматийных героев как образцовых репутаций. По этому модулю идет работа и с самими понятиями – социальных или политических дисциплин, психологии либо антропологии, истории как науки. Аналитическая их потенция замещается функцией символического представления и демаркации. И объяснение, и преподавание строятся на символической репрезентации (персонификации) групповых ценностей. Разработка теории и методологии, разбор средств анализа отдельно от теоретических гипотез и исследовательских задач либо подавляется в порядке защиты от постороннего вторжения, от рационализации как введения чужой точки зрения, либо подчиняется той же архаизирующей логике, дистанцирования и группового контроля.
И внутригрупповые структуры социальности, и характер претензий на доминирование в отношениях с другими группами, на функциональную роль интеллигенции включают в себя представления о собственной культурной авторитетности, просветительском учительстве и миссионерстве. Так строится процесс социализации к групповым ценностям, а говоря шире – так действует вся рутинная система образования, основанная на подобной идеологии и воспроизводящая соответствующий склад мышления, сам человеческий типаж помимо тех или иных особенностей сознания и реакций его носителей. Аморфность интеллигентского слоя как раз и связана с тем, что структура воображаемых партнеров группы крайне бедна (она сводится к персонификации достижений в фигуре живого классика), а механизм консолидации заключается в прожективном представлении о будущем пантеоне или галерее великих покойников.
Сама музеефикация культуры («портреты в золоченых рамах») представляет собой компенсацию специфически советской беспамятности – придавленности, вытесненности, подцензурности ближайшего прошлого, прошлого родителей, друзей. Дело здесь не только в табуированности и страхе советского человека за свое социальное происхождение, отметку в соответствующей графе, но и в том, что кода, языка для выражения повседневной, частной жизни, «поисков утраченного времени» здесь не существует.
Структуру воспоминания задают формы «жития» – праздники, мучения и апофеоз святости, фигуры совести нации, специфически надрывная интонация преклонения или самозатаптывания. Не случайно социальные и исторические сдвиги всякий раз опознаются интеллигенцией как «возвращение памяти», читай – восстановление пантеона. В постперестроечную эпоху – при сохранении принципиально тех же структур идентификации – соответствующие механизмы установления дистанций, консолидации и т. д. выступили в перевернутом виде «чернухи», «стёба», «скандала», собирания и демонстрации компромата. Постперестроечная словесность, кино, театр фактически составили своего рода изнанку прежней, во многом официально принятой картины реальности, но не изменили самой структуры дискурса. Фактически каждый период существования послевоенной интеллигенции сопровождался интенсивным вторжением чужих языковых пластов. В конце оттепели это был язык лагеря, в конце застоя – жаргон хипсистемы, на исходе перестройки – язык западного либерального позитивизма (политологии, экономики и др.). Соединение таких разнородных и разнофункциональных языковых систем не могло осознаваться интеллигенцией иначе как задача чисто «стилистическая», то есть опять-таки – репрезентативная и демаркационная, не связанная с рационализацией интересов и условий существования, со смысловой и культурной инновацией. Возможности выйти в иную систему представлений о репертуаре предполагаемых партнеров, формах взаимодействия, мотивации и вознаграждения усилий для интеллигенции до последнего времени остаются ограничены типом полученного образования, признанным уровнем квалификации, принятыми формами публичной (печатной и др.) коммуникации.
Образование как статус и роль: паралич социальной дифференциации
Сегодня мы наблюдаем не просто субъективные затруднения ряда людей и связанные с этим чувства депрессии, фрустрации, растерянности и отчаяния, беспомощности и исторического тупика, но сход с общественной сцены, либо почти полное исчезновение целого слоя или социальной группы – специфически организованной и особым образом сознающей себя интеллигенции. Интеллигенция – атрибут тоталитарного общества, оказавшегося на пороге своего кризиса и последующего краха, общества, характеризующегося своеобразным «дефектом» его репродуктивных систем.
То, что не смогла решить интеллигенция и из-за чего последовал ее уход, можно назвать невозможностью институционализировать системы рационализации происходящего. Они включают: профессиональный анализ социальных составляющих (мотивации, интересов действующих лиц, потенциала поддержки и дисциплины), политического целеполагания и мобилизации (выработки позитивной программы политических изменений, целей, обеспечения последовательного повышения условий жизни или как минимум твердых надежд на это), и наконец, опираясь на это – технологии реформ и эффективного управления (национального государства, автономных институтов, новых форм социальной организации жизни).
Возможности интеллигенции в этом плане были существенно ограничены принятыми правилами социального продвижения и организации общества. Это предполагало, во-первых, полную или очень значительную показную лояльность к системе распределения кадров и их инстанциям, соответственно, ритуалы и критерии демонстрации подобной лояльности, а во-вторых, определенный, но не слишком высокий уровень компетентности и образования, поскольку большой (относительно среды – избыточный) ресурс знания потребовал бы соответствующих ценностей и мотивов их приобретения, а это уже грозило бы автономизацией и усилением функциональной дифференциации социальных ролей и статусов в организациях, в которых оформлялась общественная жизнь.
«Капитал образования» представлял весьма важный ресурс социального подъема, своего рода карьерный лифт в обществе, становящимся все более жестким и иерархическим. Поэтому и получение образования принимало все более формальный характер, поскольку ценилась возможность продвижения, «пропуск» к статусу, даваемая сертификатом вуза, а не эффективность или ценность достижения, личная производительность и успех. В итоге, к концу 1960-х годов общий уровень массы стал слишком высоким по отношению к реальной структуре экономического спроса и занятости, а элитный – слишком низким, если не сказать находящимся на стадии групповой деградации.
Характер подготовки и образования в стране был весьма специфическим. Он подавлял возможности интенсивного обучения – оно основывалось на овладении минимумом предметного знания в соответствующих областях. Система факультетов не допускала самостоятельности студента. Жесткие разделения между специальностями гарантировали массовое среднее качество образования и отвечали нуждам «практики», то есть тем требованиям, которые к вузам предъявляли властные инстанции, контролирующие функционирование приоритетных отраслей хозяйства и соответствующих бюрократических систем. А это означало, что особенности воспроизводства образованного слоя в условиях тоталитарного общества (только через государственные вузы по общим унифицированным или стандартным программам) предопределяли единые рамки и правила поведения, потолок аспирации и продвижения интеллигенции, формы взаимоотношений на работе в качестве служащих государственных контор.
Более высокий уровень квалификации и соответственно специализации в большей степени прикреплял образованного «чиновника» (вне зависимости от того, кто это был по характеру работы – литературовед, учитель, бухгалтер, начальник отдела в министерстве, инженер в КБ, технолог, сотрудник научно-исследовательского отдела) к своему «месту», чем у «рабочего класса», удерживаемого лишь такими благами, как квартира и т. п. Никакого выбора в модусе существования у образованного слоя не было и не могло быть – любая деятельность, требующая высокой образовательной подготовки, была государственно-институционализированной (необходимость в разрешении для работы в архивах, библиотеках, статистических службах, лабораториях, мастерских, школах, проблема публикации в широком смысле – допуска к журналам, газетам, экрану, выставкам и т. п.). Все эти справки, «отношения», дипломы, как и партбилеты, являлись формальной сертификацией квалификационного уровня, который, в свою очередь, означал свидетельство административно-бюрократической и социальной лояльности, разрешение на работу.
Первичное разделение шло между технической и гуманитарной интеллигенцией (в последнем случае степень идеологической лояльности могла быть существенно выше чисто профессиональных качеств индивида). Затем – дифференцировались круги с разными нормами и системами оценок и критериев:
а) официальные организационно-статусные системы признания;
б) внутрипрофессиональные нормы и оценки (неформальные структуры авторитетов и иерархия достижения);
в) публичные (система вторичных оценок в СМИ и печати, особенно в журналах), основанные на «общественности» поведения (социальной критичности, актуальности, озабоченности и т. п. идеологических моментах, связанных с внутренним самопониманием «общественности» в СССР, «интеллигентности»);
г) школьные, рутинно-общепринятые мнения и оценки (декларативно-публичная система представлений);
д) дефицитарно-повседневная система критериев и отношений, распределения авторитетов и ценностей в соответствии с массовой шкалой стратификации и «теневыми» структурами обмена и коммуникации.
Иначе говоря, «дифференциация» соответствовала довольно сложной (в силу нерационализированности, принципиальной неартикулированности, неформальности) системе оценок, в которой официальное или публичное признание крайне редко – практически только как исключение – совпадало с неформальным признанием избранных. Авторитет в профессиональном коллективе, среди коллег, в том числе и зарубежных, не гарантировал выхода к системе тиражирования и официального признания (что соответственно ограничивало возможности работы), и наоборот. Функциональный смысл каждой из этих подсистем или кругов отношений, социальных сред был вполне определенным и системнообусловленным, так что все в целом составляло своего рода компромисс или функциональный баланс между различными неартикулированными интересами и императивами разных групп. Требования самосохранения профессионального целого (в том числе – отстаивания профессиональных или групповых ценностей перед контролирующими или властными инстанциями) дополнялись критериями лояльности в отношении официальных идеологических органов. С другой стороны, интеллигентский этос (нормативную значимость которого не стоит ни преувеличивать, ни недооценивать) ограничивал избыток сервильности отдельных представителей группы, а дефицитарные структуры, с третьей, уравновешивали слишком высокую самооценку образованных групп.
Баланс этот не был слишком устойчивым. Общий потенциал напряжений и дисфункций возрастал, вызывая, в первую очередь, тотальную дискредитацию контролирующих структур и связанных с ними систем оценок и критериев. Однако вызванный этим разрыв между императивами поддержания образца (внутригрупповыми системами интеграции и иерархии), с одной стороны, репродуктивными задачами системы в целом, нуждающейся в ретрансляции отобранных образцов, и интересами сохранения властных позиций и организационных форм в советском обществе, с другой стороны, вел к хронической девальвации общеслоевых или общегрупповых ценностей и к коррозии социальных институтов, в особенности репродуктивных подсистем – образования в широком смысле (высшего в первую очередь). По мере роста этих напряжений усиливалась критико-идеологическая составляющая в интеллигентских настроениях, аморфная и диффузная поддержка оппонентов режима, а соответственно, все большую силу набирали альтернативные социальные структуры – самиздат, кружки, неформальные авторитеты, полуофициальные представители «общественности» в прессе и искусстве, зарубежные и эмигрантские авторы и публицисты, работающие в «тамиздате» и на «голосах». Чем дольше сохранялось это положение, тем ниже становились самооценки всего слоя образованных, их оценки другими группами, тем сильнее шло разложение советского общества в целом.









































