Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
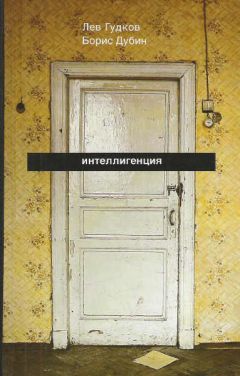
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Общество как старый дурак: феномен недореализованной модернизации
Для нас здесь важен один момент. Умение играть – не просто признак социального остроумия, социальной дееспособности и компетентности, но и симптом динамичности общества, его стабильности, «витальности», потенциала инновации и смысловой продуктивности. Когда говорят о необходимости рынка как экономической основы нерепрессивного общества, о свободе информации, политических представительских институтах демократии, о деньгах как всеобщих генерализованных посредниках, то как будто забывают, что сами эти структуры могут существовать лишь в определенном культурном контексте. Они немыслимы вне универсума многообразных и гибких социальных форм, неразрывны со способностью и возможностью желать, свободой достижения и умением хотеть, а не только предаваться мечтательным фантазиям.
Глупо представлять себе нашу жизнь навязанной кем-то извне и думать, будто всякая власть держится лишь силой, давежкой, террором. Любой социальный порядок (а тем более тот, который, меняясь, стоит почти три четверти века) соединяет самые разные основания своего приятия и поддержки. Он защищается и обеспечивается миллионами миллионов ежедневных действий каждого из нас вне всякого согласования с намерениями правительства или милиции. И понять это гораздо важнее, чем сочинить еще один план всеобщего переустройства или политической реформы. Воспроизводится этот порядок, среди прочего, и вещами далекими от политики или голосования за ту или другую партию – такими, как любовь, обращение к незнакомому человеку или школьный букварь. Наше антропологическое своеобразие, то, что составляет нашу суть, мы чаще всего и не воспринимаем как нечто особенное: оно малозаметно, естественно, само собой разумеется и даже не упоминается, не подлежит обсуждению (а что – разве у других иначе?).
Реакцией российского общества на стимулированную властью в своих собственных интересах модернизацию (частичную, направленную, форсированную) каждый раз было не только и не просто разрушение социально-сословного и традиционного уклада жизни. Столь же важной была адаптация к изменениям, при сохранении принципов организации социальной жизни – в первую очередь, иерархической модели взаимодействия как клеточки прочих отношений. Речь идет о патернализме как наиболее фундаментальной характеристике нашего общества.
Общество сегодня распадается на отдельные сферы или зоны, в которых действуют прежние нормы партикуляристской морали «наших» – этнически или социально своих, удерживаемых внутри границ группы или сообщества опять-таки лишь властью. Нет ни свободы ценностного обмена посредством чисто формальных средств – денег, ни единого информационного пространства, ни общего морального универсума, ни генерализованных символических значений, интегрирующих разнородные группы и образования в единое общество.
Особенность нашей культуры (причем наиболее глубокого пласта представлений о реальности, о человеческой природе, а соответственно о том, что должно или возможно, как поступать и чего ждать от других) заключается в том, что на все напряжения или изменения в истории она реагирует традиционализирующим образом. Инновация не вписывается до тех пор, пока не получает верховную санкцию или классическую маркировку от наиболее авторитетных смысловых инстанций – властных или подобных им, т. е. пока не будет «освоена» этим единственно возможным и понятным образом.
Мы живем в обществе несостоявшейся модернизации. Отсюда все «тайны нашей души», а фактически – закрытость и темнота происходящего для понимания теми слоями общества, которые как будто бы представляют собой наиболее квалифицированные интеллектуальные силы. Эти группы сегодня не в состоянии понять и анализировать суть накопившихся проблем и совершающихся событий, а потому объявляют собственную неспособность «загадкой». Накопившийся груз нерешенных проблем представляется им онтологической структурой русской культуры, якобы уникальной в этом своем качестве.
В конце концов, отношения господства-подчинения держатся на одном принципе – несимметричности субъектов подобного взаимодействия. Дело не в том, что кто-то целевым образом «давит» на нижестоящего, подчиненного. Вовсе нет. Отношения зависимости глубоко укоренены и осмысленны для обеих сторон, они воспроизводятся независимо от субъективных намерений участников – это единственная всеобщая форма в данной культуре, санкционирующая все прочие отношения. Лестница рангов неполноправия выстраивается там, где нет других оснований для выбора, для взаимодействия равнозначных (не равных, а именно равнозначимых) партнеров. Поэтому Россия не может выйти из круга представлений об обществе как системе исключительно сословно-иерархических отношений. И пусть этих отношений как сословных давно уже нет – остались их модели в виде структуры норм и санкций, правил и привычек. Вся русская культура строится на сублимации дефицита самодостаточности, свободы. Полнота самоощущения если и проявляется здесь, то чисто апофатически – через ее отсутствие, проективную тревогу и фантомную боль заведомой утраты.
И нынешние скулеж, тревожность, фобии, паника, равно присущие людям из разных политических и идеологических лагерей и партий, выдают гораздо более общие установки и самочувствие, чем какие-то частные разногласия во взглядах. Катастрофизм – оборотная сторона никогда не оставляющей советского человека веры в чудо. Подобная инверсия авторитарности, потребность в костылях любого освобождающего от ответственности авторитета осознается в категориях пассивности, «страдательности», любовно разрабатываемых национальной интеллигенцией. Однако катастрофизм, распространенный сегодня в первую очередь среди интеллигенции, может рассматриваться и как симптом ее конца, предчувствие и осознание ухода с общественной сцены, завершения периода или эпохи реформ, связываемых исключительно с трансформацией властных отношений. Истощается ресурс идеологии российской интеллигенции, ее картина реальности и истории, а вместе с тем – ее социальная роль в обществе, лишенном идеи свободы и автономности, идеи «культуры».
Речь сегодня идет о разложении институциональной (политической, экономической, культурной) структуры бывшего советского общества. Это не «революция» – стремительная смена власти и крах прежних структур. Это именно медленное разложение, т. е. процесс отказа, нарастание дисфункциональных явлений и признаков, потеря значимости прежних обязательных или образцовых норм поведения и взаимодействия, какими бы санкциями они ни гарантировались. В отличие от процессов общественной трансформации социальное разложение совсем не обязательно сопровождается возникновением новых форм, новых всеобщих и признанных правил поведения. Само слово «разложение» указывает на длительность, процессуальность совершающегося распада, рассогласование правил общежития и отсутствие их замены. Это мы и наблюдаем сегодня в сфере культуры, в области ценностей, идей, образцов и представлений о добром, вечном, прекрасном, должном, умном, равно как и в системе организации взаимодействия людей по поводу этих образцов.
Но всеобщее разочарование малостью реформационных результатов за год по-своему радует. (Гораздо больше пугало бы, иди реформы непрерывно, ломая одни социальные формы за другими.) Сама постепенность, рутинность разложения означает, что процесс изменений идет неуклонно, что вариантов или альтернатив чрезвычайно мало, а надежд на немедленное обогащение и завтрашнюю райскую жизнь все меньше и меньше.
И обычному наблюдателю на улицах крупных городов, и из социологических данных последнего года видно, что активнее всего начинают жить собственной головой и руками самые молодые. Молодежь и развитие как будто бы естественным образом связаны. Однако история нашего общества (как и других модернизирующихся стран) показывает, что это не так. Молодежная активность вполне может остаться чисто субкультурной или биографически фазовой характеристикой, а импульс к изменениям тем самым оказаться заблокированным, локализованным на определенных возрастных фазах. Тогда все будет гораздо печальнее. Речь пойдет не о разложении старой институциональной структуры, а о некрозе фундаментальных значений культуры. Стеб оказался бы в таком случае симптомом не перехода, а конца.
Устойчивость, бесповоротность и долговременность социальных изменений может обеспечить только перевод специфического импульса к переменам в институциональные формы, то есть упрочение социальной дифференциации, стабилизируемой умножением символических посредников между разными группами в обществе. При таком варианте развития, как показывает опыт Дальнего Востока, даже отсутствие собственных национальных элит не является препятствием модернизации. Контекстом процесса в этом случае служит уже все мировое сообщество с его внутренним разделением функций, где инновации (научные открытия, технологические разработки, культурные события) не ограничены национальными сообществами. Подобный процесс изменений по смыслу своему приобретает цивилизационный характер. Его временные рамки значительно шире какого-то одного поколения.
1993
Игра во власть: интеллигенция и литературная культура
1987–1989 годы со всей очевидностью вошли в историю отечественной культуры как «золотой век» «толстых» журналов – и ценностей, исповедуемых их постоянным читателем из образованных слоев общества. Если суммарный тираж книг вырос за это время всего на 5 процентов (а количество названий даже упало на 9 процентов, что, правда, более чем компенсировано качеством успевшего дойти за те годы до читателя), газет – на 21 (при увеличении их числа на 1 процент), то «толстые» журналы при росте количества изданий на 5 процентов подняли свой совокупный тираж почти в полтора раза.
Тех дней «прекрасное начало», однако, оказалось недолгим: уже с 1990-го тиражи прессы (и прежде всего ангажированной, идеологически нагруженной) стали чем дальше, тем быстрее скатываться к временам доперестроечным, а теперь, видимо, и к уровням, предельно низким для советской эпохи, – симптом перемен, в которых еще предстоит разбираться. Здесь нет возможности говорить о всех системообразующих элементах литературной культуры (профессиональных писателях, издателях, читательских кругах, подсистемах контроля, воспроизводства литературных стандартов, обучения им и т. д.)[17]17
Подробнее см.: Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Рейблат А. И. Книга – чтение – и библиотека: Зарубежные исследования по социологии литературы. М., 1982.
[Закрыть]. Выделим лишь ведущие: главенствующая концепция (или конкурирующие концепции) литературы, трактовка роли писателя, кристаллизация этих значений в системе жанров и формул литературного построения и, наконец, совокупность каналов и механизмов доведения до широкого читателя и признанных литературных образцов и стандартов их восприятия, оценки, обсуждения. Вынужденно отвлекаясь от тонких исторических различий (1930-х от 1950-х или же «классической» сталинской эпохи в целом от времени распада ее канонов в 1960– 1970-е), можно все же взглянуть на эту эпоху (от первых лет революции до разложения Союза) как на некое целое. Поскольку же оно не во всем доступно инструментарию эмпирического социолога, то приходится, так сказать, изучать организм по продуктам его распада.
И хотя речь пойдет в основном об идеологических аспектах социального бытия литературы (включая и идеологию отечественной модернизации, «особого пути» и т. п.), заметим, что воплощается эта идеология в вещах и явлениях вполне практических, затрагивающих интересы крупных общественных групп и повседневное существование миллионов людей. Здесь и профессиональная занятость в сферах литературного производства и тиражирования образцов (от типографий до библиотек и школ), и объем инвестиций и дотаций в эти сферы, и налоговая и тиражная политика, и подготовка и трудоустройство соответствующих «специалистов народного хозяйства», и т. п.
Понятно и то, что нынешнее положение и перспективы литературной культуры могут восприниматься целыми группами и слоями общества в апокалиптической тональности – в чем парадоксальным образом смыкаются вчерашние «руководители» и «деятели» культуры (с одной стороны) и иные из еще недавно противостоявших им «свободных художников» (с другой), вчерашние «левые» и сегодняшние «правые» и т. д. Вновь реанимируется в этих условиях и идеологема «Запада», с которым в соответствии с различными интересами и представлениями связываются то общецивилизационные значения «мирового», «нормального», «человеческого», то устрашающий и демонизированный образ будто бы грядущей «массовой культуры». Ощутима и ностальгия по «старым добрым временам», когда «было все» – от дешевой колбасы до дешевых книг (о цене этого мы еще поговорим).
Попробуем распутать этот сложный и болезненный узел проблем, начав с конца – с результатов деятельности всей литературно-пропагандистской системы, с ее воздействия на издательское предложение и на запросы и оценки широких кругов читателей.
На завершающем разломе 1980-х, обнажившем ее строение, панорама литературы в целом выстраивалась с этой точки зрения вокруг нескольких полюсов. Прежде всего это отечественные классики XIX века (и – более выборочно – несколько имен зарубежных классиков нового времени от В. Шекспира до О. де Бальзака), затем отечественные же «кандидаты в классики» на разных стадиях включения в пантеон (от А. Н. Толстого до уже входивших в школьную программу и «библиотечку школьника» Ю. Бондарева и Г. Маркова), к которым опять-таки весьма выборочно примыкали «прогрессивные зарубежные авторы» социально-критической направленности (от Т. Драйзера и Д. Голсуорси до Д. Олдриджа и А. Кронина). Определяющая черта этого массива авторов, произведений, стандартов оценки – их отнесенность к «классике»: общепризнанным писатель может стать лишь получив соответствующую квалификацию через причисление к традиции, авторитету, канону. Признание выражается в официальных символах (от барельефов А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, М. Горького и В. Маяковского на фасаде типовой школы до иерархии званий и наград ныне живущим), в частоте и тиражах изданий и переизданий («избранного», «собрания сочинений»), наконец, во включении в государственную систему массовой пропаганды и обучения (школьные программы, радиопостановки, кино– и телеэкранизации).
За пределами этой зоны государственно-массовой «классикообразной словесности» лежали еще два массива, объединяемых понятием «криптословесности» (и даже «криптотрадиции»). Первый – дискриминировавшаяся по соображениям государственной идеологии как «неполноценная» прежде всего в содержательности (и отчасти только – в эстетическом) плане словесность критического направления или нарочито иной эстетики. Сюда включались и предельно выборочно публикуемые авторы «серебряного века», и «полунепризнанные» советские литераторы либо отдельные их произведения (от М. Булгакова и А. Платонова до А. Битова и Ф. Искандера). Печатный массив таких текстов, незначительный по количеству названий и объему тиражей, сопровождался зато шлейфом нерегистрируемых изданий (рукописных, машинописных, ксерокопий самиздата и журналов и книг тамиздата).
Показательно, что в этом до– или постгутенберговом виде литература отличалась максимальным разнообразием имен авторов, названий книг, тем и жанров при минимальных тиражах, тогда как в официально одобренной словесности, напротив, небольшому и постоянно сокращавшемуся количеству авторов и названий соответствовали максимальные и год от года растущие тиражи издаваемого и переиздаваемого.
Второй «непризнанный» литературный массив – дискредитированная по соображениям собственно литературной идеологии «массовая словесность», жанровая и формульная литература – приключенческая беллетристика, детектив, фантастика, любовная мелодрама, историческое остросюжетное (и тоже мелодраматизированное) повествование на отечественном, зарубежном или экзотически-доисторическом материале. В подавляющем большинстве это была литература зарубежная, переводная. При скудости подобных изданий по количеству и их низких тиражах (в лучшем случае на среднем уровне государственно-декретированной словесности, но чаще намного ниже) именно они долгие годы выступали для широкого читателя предметом (и символом) самой острой и необеспеченной потребности, оставаясь хроническим дефицитом как на книжном рынке, так и в государственных библиотеках. Свой шлейф самодельных переизданий был и у этой литературы, входившей в обширный, но государственно не признанный материк массовой культуры, включавший разнообразные внегутенберговы формы бытования общецивилизующей словесности (от пособий по нетрадиционной медицине и сексуальной практике, домоводству и модам до трудов по религиозным вопросам).
Понятие криптотрадиции характерно для образованной публики (ориентирующейся на стандарты типа первоизданий более не перепечатывавшихся поэтов и прозаиков 1910–1920-х либо книг «ИМКА-Пресс» или «Ардиса»). Но с не меньшим основанием оно применимо и к кругу чтения широкой публики. По крайней мере именно такая структура литературной культуры стабильно выявлялась эмпирическими исследованиями социологов чтения.
В период с первой половины 1960-х и до первой половины 1980-х массив самых читаемых и вместе с тем более всего нравившихся произведений устойчиво включал в себя книги о Великой Отечественной войне, Гражданской войне и революции (как остросюжетные, так и без явно приключенческого сюжета), детектив, фантастику, книги «о любви» и «о селе», исторический роман.
В то же время желание приобрести книгу чаще всего декларировалось применительно к дореволюционной русской классике (Л. Н. Толстой, А. С. Пушкин, А. Чехов), признанным советским романистам (А. Н. Толстой, М. Шолохов, К. Федин, К. Симонов), зарубежным мастерам приключенческой словесности (Ж. Верн, А. Дюма, Д. Лондон, А. Конан Дойл, Ф. Купер). Желавших же приобрести (и реально купивших) книги поэтов начала века (А. Блока, М. Цветаевой, А. Ахматовой) или острокритическую прозу на современные темы (В. Быкова, Ч. Айтматова, Н. Думбадзе), по данным тех же исследований коллектива аналитиков тогдашней ГБЛ, было в 5–10 раз меньше. Еще ниже были показатели интереса к современным «проблемным» и «спорным» зарубежным авторам: для массового читателя их тексты, не отмеченные знаком классики и лишенные однозначных жанровых признаков, оставались непонятными и неинтересными. И если применительно к «серебряному веку» действовали, несомненно, еще и издательские «фильтры» (малое количество изданий и скромные тиражи), способные сами по себе снижать массовый спрос, то для отечественной «актуальной словесности» эти ограничения были все же заметно слабее.
Единой идеологией культуры, включая литературу, определялась и структура книгоиздания (соотношение нового и переиздаваемого, отечественного и зарубежного, приоритетных отраслей знания, тем, жанров, авторских имен). Расхождение и конфликт между классическим и массовым, «высоким» и «развлекательным» были одним из системообразующих моментов этой идеологии, отражающихся как в структуре книжного потока, так и в реальном поведении читателя (покупателя).
Возьмем, например, место иноязычной словесности в том образе мира и культуры, какой предлагала книгоиздательская практика. Во второй половине 1980-х СССР лидировал по количеству переводных изданий как таковых. Между тем переводы с основных европейских языков составляли меньше четверти их общего числа, остальные три четверти были переводами «внутренними», межреспубликанскими. Еще характернее, что в целом (по тиражам) переводные книги составляли в то время лишь 8,9 процента книжной продукции страны (во Франции на тот же период – 17,6, в Испании – 21,8, в Швеции – 28,8).
Другой пример – реакция читателей на книжное предложение государственной издательской системы, воспроизводившей ситуацию хронического дефицита. По данным опроса ВЦИОМ (1989), лишь 14 процентов населения не испытывало тогда трудностей в приобретении любой нужной ему книги. При этом по обычным книготорговым каналам к читателям приходило не более четверти интересующих их книг, за остальное приходилось переплачивать на «черном» рынке. 80 процентов покупателей приобретали по государственной цене русскую классику и современных авторов, пишущих на языке республики, где жил покупатель; так или иначе спрос здесь не превышал предложения. За самые же популярные книги и жанры (детектив, приключения, фантастику) тогда приходилось переплачивать, причем за каждую десятую книгу – втрое и более. Иначе говоря, население использовало предоставленную государством возможность покупать отечественную классику (пусть в ограниченных масштабах), а от аналогичной возможности применительно к современным национальным авторам, как правило, отказывалось (в пять-десять раз чаще, нежели в случае с классикой); зарубежная массовая литература приобреталась даже в тех заведомо затрудненных условиях и с немалой переплатой.
Некоторых пояснений здесь требует не столько противостояние интересов образованной публики и широкого читателя, сколько специфическая повышенная идеологизированность, внутренняя напряженность и антагонистичность образа культуры в целом.
Понимание словесности (идеология литературы), укоренившееся в наших условиях, тесно связано с содержательными и структурными особенностями и программами формировавшихся в советскую эпоху «элитных» групп, способами их рекрутирования и воспроизводства. Все это, в свою очередь, определяется базовым, структурным конфликтом отечественной модернизации – противоречием между мобилизационной программой («модернизаторской легендой») власти и ее традиционно патерналистскими притязаниями на монопольный контроль над всеми значимыми ресурсами общества, процессами социальной стратификации, механизмами целеполагания и смыслопроизводства.
В этом контексте и формировался социальный слой «советской интеллигенции». Если на начальной, «героической» фазе его образования требовались и выдвигались «фанатики», прокламировавшие демонстративный разрыв с традициями (не без воздействия левоавангардных групп в культуре с их подхваченными эпигонами специфическим эпосом), то на фазе второй, адаптивной и деловой, «нэповской», их заменили спецы, и прежде всего – зарубежные (что позволило Б. Эйхенбауму окрестить этот период «вторичной европеизацией»[18]18
См.: Эйхенбаум Б. В ожидании литературы // Русский современник. 1924. Кн. 1. С. 280.
[Закрыть]). В отношении же культурных традиций обряд ниспровержения «отцов» сменился инструментальной программой «учебы у классиков» – их идеологической диффамации при одновременном заимствовании стилистических приемов.
На реставраторской фазе, во второй половине 1930-х, потребовалось целое «идеологическое сословие»: делопроизводители, учителя, «инструкторы» по складывающейся новой идеологии, ее адапторы и ретрансляторы. Возникавшая в процессе передвижек и чисток, перевоспитаний и перековок структура нового социального целого нуждалась во всеобщей смысловой артикуляции и едином, общедоступном символическом обеспечении силами «новой интеллигенции государственных служащих с высшим образованием». Ее составили слои, подтвердившие свою лояльность перед державным целым и целиком зависимые в социальном положении и мобильности (весьма ограниченной) не от своих знаний, способности к инновациям или авторитета среди коллег, а от видов и планов власти. С одной стороны, этот слой наделялся символами престижа и общей обеспеченности (знаками демонстративного «доверия» власти). С другой, сохранялся жесткий идеологический и организационный контроль над социальными передвижениями образованных групп: признание давалось им в обмен на отказ от самостоятельной жизненной и профессиональной карьеры, от этики индивидуального риска, успеха и ответственности за свой выбор. Коллективная лояльность, приверженность групповым стандартам должного и достойного оказывалась более существенной характеристикой поведения каждого, чем индивидуальная осмысленность действия и способность следовать собственным ориентирам. Коллективный этос, возводящий в ранг доблести отказ от индивидуальной автономии, не только выступал средством блокировки общественной дифференциации, но и сдерживал, деформировал те самые процессы модернизации общества, инициативная роль в которых и служила основой собственной «легенды» самоопределения интеллигенции. Все это (независимо от личного желания или нежелания каждого члена образованного слоя) смыкалось с видами власти, ее практикой селекции кадров и контролем над процессами социальной мобильности, дифференциации общества, становления относительно самостоятельных кругов, слоев или групп – как в «центре», так и на «периферии» социума, при формировании своих элит в республиках, в процессах продвижения их в «центр» и т. д. Социальная диффузность формирующегося таким образом слоя выражала его несамостоятельность, неполноправность, а в культурном плане оборачивалась эпигонством.
Единство базового понимания литературы как «приговора» и «поучения», охватывающее отнюдь не только советскую эпоху, но смыкающееся и с идеологией литературы у «шестидесятников» XIX века, и стало выражением в сфере культуры специфического статуса, способов самоистолкования и воспроизводства того образованного слоя, который здесь кратко описан. Характерно, что по крайней мере с 1860-х принципиальная структура «мира литературы» в представлениях журнальных критиков и рецензентов Москвы и Петербурга – Ленинграда – Петербурга[19]19
См.: Книга и чтение в зеркале социологии. М.: Книга, 1990. С. 150–176.
[Закрыть] остается весьма стабильной и единообразной при всех – и каких! – социальных трансформациях (и культурных переломах, смене «натурального» состава писательского корпуса).
Ее нормативную основу, позднее ставшую ценностным эталоном, стандартом литературного качества, составляет специфическое для российских условий вообще, но достигающее максимальной смысловой чистоты, функциональности и безальтернативности уже в советскую эпоху образование – «классика». Она предстает как реестр фигур, текстов и норм их интерпретации, отобранных и препарированных (вплоть до отрывков и цитат) на самом высоком уровне общества, от лица его верховной власти, в расчете на практически всеобщую аудиторию.
Единство литературы в наших условиях становилось символом нормозадающего, вносящего иерархический порядок «центра» общества. Отсюда – и ориентированность на классику, и сама потребность в идее и образе классики. Она наделялась прежде всего интегративным социальным значением, соединяя символы различных групп и слоев общества с репрезентацией государственного целого и венчающей его верховной власти, – с этим связан ее державный и вместе с тем массовый характер. В претензиях на выражение всего социального целого именно искусством, и особенно – по российской традиции – литературой, преподносимой как рупор общественного сознания и выражение национальной истории в ее главных и глубинных моментах, новыми образованными слоями реанимировались «ядерные» значения дореволюционной идеологии русской литературы.
Одновременно реставрировались и некоторые компоненты самоопределения русской дореволюционной интеллигенции, включая «примерку» на себя самого этого понятия. В ходе встречных процессов – признания власти и признания властью – и понадобились, оказались функциональными представления о национальной классике, всемирной миссии русской литературы и другие символы национально-державной идентичности. Не случайно, что во второй половине 1930-х понятие «интеллигенция», прежде почти бранное, государственно реабилитируется (это обстоятельство нам напомнил Ю. А. Левада). Укажем лишь некоторые особенности его семантики и «нового» словоупотребления.
Во-первых, слово «интеллигенция» устроило обе стороны – и сам формирующийся под определенный социальный заказ слой, и его «заказчика». Практически никакого иного обозначения данного социального и культурного феномена нет и по сей день; иначе говоря, это означает отсутствие возможности рационализировать его существование и динамику в «открытой» культуре. (Позднейшее клише «образованщина» явно рождено в ходе внутрицеховой идеологической самокритики и борьбы, так и не выйдя в более широкую сферу словоупотребления.)
Во-вторых, заимствованное из XIX столетия понятие представляет собой в веке двадцатом заведомо диффузное самообозначение слоя, который в социально-структурном плане может быть описан термином «государственные служащие», а в культурном – как ретранслятор нормативных аспектов единой традиции, опосредующий отношения структур власти с широкими массами населения. Идеологизированное самоименование «интеллигенция» скрывает характерную двойственность социального положения данного слоя, фиксируя исключительно содержание его претензий словами «другого» (на чье наследие этот слой притязает) в перспективе «третьих» лиц (власти и ее идеологической проекции – «народа»).
В-третьих, сама идеологически нагруженная семантика слова «интеллигенция» предопределяет его использование то в качестве обозначения избранной группы лучших («святых» и «героев») как персонального, но деиндивидуализированного воплощения ценностных притязаний всей группы, то как характеристики любого представителя слоя вне зависимости от его личных достоинств или усилий, фиксируя тем самым групповую норму, отделяющую «нас» от «прочих».
«Прочие» описываются идеологически-сниженными обозначениями: либо «черни», «люмпенов», «быдла» (относительно масс), либо «чиновников», «функционеров», «бюрократов» (применительно к власти), по сути выступая негативными проекциями значимых для «интеллигента» инстанций самоопределения. Отметим, наконец, и заведомую моралистическую модальность подобных двузначных оценок и образов «себя» и «других» – непременную черту сознания и идеологии «смешанных», недифференцированных образований (в отличие от специализированных и автономных элит новейшего времени).
Именно социальная диффузность элитных групп предопределяет жесткую нормативность их единой культурной программы – типа «учения», однозначно исключающего альтернативные определения литературы и подавляющего практически любые автономные источники литературного – и вообще культурного – обновления (порождая вместе с тем и химерические «проблемы» «истинности канона», «подлинного наследия» и т. п.). Так, модельный для истории советской словесности процесс устранения самостоятельных литературных группировок и их печатных органов в первой половине 1930-х венчается созданием единой, централизованной административной структуры управления «литературным хозяйством» – Союза писателей. По сути, заново учреждается Литературный фонд, начинает работу Литературный институт. Курс истории отечественной литературы (и отечественной истории как таковой) включается в школьную программу, воссоздаются разнообразные академии, вводятся почетные звания и награды.









































