Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
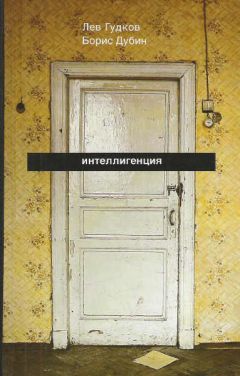
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Жизнь после жизни
Крах и уход интеллигенции были неизбежны, поскольку внутренний консерватизм слоя заблокировал все возможности его реагировать на усложняющуюся реальность, появление ко второй половине 1980-х гг. различных функциональных императивов развития, персонифицированных в тех или иных социальных силах, политических движениях. В первый период гласности через апелляцию к самым разным социальным субъектам и в форме осознания и представления их интересов были выдвинуты такие темы, как национальные отношения и понятие державы, рынок, демократия – как система выборной представительной власти и границы централизованного государственного вмешательства и планирования, изменения роли государства в целом, нерепрессивные формы воспитания и т. д. Характерно, что ни одна из тем, поднятых с началом «гласности», не перешла из интеллигентской публицистики, мобилизационной по своей функции и жестко-лозунговой по форме, зовущей к сплочению вокруг узкого спектра символов или жесткому противостоянию столь же узко понимаемым «врагам» (противникам перестройки и др.), в формы профессионального анализа, понимания, предвосхищения наиболее тяжелых последствий, их предупреждения.
Реакцией на возникающие в разных зонах конфликты стала не дифференциация разных позиций, учитывающих мотивы, интересы, природу разных социальных факторов, реальность их внутреннего мира, без чего невозможно стабильное партнерское взаимодействие, не выработка условий и форм компромисса, не технологическое освоение меняющейся ситуации гибкими интеллектуальными средствами, а демонстрация все тех же канонических лозунгов и заклинаний и удивление по поводу того, что они привлекают все меньшее и меньшее количество сторонников. По мере профессионализации наиболее дееспособной части интеллектуального слоя нарастало брюзжание, а затем и катастрофический тон у тех интеллигентов, которые были связаны именно с символической и имитативной интеграцией слоя – с занятиями литературой и искусством, включены в системы образования и рутинного воспроизводства. Неспособность к рационализации текущих процессов и соответственно – к выработке технологических решений актуальных задач порождала чувство беспомощности, культурного шока, переживания вторжения «чужого» – сил, субъектов, неподвластности событий. Характерно, что образованный слой сегодня, по данным социологических опросов, в такой же мере носитель ксенофобных реакций в отношении новых этнических групп в России и новых культурных персонажей, что и низкообразованная масса.
Длительное подавление механизмов рецепции ценностей других групп или культур ведет сегодняшнюю интеллигенцию ко все большему изоляционизму в любом смысле этого слова – социальному, интеллектуальному, культурному. Утрачивая одного за другим своих прежних и новых воображаемых партнеров – группы интересов или идеологических оппонентов, включая фракции во властных структурах, национальные элиты в других республиках, интеллектуалов Запада, молодежь и т. д. – и лишаясь наиболее дееспособных и критичных членов, интеллигенция все больше замыкается в себе, консервируя наиболее пассивный и инертный состав образованного населения. Понятно, что по своим характеристикам слой становится все более провинциальным в буквальном и переносном смысле, все более пожилым по возрасту и раздраженно-ностальгическим по самоощущению. Собственно культуротворческие, инновационные возможности этой группы всегда были не слишком велики, и не с ними были связаны ее социальное место, функции и притязания. Однако ее уход с общественной арены, подготовленный выравниванием уровней образования и образов жизни основной массы горожан, привел к утрате роли просветителей и воспитателей. Это сопровождалось одновременной эрозией социально стратифицированных авторитетов и соотнесенных с ними культурных и ценностных ориентиров, что оказалось особенно ощутимо в условиях, когда на сцену стали выходить новые, поднимающиеся слои населения, не обремененные необходимой цивилизованностью.
Будучи сформированными и социализированными в обществе, патерналистском и бюрократическом, но внутренне разлагающемся, а потому усиливающем видимый и демонстративный характер всех форм контроля, эти новые слои и группы, более молодые и потребительски ориентированные, нетерпеливые, отличаются специфическим комплексом агрессии и зависимости. Пережив опыт социальной жизни в закрытом обществе, где заблокирована социальная инициатива и открытые каналы продвижения, но можно использовать негласные привилегии, неформальные системы «блата», силового оттеснения от структур распределения, эти группы вместе с тем лишены каких бы то ни было представлений об авторитетности культуры, если она не имеет признаков репрессивности или связи с высокостатусным образом жизни. С наступлением горбачевских «свобод» и последовавшей за тем мощной волной политической мобилизации, возглавлявшейся интеллигенцией, эти слои, освободившись от комплекса поднадзорности, в целом на короткое время вполне одобрительно оценили наметившиеся идеологические сдвиги, однако сами по себе в социальном плане не были заметны, поскольку оставались политически пассивны и не ангажированы. Но со спадом политической активности и авторитета демократов, на обмелевшем дне политической жизни стали проступать контуры совершенно иного, нового и по возрасту, и по манерам, по аппетитам и нравам социального контингента. Он стал заявлять о себе как о политическом факторе с лета 1993 года, наиболее шокирующим образом проявившись на декабрьских выборах.
Собственно это обстоятельство (эффект Д. Галковского – В. Жириновского) и есть результат дефектного устройства и работы систем культурной репродукции в советском обществе. Фазовым выражением этой дефектности был сам феномен интеллигенции. Крах советского общества стал теперь фактом общепризнанным и очевидным (хотя легкость этого признания, в свою очередь, удивляет). Куда труднее согласиться с другим: что этот крах в значительной степени имеет пока лишь идеологический характер, поскольку сами структуры этого общества обладают колоссальной инерцией и адаптивностью, а это позволяет говорить о запасе устойчивости самих ценностных систем, матриц идентичности советского человека.
Понятно, что интеллигенция в том смысле, как она здесь трактовалась, не в состоянии не только рационализировать саму ситуацию социального перелома, тем более – трансформации общества, но и отрефлексировать ее, дать себе отчет о происшедшем, не говоря уж о том, чтобы наметить программу национального развития, эффективных реформ, или хотя бы дать слова дезориентированному обществу. Чем дальше, тем яснее, насколько она была связана со всей структурой прежнего общества, его идеологией и строем повседневного существования. Решать накопившиеся проблемы будут, видимо, другие группы и люди – иначе образованные, по-другому сознающие себя и мир, в котором живут.
1994
Изменения в массовом сознании: 1990–1994
Период 1990–1994 гг. вместил в себя по меньшей мере три или четыре фазы в динамике общественного мнения и политического развития, наполненных множеством радикальных событий в социально-политической жизни общества: два путча, либерализацию цен, серию различных выборов и референдумов с усиливающейся свободой индивидуального определения, распад СССР, ликвидацию основных тоталитарных институтов – компартии и КГБ, а вместе с ними и всей системы централизованной распределительной экономики и многое другое. Для понимания тех изменений массового сознания, которые произошли в это время, необходимо иметь в виду два обстоятельства. Первое – характер социально-политической мобилизации в 1988–1991 гг. и дальнейший спад активности, кризис доверия демократическим лидерам и партиям, а в более широком плане – фрустрированность и разочарование в связи с неоправдавшимися надеждами на новое патерналистское государство, состояние общей социальной дезориентированности населения, рост политической апатии прежде ангажированных слоев и групп. Второе – последовавшие за этим деградация, крах и уход с социальной сцены советской интеллектуальной «элиты» – массовой интеллигенции, являвшейся идеологом «демократических реформ сверху», а стало быть, и носительницей образования и «высокой» культуры, т. е. хранительницей политической мифологии просвещенной и разумной власти. Распад этого слоя стал условием детотализации образов реальности.
Специфический – катастрофический – тон истолкования действительности, характерный для прежних властителей умов, связан как с неспособностью к рационализации повседневных прагматических вопросов социальной жизни, так и с невозможностью перейти от критики и оппонирования старой системы власти (которые обеспечили социально-политическую мобилизацию) к профессиональной практической работе интеллектуалов. Деградация образованного слоя, оказавшегося в полной растерянности перед идущими событиями и винящего в этом единственно власти («чужая власть», как выразился Ю. Буртин), обернулась полной политической, социальной, отчасти – культурной, дезориентированностью массы, оказавшейся без целей, без авторитетов, без норм адекватной интерпретации реальности. Первой же реакцией на резкое усложнение социальной жизни, появление более сложных форм социальных связей, новых рыночных институтов, формирование системы негосударственных (не-бюрократических) отношений с культурой стали истерические протесты литературно-ангажированной общественности (как демократически, так и националистически настроенной): наступает конец тысячелетней русской государственности, времена социальной смуты и гражданской войны, распродажи национальных богатств, конец «духовности» (рынок губит культуру, в первую очередь – отечественную, разрушает творческую мотивацию, развращает и портит молодежь) и проч. Как писала критик А. Латынина, мы не можем отдать коммерции право определять, кто достоин патента на благородство, а кто нет.
По существу, за противодействием интеграционным механизмам рынка лежит страх перед собственной неконкурентоспособностью и ненужностью, угрозой остаться без государственных субсидий, но выражается это в алармистских формах гибели отечественной культуры, не могущей выстоять перед валом массовой западной (иногда – американской) торгашеской низкопробной культуры, соответственно, в необходимости ее защиты, государственной поддержки и проч., то есть в усилении дихотомии «свое-чужое», росте изоляционизма. Отсюда – акцентирование значения классики, сохранение дидактической политики, то есть всего того, что привело к застою и деградации в сфере культуры уже в брежневские времена.
Крах авторитета носителей культуры оборачивается ростом нигилизма и демагогии самого разного плана – от националистической или религиозной до экономического аферизма. Сложилась своего рода спираль популистской самоиндукции – нестабильная власть (властные клики в руководстве) чисто в электоральных соображениях ориентируется на низовой и консервативный уровень массы, а реагирующие на власть СМИ, в особенности – ТВ, начинают тиражировать наиболее катастрофические и сомнительные представления (об угрозе кавказцев, распродаже национальных богатств, всеобщем обнищании, вале преступности, угрозе русским в других республиках, всеобщей продажности, заговоре западных стран против России и проч.), что в свою очередь получает уже санкцию высшей авторитетности в массовом сознании, обретает тем самым полноту социальной реальности. Однако не следует переоценивать значимость подобных настроений в массовом сознании. Без всякого сомнения, они довольно широко распространены благодаря тиражированию их средствами массовой коммуникации. Но характерная структура двойственности посттоталитарного сознания, массового двоемыслия (при которой один слой образуют институционально репродуцируемые значения и символы, представления о коллективной общности и идентичности, лежащие в плоскости декларативных действий, выражения лояльности репрезентирующим их структурам власти и государства, а другой – аморфные, диффузные, алогичные и некодифицированные ценности и представления повседневной и частной жизни, определяющие коды реального поведения) дезактивирует эти тревоги и фобии, сохраняя их за сферой собственно «политического», лежащего вне интересов «частного» человека. Согласно данным исследований ВЦИОМ, разрыв в уровнях негативных оценок положения дел в стране и в собственной семье достигает двукратных величин.
Подчеркивая авторитетность классики (своего рода ресурса авторитетных культурных санкций национального государства, а тем самым и сложившегося социального порядка, обеспечивающей его массовой бюрократии), интеллигенция тем самым сопротивляется тому, что функции задания образца принимает на себя в этих условиях массовая культура, а стало быть, и рынок, демонстрирующие достижительскую индивидуалистическую мотивацию и этику, другие модели поведения, потребительские ценности и модели жизни. Отчасти же нормозадающие образцы представляют нижележащие уровни культуры (традиции, мифы, предрассудки и проч.), что, соответственно, повлекло за собой совершенно определенные последствия – негативный опыт социальности, агрессивный популизм, подъем патерналистских ожиданий, ксенофобию в самом широком плане – от шовинизма до подозрительности в отношении потребительских товаров, и уравнительные претензии.
Иными словами, в ситуации политической демобилизации, спада включенности (а тем самым – и кризиса патерналистского сознания, ожиданий позитивных изменений от попечительской власти как единственного источника благ и улучшений жизни), а вместе с тем – и конца единых, контролируемых и мобилизующих средств массовой информациии и коммуникации, эрозирует, а затем и исчезает единая и авторитетная система задания образца, единая структура авторитетов, мнений, представлений, оценок и проч. Происходит самокапсуляция, самоизоляция образованного слоя. Чисто фактически и феноменально эти процессы выражаются как деградация всей централизованной государственной системы культуры и пропаганды. Так, число читателей в массовых библиотеках из-за хронических «ножниц» спроса и предложения имеющейся литературы сократилось за 1980–1993 гг. на 26 процентов (настолько уменьшилось количество самих библиотек, причем, именно там, где действительно, а не по ведомственным отчетам, имелась среда чтения, то есть в городах; сельские библиотеки сохранились в том же количестве). Общие тиражи журналов упали за три года в 12,3 раза, газет – в 2 раза, книг, издаваемых в государственных издательствах, на 37 процентов (в сравнении с 1980 г. объем выпуска книг сократился на 47 процентов, с 1990/93 – на 63 процента). Однако число ТВ-компаний к 1993 г. с 90 в доперестроечные времена (в соответствии с числом областей и немногих центральных программ) увеличилось до 600–650: точные данные привести затруднительно, поскольку постоянно меняется численность небольших частных телекомпаний, опирающихся, главным образом, на кабельные сети.
Об этом же свидетельствует и хроническая (начиная с середины 1960-х гг., но особенно увеличивавшаяся в последние годы) диспропорция в оплате разных секторов народного хозяйства. Так, работники культуры и образования получали в 1990–1994 гг. примерно 48–61 процент от средних величин заработка по хозяйству в целом. Врачи (средний медперсонал) – от 60 до 75 процентов, научные работники – от 65 до 76 процентов. (Для сравнения: в строительстве – от 126 до 144 процентов, финансах, которые всегда были сферой низко оплачиваемой, – от 140 до 236 процентов, в госаппарате – от 118 до 136 процентов.)
Другим показателем кризиса и деградации сферы культуры стало падение престижа высшего образования, подготавливаемого ценностным переломом конца 1970-х годов. Прежний авторитет высокообразованного слоя и самого образования как такового был связан с тем, что получение высшего образования было своего рода гарантией более высокого социального статуса, поскольку другой сферы приложения образования, как та или иная сфера государственной службы, карьеры бюрократа (в производстве, культуре, медицины, управлении и проч.), просто не могло быть. Разложение же тоталитарной системы и формирование дефицитарной – параллельной официальной – системы приоритетов и престижей, основанных на неформальных структурах распределения, услуг, производства, потребления, существенно обесценивало иерархический статус образованных. Число студентов за 1976–1994 гг. сократилось на 17 процентов (в абсолютных числах), а по удельному весу на 22 процента; учащихся техникумов – соответственно, на 25 и 30 процентов; это при том, что доля населения, занятого в образовании, науке, культуре, искусстве, здравоохранении в последние годы постоянно росла – соответственно: 1975/76 – 16,3 процента, 1980/81 – 17,1 процента, 87/88 г. – 18,0 процентов, в 1990/91 – 19,4 процента, в 1993/94 г. – 20,5 процента.
В результате дискредитации и разрядки потенциала ценностной значимости культуры и образования, системы их репродукции, а соответственно и символов этого рода (например, литературной классики) имела место массовая дезориентированность и апатия, проявляемая в отношении ключевых и наиболее значимых ранее институтов и ориентиров. Но ценностный вакуум – вещь немыслимая в социуме, поэтому падение прежних структур при отсутствии значимых новых привело к тому, что источником образцов и оценок стали, в разных планах, сфера повседневности, частного существования, семьи. Резко сузились для массы населения социальные горизонты существования, более того, они дифференцировались в зависимости от того, какие каналы структурировали повседневность, на чем она держалась, какие модели массового поведения акцентировались в той или иной группе или среде.
Это означает, что сама социальная организация общества советского типа выступает в качестве фактора консервации. В силу этого изменения могут накапливаться лишь в качестве немаркированных, незначимых, незамечаемых отклонений от нормы, официально принятой или одобренной в культурных структурах интеллигенции (то есть быть аккумулируемыми в субкультурной, например, молодежной среде, либо быть отмеченными в качестве характеристик низкостатусного существования – толпы, мещанства, потребительской массы, которым присущи дурные вкусы или непросвещенные, низменные запросы). Либо же сами изменения принимают поколенческий характер, когда сменяется целиком вся группа носителей, либо же, наконец, изменения могут иметь место только с началом разложения самой структуры общества. В принципе, мы имеем дело со всеми тремя обстоятельствами.
В советском обществе отсутствовали собственно инновационные группы, элиты, задающие новые образцы, экспериментирующие с реальностью и создающие образцы нового опыта. Образованный слой, сложившийся во второй половине 1950-х годов, обеспечивал функции расширенного воспроизводства первичной модернизации – просвещения, начальной экстенсивной индустриализации, ретрансляции и адаптации зарубежного технологического опыта, массового управления в условиях информационной и социальной закрытости и жесткого идеологического контроля (усваивались в первую очередь технологии, и лишь затем уже некоторые препарированные и отобранные собственно культурные образцы). Основные задачи интеллигенции заключались в обслуживании и легитимации существующей системы власти и социальной организации – на это была направлена деятельность структур СМИ, пропаганды, образования, культуры, идеологического и иного контроля.
Схематически можно выделить три типа реакций на происходящие изменения в зависимости от доминирующего в группе психологического состояния, тона и оценок действительности. Каждый из выделенных здесь типов, по существу, представляет собой фазу модернизационного процесса, поскольку эти реакции неодинаково распределяются в общем социальном пространстве. Полярные значения концентрируются, с одной стороны, в сельской среде и малых городах, где практически без изменения сохранилась советская организация жизни, существовавшая ранее повсеместно (распределительная экономика, ограниченное пространство выбора и достижения, уравнительный характер оплаты труда, всевластие прежнего советского или партийного начальства, контроль местной администрации над органами информации, прессой и проч.), образованная молодежь и квалифицированные специалисты в высокоурбанизированных средах, в принципе ориентированных на западные стандарты жизни, с другой.
Для старшего поколения, период социализации которого пришелся на военные или послевоенные годы, характерны настроения доживания и усталости, полного отторжения от происходящих изменений. То, что составляло сферу идеологически сакрального – культ революции и ее вождей, мифология советской власти, героика индустриализации и Отечественной войны, весь изолированный космос советского существования, – все это сегодня не просто отторгнуто другими поколениями и самой властью, но подвергается непрывному поношению и разоблачению. Для пожилых людей окончательно утерян смысл происходящего, большая их часть могут в целом позитивно или негативно относиться к реформам, либо рассматривать их как катастрофу, но общее ощущение социального слома и собственной ненужности ведет к тоскливому ожиданию своего ухода из жизни, ее несправедливости и безнадежной мучительности. У поколения в целом нет не только чувства «полноты и насыщенности своей жизни» (библейского «…трудами и днями своими»), но усиливаются, напротив, острая обида и растерянность внезапной ненужности и необеспеченности жизни для поколения победителей, которым официальная брежневская пропаганда сулила под конец лет покой, славу, всеобщее уважение и благополучие. Для этих людей уже невозможно ни приспособиться, ни принять условия и вызов новой реальности.
Более острые переживания, причем самого разнообразного спектра – от фрустрации и рессантимента до апатии или регрессии, присущи поколению 1930– 1940-х гг. рождения, людей, социализированных в 1950– 1960-е годы, переживших в хрущевскую оттепель первый вздох облегчения после сталинского страха и брежневский бесконечно тянувшийся застой. Это поколение, не имевшее идеологической целомудренности советской героики, со времен Чехословакии или Афганистана осознавшее тупик коммунистической системы, но не знавшее, как из него можно выбраться, больше всего на свете хотело спокойно жить, не напрягаясь, не требуя чрезмерного по советским масштабам, переживая свой комплекс неполноценности перед воображаемым Западом, стыдясь перед отцами открывающегося убожества страны во главе с впадавшими в старческий маразм генсеками. Ценностный перелом, пришедшийся на середину 1970-х годов, захватил весьма важные сферы – потребительские стандарты, мораль, даже социальную антропологию, поскольку разложением оказалась захваченной и структура представлений о возможностях человека, его природе и границах допустимого (опыт репрессий, усвоенный им, показал, что таких границ нет, и меньше всего это поколение хотело бы опровергнуть эмпирически этот тезис). Но при этом основная структура ожиданий и представлений о социальной организации общества осталась почти той же самой, что и у предшествующего поколения – неприемлемым казался лишь вынужденный потребительский аскетизм, эксплуатация общества государством. Именно неприятие этих обстоятельств, сознание патологии существовавшего на тот момент коммунистического режима (но не советской системы как таковой) обеспечили мобилизацию в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Под влиянием интеллигенции оказались более ангажированные слои и группы населения мегаполисов, а также образованная молодежь.
Важно подчеркнуть, что с падением значимости центральных интегративных представлений, задававшихся «высокой культурой» и интеллигенцией, влиявших в ситуации мобилизации на СМИ, а значит на потенциально дееспособную часть массового сознания, усилилось влияние повседневных представлений и казавшихся само собой разумеющимися воззрений, вкусов, мнений. В этом случае механизм репродукции представляет собой не институциональные способы передачи культуры или воздействия на мнения обывателей, соответственно, не дифференциацию позиций в соответствии с теми или иными структурами интересов, а различные формы взаимного отталкивания, дистанцирования различных поколений или социальных групп, опирающийся на более определенные в этой ситуации формы отказа от прежних ценностей. Другими словами, в той ситуации неопределенности и дезориентированности более важными оказываются не позитивные ориентиры или образцы, тем более – модели действия, а неприятие, нежелание жить так, как жили раньше. В этом смысле более существенным становится механизм трансляции ненакопления, невоспроизводимости прежних стандартов жизни, удерживающий от простого повторения прошлого. Понятно, что отталкиваются в первую очередь от негативного опыта своих родителей и их стандартов жизни и благополучия, тогда как позитивные моменты воспринимаются и аккумулируются в качестве естественных и нерефлексивных стандартов поведения и существования.
Так, среднее поколение (люди 45–55-летнего возраста) приняли как норму необходимость избавления от хронического социального страха перед репрессиями, ценности стабильности, частного (и благополучного именно в качестве частного) существования, ожидания пусть медленного, но устойчивого и гарантированного всем социальным порядком роста потребления. Однако само это отталкивание задает лишь ретроспективные ориентации; при этом не возникают новые модели поведения и понимания реальности. Поэтому поколение, поддержавшее смену социально-политического режима, оказалось плохо подготовленным, если не полностью неспособным к принятию новых социальных форм и ценностей, которые несла с собой рыночная экономика (терпимость к неравенству, активизм, индивидуализм, свобода и прочее). Это поколение требовало попечительства «хорошей власти», гарантий на пусть и невысокий, но повышающийся уровень материального благополучия, социальной защищенности и стабильности. Новые же условия жизни выбили у этих людей всякую основу для спокойной уверенности в завтрашнем дне, более того – поставили этих людей перед ужаснувшим их фактом, что времени адаптироваться к новым условиям у них уже нет. Отсюда – именно это поколение сегодня испытывает наиболее тяжелые формы кризиса самоидентификации, культурного шока, перегружено различными видами социальной подозрительности, ксенофобиями и этническими антипатиями в отношении «чужих» (как этнических инородцев – например, кавказцев, цыган, прибалтов, так и тяжелыми неврозами и страхами перед мировым заговором других держав в отношении России, русской культуры, национальных богатств и прочего, перед новыми социальными персонажами – например, мифом «новых русских» или предпринимателей, мафии). Волна политического возбуждения, носителем которой было именно это поколение (а не молодежь и не старики), оставила после себя в сознании невроз национальной или социальной несостоятельности, стремление к изоляционизму, комплекс неполноценности и остаточного высокомерия, характерного для наследников великой державы.
Лучше всего – более уверенно, оптимистично, позитивно – чувствуют себя молодые люди, особенно мужчины с высоким уровнем образования. Сегодняшний день – это «их время», время открытых возможностей, интенсивной работы и высоких заработков. В своих потребительских запросах они ориентируются на Запад и соответствующие нормы трудовой достижительской мотивации. Это поколение прошло свой период социализации в момент острого разложения или краха системы, отчасти даже позже. Поэтому для него ситуация деидеологизации и краха культуры патернализма (в любом виде) – естественна и самоочевидна. Для них прежняя иерархия классикалистской и авторитарной культуры почти не значима. Революция рока, молодежной субкультуры задали новые ценности, новые ориентации на западную массовую культуру и отечественные маскультурные образцы (в ТВ, рекламе, попсе), активность, достижительность, успех, продуктивность, иные рамки соотнесения. Вместе с известным упрощением картины реальности, снижением порога рефлексивности, рафинированности повседневности, которые были характерны для образованного слоя раньше, произошло громадное в сравнении с предшествующим временем высвобождение энергии для работы, мобильности, свободы, нескованности в общении и оценках.
1994









































