Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
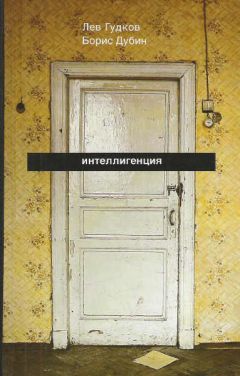
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Параллельно этим процессам «протезирования прошлого» адаптируется и переосмысливается (вслед за понятиями интеллигенции и классики) гётевско-гердеровское представление о «мировой литературе», столь же решительно институционализируемое – открывается Институт мировой литературы, начинает выходить журнал «Интернациональная литература». «Центр» культуры, по правилам классикалистской идеологии («translatio imperii», за которым следует «translatio studii»), «переносится» на этот раз в Москву. Собственно советская (точнее, утверждаемая в качестве таковой) литература нормативно ограничивается эпигонским соединением ставших уже рутинными компонентов «классической» характерологии и поэтики (приемов Льва Толстого – через вчерашних опоязовцев, достижений западного «буржуазного реализма» – через Д. Лукача) с базовым сюжетом – траекторией приобщения героя к символам и значениям социального целого, венчаемого властью. Так складываются литературные репутации А. Н. Толстого, А. Фадеева, Л. Леонова и других советских классиков первого призыва с их (учрежденными тогда же) премиями и т. п.
Само представление о классике в таком смысловом наполнении и социальном контексте в корне отличается от западного. В европейской традиции классика выступает символом вовсе не государственной принадлежности литературы, а, напротив, – ее самодостаточности (автономная литература есть в этом случае выражение автономии личности). Понятие «классического» в новое время не случайно складывается в ходе становления самостоятельной писательской роли и эмансипации литературы от любых «внешних» по отношению к ней функций (а если говорить шире – в рамках становления современных развитых обществ и секулярной письменной традиции, воплощенной в программе культуры, не сводимой к социальным проектам и не поглощаемой религией).
Если в европейских контекстах классика и наделялась нормативной значимостью, становясь символом национально-культурного целого, то, по-видимому, лишь в специфических условиях запоздалого строительства национального государства – в Германии 1870-х–1890-х, при характерном усилении ксенофобских (прежде всего антифранцузских и антисемитских) моментов («Немецкий император на троне, немецкие классики в шкафу»). Но и там определяющей оставалась связь понятия классики с идеей и программой культуры, не терявшей своего специфически гуманистического смысла. При всех различиях в ситуативной интерпретации классика трактовалась как символ самоценности личности и культуры и в винкельмановском понимании отстоящего во времени идеала античной древности (а он был положен в основу педагогической трактовки греческих и латинских классиков в поствозрожденческой и постреформационной Европе); и в обобщенном значении «образцового в своем роде» у Сент-Бёва; и в качестве выражения единства европейской культурной истории от Вергилия до классицизма XVII–XVIII веков, общего смыслового фонда идей и символов (Т. С. Элиот); и в значении уникального единства нормативного и исторического, выступающего предпосылкой и горизонтом любого понимания (Г.-Г. Гадамер).
Образу Запада в российской традиции присущи прежде всего двойственность, амбивалентность его оценок и прикладная, инструментальная подчиненность его роли в структуре самоопределения отечественных элитных групп – структуре, которая выстраивается вокруг значений господства (хотя бы лишь морального), доминирования, а отсюда – воспитания, поучения и т. д. Можно сказать, что в этом образе воплощается базовый конфликт – или разрыв – в системе самоидентификации данного слоя. Запад как символ самой интеллигенции выступает воображаемой инстанцией признания и авторитета, а не просто источником недостающих идей, символов, техник. С другой стороны, Запад трактуется как всего лишь предыстория, из которой необходимо отобрать те моменты, которые утверждают легитимационную легенду власти. Соответственно, претензия на наследование (ощутимая и в отечественной трактовке «мировой литературы») выступает здесь демонстрацией превосходства, а в результате жесткого отбора «народного» («реалистического», «прогрессивного» и т. д.) в корпус выдающихся представителей зарубежной словесности прошлого и настоящего включаются именно те и именно так интерпретируемые авторы, которые «разрушают», ставят под вопрос, подвергают критике автономные значения западных ценностей, образа жизни и т. д.[20]20
Параллельно складывается соответствующий репертуар ролей в рамках системы литературного взаимодействия: зарубежный автор выступает «великим гуманистом Запада» (Джордж Бернард Шоу или Ромен Роллан), «убежденным антифашистом» (Анри Барбюс или Жан Ришар Блок), «коммунистом» (Альберт Мальц и т. д.). Выстраиваются и коррелятивные им образы отечественных писателей – от «буревестника революции» и «наследника гражданских традиций русской литературы» М. Горького до послевоенных «посланцев мира» Н. Тихонова и И. Эренбурга. Меняется «географическая адресация» этих образов: скажем, отечественные авторы в своих апелляциях, обращениях, поездках и др. с годами все больше переориентируются с Запада (отсюда их вытесняют сначала диссиденты, а потом – почвенники) на Восток, с Северной Америки – на Южную и т. д. А под все это формируются стандарты оценок литературы, идет повседневная селекция и цензура образцов, кристаллизуются роли критиков-зарубежников, которым только и «положено» говорить о «спорных» авторах, пишутся статьи, монографии, учебники – работает система.
[Закрыть] Остальное маркируется как «реакционное», скомпрометированное и идейно («прислужничество») и художественно («потакание низким вкусам»). Любопытно, что обличению подвергается как сама идея автономности литературы, так и идеологически акцентируемая «зависимость» западных писателей от власти, денег, публики. Воплощением всех этих характеристик выступает «массовая», «коммерческая», «развлекательная» культура Запада.
Важно подчеркнуть, что перечисленные признаки образа Запада не рядоположены. Скорее это разные по адресации и функции элементы сложной, стереометрической структуры самоопределения отечественных образованных слоев, к тому же отягченной напряжениями и конфликтами. В представлениях о развитом и прогрессивном Западе при этом кодируются собственные самооценки группы, выступающие моментом ее внутренней консолидации, ценностной основой ее притязаний на значимость и статус. В семантике же реакционного и коммерческого, развлекательного и массового воплощаются представления о социальных «других» – и прежде всего «народа», увиденного глазами «власти». Это то, на что набросится народ, если его не будет воспитывать интеллигенция и держать в строгости власть.
Из всего разнообразия зарубежной словесности годными «для народа» признаются преимущественно образцы явно «социализирующих» жанров с характерным ореолом возрастного (а стало быть, преходящего, фазового) – детского или подросткового. Эталонным с подобной точки зрения по суммарной тиражности и по семантике образцов книжным массивом выглядит подростковая приключенческая литература, несущая в наших условиях все те же антибуржуазные (и в этом смысле антизападные и антисовременные) значения – прежде всего сочинения А. Дюма. Кстати, лидером книгоиздания по тиражам в 1970–1980-е годы выступала русская сказка, а в массиве детской литературы сказки лидируют абсолютно. По данным регионального опроса ВЦИОМ 1989 года, их желали приобрести прежде всего родители в Казахстане, тогда как в Эстонии они предпочитали справочники и энциклопедии, пособия по любительским занятиям, книги о природе и животных.
Если же взглянуть на всю совокупность адаптируемых и тиражируемых образцов как на условное целое «зарубежной литературы», то в ее сюжетике и семантике можно увидеть воплощение характерной коллизии интеллигентского самоопределения: требования идеологической лояльности сталкиваются здесь с кодексом личной чести и отваги (А. Дюма, Д. Лондон), жажда приключения – с проблематикой индивидуального краха, историей неуспеха (социальный критицизм от Э. Золя до Т. Драйзера).
Воображаемое разрешение подобных коллизий обнаруживается в специфическом механизме литературного поведения образованных слоев – «двойном прочтении» текста. Применительно к зарубежной словесности такой основополагающей стратегией стала аллегоризация. Социально-критическая словесность, вводимая в обращение и тиражируемая как удостоверение интеллигентской лояльности к власти (литература «про них», про «язвы Запада»), читалась, рецензировалась, ставилась в театре и кино почти как «литература про нас». Но именно почти: ощущалась тонкая, но запретная для перехода грань между допустимым обобщением в соответствии с нормативной эстетикой реализма (или «революционного романтизма») и прямыми аллюзиями в адрес здешней власти или отсылками к современным обстоятельствам. Этот резерв истолкования (и самоинтерпретации) служил для образованных групп механизмом адаптации к отечественной модернизационной модели, тактикой выживания в условиях контролируемой разрешенности.
Можно, видимо, говорить о целом наборе такого рода «рессорных» механизмов, «вторых» (запасных, резервных, аварийных) кодов самопонимания, структурирующих и поддерживающих сложную систему социального приспособления – «двойное прочтение»; жизнь «частного человека» (в отсутствие подлинной «privacy») с его хобби, любительскими занятиями и т. п.; поведение «на отдыхе» (включая чтение детективов, дамского романа и экзотико-приключенческих книг «для разрядки»); наконец, ночное чтение запрещенной словесности сам– и тамиздата (а утром – на службу!). Подобные криптотрадиции усиливали внутреннюю сплоченность группы в сложной игре то дистанцирования, то сближения – с «властью», с «народом», с «Западом».
Двойному толкованию подвергалась и классика. Сложилась своя система условностей и допусков в аллюзивном прочтении, осовременивании и эзоповом изложении классики на сцене и на экране. Автономные значения, исповедуемые авторами, включенными в классический пантеон, считались несущественными и как бы несуществовавшими, казались непроблематичными и неинтересными и образованному читателю и профессиональном интерпретатору (более того, классики в глазах и того и другого постоянно «ошибались» и «не понимали»). Реальной же ценностью при таком прочтении наделялось «запретное» – значимое в рамках «легенды» интеллигенции и прочитываемое ею с помощью кода власти. Оно же, но вынесенное на публичное обсуждение, и пресекалось как покушение на национальные святыни (напомним лишь о восприятии книги А. Терца «Прогулки с Пушкиным»).
Основная игра, которую вели «элитные» группы и за которой внимательно следили образованные читательские и зрительские слои, была игрой с властью и суть ее составляла игра во власть.
Перипетии этих игр для широкого читателя оставались, как правило, малопонятными и неизвестными. Чужой была для него и тактика оживления классики, риторика «раскрытия подлинного Пушкина», его «внутреннего», «духовного» смысла. К массам был обращен другой образ классики – миссионерски декретируемый сверху и образующий фундамент просветительской роли интеллигенции. С такой классикой встречались прежде всего в школе и воспринимали ее как код принудительной социализации, социальной лояльности. Готовность индивида овладеть этим кодом можно было бы прослеживать по обобщенным кривым успеваемости по литературе и языку.
В этой модификации классика существовала и в широких читательских массах, точнее, в определенных их слоях – усваивающих ценности образования, городского образа жизни, стандарты цивилизованности, а вместе с ними и книжной культуры. Значимость классики определялась здесь престижем образованных групп и нормативно заданной культуры, что всегда характерно для начальной фазы адаптации к условиям современного города. Социальную траекторию таких групп лучше других показывают кривые подъема образовательного уровня или доли городских жителей в населении страны. Отсюда – сравнительно широкое собирание образцовых изданий суперклассиков (когда-то собраний сочинений, позже – более доступных и дешевых двух-, трехтомников «избранного» середины 1970-х). Отсюда и знаменитый доныне (по данным наших опросов 1989–1992 годов) повышенный престиж учителя в более старших возрастных группах как вариант эталонного представления о «культурном человеке», возникшего в результате «прямого» прочтения интеллигентской «легенды», созданной десятилетиями ранее.
По данным наших опросов конца 1980-х – начала 1990-х, на общем фоне традиционалистского кодекса почитания старших и культа воспитанности, «хороших» (то есть уважительных) манер в этом эталонном образе среди тех качеств, которые люди прежде всего хотели бы воспитывать в детях, особенно выделялись «честность, порядочность». Таковы были ожидания, обращенные к «культурному человеку».
Образованные слои могли ответить на этот запрос в большинстве своем лишь «двойным прочтением». Эта встреча «масс» с идеалом во плоти вместе с общим подъемом уровня образованности (при соответственном снижении его ценностной значимости), падением уровня жизни массово-интеллигентских слоев на фоне героев дефицитарной эпохи 1970-х – «людей с возможностями» – и подрывали в совокупности статус интеллигенции как элитной группы, нивелируя ее престиж. Сказывались и внутригрупповые процессы – эмиграция самых активных и радикальных, маргинализация молодежи «поколения дворников и сторожей» и т. д.; интеллигенция все теснее сближалась с рядовым служилым чиновничеством, принимая на себя и амбивалентные оценки его «массами».
В целом же модель «двойной бухгалтерии», сложившаяся в аварийном режиме выживания, выявила свою непривлекательность, а потому и невоспроизводимость. Цивилизованного развития реальных элит, как и реального движения общества, она обеспечить не могла. Идеология классики и покоящееся на ней сознание просветленной миссии образованных слоев практически полностью закрывали автономные значения как «западных» ценностей, проблем, обиходных навыков, так и тематику, затрагивающую широкие массы «народа». Совокупность идей и обстоятельств, нашедших выход сперва в западном молодежном движении 1960-х, в последующем европейском неоконсерватизме, в разработке проблем культуры и традиций, в интересе к повседневности, заставившем иными глазами увидеть и «прошлое» (начиная от не замеченной классикалистами античной архаики) и «периферию» (в ее игнорируемых нормативным сознанием особенностях) – вся эта тематика ценностного многообразия и вместе с тем связности человеческого существования проходила мимо нашего интеллигентского сознания, нечувствительного к проблемам культуры и цивилизации вне контекста идеологических догм. Изживание собственного конфликта в форме антагонизма «прогрессивного» и «реакционного», «высокого» и «массового» фактически блокировало межкультурный диалог, а стало быть – и возможность расширить понимание самих себя. На каждой последующей фазе вестернизации возникал новый шок при столкновении с реальными проблемами и заботами Запада, особенно характерный для самых последних лет. При этом болезненно воспринимаются и наличие самих этих проблем и забот (к тому же несобственных, иных, «не наших»), и культурное, поведенческое, жизненное многообразие: такое состояние не отфильтровано никаким нормативным каноном или сверхавторитетом («гением», «властителем умов»), а потому кажется «аморфностью», «бездуховностью», «скукой». Толща цивилизации (вне которой невозможен и повседневный, негероический индивидуальный поиск) для нашего сознания неинтересна – и потому не видна.
Точно так же не были оценены (или подверглись идеологической диффамации) и собственные запросы самых широких слоев советского общества 1960–1980-х. Дискриминированная интеллигенцией массовая литература составляла в этот период основу реального чтения большинства людей, видевших в ней не «критику», а «фантазию», возможность игровой идентификации. Позиция же просветительства (вне зависимости от субъективных желаний конкретного функционера, группы, кружка, редакции и т. д.) воспроизводила и увековечивала ситуацию дефицита символических ценностей для миллионов людей, вовлеченных в масштабные процессы приобщения к письменной культуре, включения в городскую цивилизацию, ломки привычного традиционалистского уклада, но лишенных языка для понимания и обсуждения возникающих при этом конфликтов и напряжений.
Неартикулированность публичной сферы, невыговоренность проблем и трудностей частного, индивидуального, семейного существования, отсутствие набора моделей идентификации, между которыми можно было бы выбирать, лишь частично компенсировались государственно-массовыми эпопеями на отечественном материале и переводной беллетристикой, – по сути, своего рода обиходно-инструктивной словесностью, несущей хоть какие-то навыки цивилизованного поведения и адаптации к общим процессам социальных изменений, некогда инициированным, но все меньше контролируемым властью. Идеологическое вытеснение массовой литературы из книгоиздания и чтения резко сужало спектр возможностей постепенного и цивилизованного движения к современному обществу: миссионерство и классикализм вопреки собственному пафосу работали на блокировку развития, роста разнообразия, наращивания качеств цивилизованности. Нынешнее одичание «ничейных» пространств города и дома – завершение этого процесса, для осознания которого у интеллигенции не нашлось других средств, кроме эмоций.
Опрокинутая же в прошлое, подобная идеологическая схема породила чисто интеллигентскую картину истории культуры, включая вкусы и запросы народа. К примеру, образ XIX века в сильнейшей мере деформирован этой «оптикой». Что читали тогда в России? По оценкам специалистов, суммарный тираж «толстых» журналов (рупоров интеллигентской групповой идеологии) с 1860 по 1900 год вырос с 30 до всего 90 тысяч экземпляров (втрое), тогда как у «тонких» иллюстрированных еженедельников с конца 1870-х до того же 1900-го – впятеро, до полумиллиона, а разовый тираж общих и литературных газет (с 1860-го по 1900-й) – почти в четырнадцать раз, приблизившись к миллиону (первым в мире миллионный рубеж преодолел французский «Пти журналь» в 1870 году). Именно через «тонкий» журнал и газету (и бесплатные приложения к ним) к становящемуся грамотным читателю приходила массовая словесность, дающая ему ориентиры в современной городской жизни, используя привычную для вчерашних крестьян и отходников приключенческую форму, – «народный детектив», «разбойничий роман». В тогдашних «толстых» журналах подобная словесность подвергалась эстетической обструкции и моральному суду, вытесняясь из общей памяти, традиции, истории.
В итоге интеллигенции приходилось каждый раз заново «открывать народ», чаще всего реагируя на встречу с объектом своих попечений неузнаванием или шоком. Если для классикалистской идеологии нормативным фильтром, предпосылкой усвоения значений применительно к Западу выступала «прогрессивность», то по отношению к массам аналогичную роль исполняла идея «народности», иными словами – образ народа, каким его хотела бы видеть власть. Отсюда характеристики послушания и непритязательности, терпения и простоты, вновь и вновь обращаемые к народу. Оборотной стороной подобной идеализации выступает совокупность либо демонизированных делинквентных характеристик («люмпен», «изверг»), либо значений полной раздавленности, социального нуля (метафорика грязи, праха и т. п.). Эти негативные проекции способны активизироваться в условиях социальной нестабильности. Их легко можно обнаружить, скажем, в литературе 1900–1910-х (Л. Андреев, Ф. Сологуб, но особенно – эпигоны символизма), а сегодня они оживают в жанрах «чернухи» – в образах распоясавшегося хулигана, кровожадного мафиозо или затурканного «совка». В этом смысле для «интеллигенции государственных служащих» характерно противостояние не столько «власти» (с которой она сосуществовала и срасталась), сколько «народу», которого она не знала и страшилась.
Период гласности стал для образованных слоев временем попыток запоздалой самореализации и «реабилитации» за годы обслуживания власти – реабилитации и в собственных глазах, и в глазах авторитетных для этого слоя «других» (включая Запад и эмиграцию на Западе). Фундаментальные особенности интеллигентского слоя, его функциональной конституции выявились в ходе журнальной «деидеологизации» и газетной «мобилизации масс» на широкую поддержку реформаторских инициатив власти. Усилия интеллигенции по легализации и введению в массовый обиход собственных групповых криптотрадиций взломали рамки первоначальных намерений реформаторского руководства, а вовлечение широких масс в социальную и политическую активность быстро вышло из-под контроля самой прогрессивной интеллигенции. Сдвиг значений в исходной для советской модернизаторской модели идеологической композиции «власть – народ – интеллигенция – Запад», сокращение культурной дистанции между интеллигенцией и властью, властью и народом, народом и интеллигенцией истощило энергетический потенциал последней (и в первую голову самих реформаторов).
Опросы ВЦИОМ (май 1992) показывают, как именно совмещаются результаты всех этих просвещенческих усилий образованных групп за несколько десятилетий в сознании сегодняшней массовой аудитории. Самыми любимыми писателями население России назвало А. С. Пушкина, М. Шолохова и А. Дюма (по шесть процентов у каждого). Историко-приключенческие романы В. Пикуля с характерными мифологемами России державной и Запада интриганского упомянуло пять процентов, а Льва Толстого – четыре. В отличие от представлений о живописи (где И. Репину досталось 11 процентов голосов, И. Шишкину, И. Айвазовскому и В. Васнецову – по пять, И. Левитану – четыре) сфера музыки и кино максимально приближена к современности. Однако характерно, что и ее герои – это звезды 1970-х годов.
Пожилая часть аудитории настроена ретроспективистски, предпочитая всему народные песни и старинные романсы (женщины), песни военной поры (мужчины). Представления об искусстве молодой аудитории также заданы средствами массовой коммуникации, преимущественно их развлекательными, коммерческими каналами. Из музыки эта часть аудитории выделяет рок, из фильмов – американские, в литературе – фантастику, детектив, мистику.
Молодая аудитория заметно выделяется по таким параметрам, как знание иностранных языков (13 процентов при трех в среднем по выборке) или переписка со знакомыми за рубежом (10 процентов при четырех в среднем). Идеологическая риторика вокруг демонизированного образа Запада – осиротевшее дитя официальной советской идеологии, нашедшее приют в кружках «духовной оппозиции», – здесь не привилась и видимых следов в сознании не оставила.
А между двумя этими массивами просматривается «потерянное поколение» людей среднего возраста, некогда попытавшихся стать непохожими на своих родителей (и помнящих об этом), но выросших, по собственным признаниям, такими же. Основной символический капитал большинства из них – образование, во многом потерявшее общественный престиж за истекшие годы. Главная сфера интересов – работа, но именно в ней они, по самооценкам, не обрели ни признания, ни успеха. Если принять «расстояние» между периодами массового призыва молодежи к социальной активности в нашей стране (революция, война) за 20–25 лет, то пик самореализации этого поколения должен был бы прийтись на середину и вторую половину 1960-х…
Нынешняя молодежь – их дети. Они тоже не хотят походить на своих родителей.
1993









































