Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
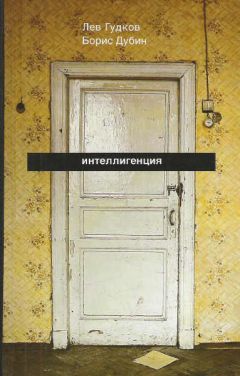
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Интеллигенты и интеллектуалы
Интеллигенция и общество: время взаимных расчетов?
В нынешнем году в стране следует ожидать массовой безработицы среди людей с высшим образованием. Приватизировать крупные предприятия с избыточной занятостью рабочих – дело долгое и сложное. Напротив, резкое сокращение спроса на «интеллигенцию» заметно уже сейчас. Разваливается прежнее государство, нуждавшееся в громадной армии чиновников разного класса и назначения – бухгалтерах и редакторах, административных и научных сотрудниках, библиотекарях и полковниках, филологах, учителях, обществоведах, писателях, журналистах и проч. У казны нет средств содержать библиотеки, музеи, издательства, институты и всю массу их служащих. Ненужными становятся десятки и сотни тысяч людей. Большей частью плохо образованные и инертные, не владеющие языками, не готовые учиться или переквалифицироваться, они обречены на деградацию и обнищание, поскольку перспектив приспособиться к новым условиям у них нет. Вне зависимости от желания их начальства или даже воли руководства страны начинаются структурные изменения, выбивающие людей из сложившихся укладов жизни.
Общество давно перестало платить интеллигенции вниманием и уважением. Дело не только в убогой зарплате, отражающей ее статус и «рыночную стоимость». Падает привлекательность интеллигентских занятий для молодежи, снижается интерес к литературе, «проблемному» кино, озабоченность судьбой культурного наследия. Тиражи журналов вернулись к исходной точке журнального бума – и даже к положению, существовавшему в середине 1970-х годов, цикл замкнулся. Девальвируются ценность и авторитет усредненного высшего образования. Молодежную субкультуру пронизывает аморфный протест против взрослых, их убеждений и ценностей.
Но дело не только в этом. Чем заметнее успехи демократического движения, в котором определяющую роль играет именно интеллигенция, тем сильнее неявная тревога и беспокойство, внутреннее недовольство и потерянность самих интеллигентов. Из материалов социологических исследований, проводимых ВЦИОМ, следует, что уровень тревожности, ожидания разнообразных катастроф и бедствий у людей с высшим образованием (особенно в столицах и крупных городах, где, собственно, и сосредоточены основные интеллектуальные силы) в два-три раза превышает соответствующие показатели у других групп. Эти фоновые страхи держатся уже в течение нескольких лет и мало связаны с ухудшением материального положения, национальными и социальными конфликтами, находя в них лишь оправдание себе. Кабаковские видения[6]6
Речь идет о повести А. Кабакова «Невозвращенец» (1988).
[Закрыть] – литературный пример психологической проекции или переноса на реальность подобных напряжений. Сюда же можно отнести и смутные, разлитые в среде людей с образованием, перелетные настроения (очень мало связанные с национальной принадлежностью): если более или менее выраженное желание уехать из страны высказывают 7–8 процентов населения (наиболее квалифицированные группы), то среди молодежи – уже почти треть (и чем выше уровень обучения, тем сильнее).
И, наконец, последнее, может быть, самое важное, почему приходится с особым вниманием посмотреть на то, что представляет собой образованная часть общества, от которой так много зависит в ситуациях социальных преобразований: удивительная неготовность интеллигенции к практическим делам, обнаружившаяся после победы демократов. За решительными действиями нового руководства России, радикально изменившими политическую систему страны, последовала мертвая полоса политических зигзагов и бездействия. При необычайно высокой (почти 80-процентной!) поддержке общества, в нетерпении ждавшего начала реформ, такое состояние казалось неправдоподобным.
Существует уже довольно много исследований, указывающих на русское происхождение слова «интеллигенция» и его отличие от европейских понятий «Intelligenz», «intelligence» (ум, способность к разумному пониманию, эрудиция) и «интеллектуал». Наше словоупотребление сохраняет за понятием «интеллигенция» двойное значение. Сама его неопределенность оказывается чрезвычайно важной и функциональной, позволяя незаметным образом связывать различные социальные контексты и ситуации использования этого слова. С одной стороны, под ним подразумеваются «работники умственного труда», люди с высшим образованием, со степенями или званиями (так сказать, учетно-государственное понимание интеллигенции в соответствующих графах статистических справочников). С другой – под этим понимается совокупность людей, обладающих набором трудно определимых нравственных, культурных («духовных») черт, характеризующих отношение человека к «народу» или, по меньшей мере, к другим людям: чувство гражданского долга, социальное неравнодушие, способность к состраданию, «духовность». Полюса значений заданы понятиями «специалист» – «совесть народа», просветитель, защитник. (В печати вполне серьезно делались попытки назначить тех или иных людей на эту ответственную «должность», чаще к юбилею.) Соединяющим моментом является аморфное сознание ценности образования, – отождествляемого с культурой, – государственный смысл которого (признаваемый, впрочем, и образованным обществом) таков: образование и культура не самоцель, не самоценность и не индивидуальное достояние. Это – ресурс, предоставляемый «обществом» (в лице государства, то есть власти) человеку для наилучшего или, скорее, необходимого исполнения общественно значимых дел.
Таким образом, одно значение используется во внешних ситуациях взаимодействия с властью, ситуациях государственного «управления», другой смысл предназначен исключительно для себя, т. е. это самоопределение людей, относящих себя к «интеллигенции», средство символической консолидации, усиления групповой сплоченности (по меньшей мере, части) «специалистов и служащих». Второе значение неформально, поэтому не терминологично, неопределенно, его употребление предполагает сопровождающий аффективный жест, общие чувства «своих», «порядочных людей». Соответственно, барьер в отношениях с другими – либо необразованными, либо непорядочными, кому в недалеком прошлом не только что самиздат было нельзя доверить, но с которыми бы лучше вообще не связываться. Свой человек или не свой, хороший или сомнительный, порядочный или холуй, решалось каждый раз в кругу очень знакомых и близких друг другу людей по прецеденту или отношению к «делу».
Однако само это «дело», равно как и отношение к нему, оценивалось не по внутренним профессиональным критериям (т. е. не по собственной научной оригинальности или продуктивности, не по литературной талантливости или новизне, не по глубине той или иной мысли и достижения), а по тому, в какой мере оно несло отпечаток оппозиционности или дистанцированности ко всему официальному, официально общепринятому, официально идеологическому. Публика могла обмирать от восторга на выступлениях того или иного именитого специалиста по редким и экзотическим языкам, по византийской культуре или чему-нибудь столь же изысканному, но это было чисто эстетическое созерцание носителей эзотерического ведения, сохраняющих все элементы дистанцированности по отношению к профанной пропаганде и идеологии. Профессиональная компетентность оценивалась бы совершенно иначе. (Схожие явления отмечают специалисты и в тех случаях, когда эстетическая форма, например, сонет, рассматривалась как форма протеста, сопротивления «культуры – хаосу», воплощаемому в тоталитаризме. Анализ подобных явлений – довольно устойчивая тема в немецком литературоведении, исследующем искусство и литературу тоталитарной эпохи.)
Сегодня ситуация радикально изменилась. Распадаются и ликвидируются основные социальные институты тоталитарного общества: распущена компартия, контролировавшая основу его социальной структуры – кадровые перемещения и назначения, идеологические рамки дозволенного; подорвана база репрессивных органов – КГБ; разрушена империя – Союза больше нет; свободны печать и книгоиздание, наука и литература. Откуда же глухое недовольство интеллигенцией, приложившей столько сил для разрушения прежнего порядка?
Статьи об интеллигенции (если не считать зарубежных) начали появляться уже с весны 1989 года, чаще с обвинительным уклоном, продолжающим линию «Вех» или солженицынской «образованщины», реже – с позитивной оценкой (впрочем, столь же справедливой, сколь и критика). Еще реже можно было встретить в печати попытки разобраться в том, что же это такое – «интеллигенция», почему она так неэффективна и непродуктивна в своей профессиональной деятельности, почему оказалась не готовой к наступлению событий и процессов, которые сама готовила и торопила? Эта неготовность касается и реформ (политических, административных, экономических, правовых), и понимания того, что происходит в обществе. Среди первоочередных проблем, к которым должны были бы быть готовы и общество, и специалисты, следовало бы назвать национальные[7]7
Появление национальной проблематики свидетельствует о том, что нынешние процессы распада целого ведут не к усилению социальной дифференциации и формированию более сложных систем политического устройства, институтов гражданского общества, с его терпимостью, законностью, свободами, правами человека и т. п. Напротив, вполне очевидна тенденция к возникновению более примитивных форм социальной организации, объединяющих людей на основе массовых представлений, значительно упрощающих образы реальности, таящих в себе опасность доминирования плебейского менталитета, но уже на политическом уровне. Конечно, есть громадная разница в рафинированном понимании национальных ценностей, истории национальной культуры – и этнических инстинктах толпы, готовой на резню и погромы. Удельный вес того и другого, разумеется, различен в разных регионах, в Прибалтике или Азербайджане, как различны тут и там роль и характер национальной интеллигенции. Но само по себе появление национально-этнической тематики говорит о том, что общество, в котором мы имеем честь жить, переживает фазу, которую европейские страны проходили в самом начале процесса модернизации.
[Закрыть]. Но ответов нет, или они явно недостаточны. Идет волна расчетов с прошлым, масса эмоций, упреков, стыд за рабскую угодливость, некомпетентность, цинизм, горечь из-за потерянного времени, возможностей, трусости своей и других, отсутствия защиты и поддержки, когда они больше всего требовались, сожаления об отъехавших, тревога по поводу «утечки мозгов», разочарования из-за быстрого перекрашивания вчерашних цензоров и надзирателей. Каждый может представить себе подобный счет. Но одновременно пробивается и очень характерная нота – жалобы на профанацию «новыми людьми» всего того, чем «мы» жили. Появление этой растерянности особенно любопытно именно сейчас, когда сняты, казалось бы, барьеры на пути социального продвижения (включая и ослабление «пятого пункта») для беспартийных и вообще «не своих», когда наконец-то можно что-то делать по-настоящему. Но вот что делать – это-то и главное. Что делать, если уже не надо класть жизнь на то, чтобы пробить публикацию В. Розанова, О. Мандельштама или З. Фрейда, если сочинения религиозных мыслителей выходят просто так, в том числе и в бывшем «Политиздате», а журнал «Вопросы философии» только их и печатает? Казалось бы, давай! Выпускай, твори, показывай всему свету все, что накопилось в столах за эти годы. Однако, честно говоря, нового что-то не видно. Может быть, действительно трудно издать. Но некому уже пожаловаться и объяснить, что «задавили», не пускают… Нет, сделано, конечно, колоссально много за эти четыре года – журналы, а теперь и книги перекачали весь самиздат, почти всю эмигрантскую литературу, начали издавать даже то, чего вообще не было в поле внимания интеллигенции с начала века или с послевоенной поры, но что составляло предмет дискуссий у западных интеллектуалов – Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Фромм, А. Уайтхед или П. Фейерабенд. Глядишь, еще немного, и дело дойдет до Э. Гуссерля или М. Бубера, М. Хайдеггера и других. Но… уровень аналитичности, серьезности, насколько мы можем судить, в гуманитарных науках если и не снизился, то во всяком случае и не повысился, в искусстве и литературе не появилось ничего принципиально нового, не говоря уже о шедеврах. Может быть, правы те, кто говорит, что во времена застоя работать было легче, что отказ надежд на скорый успех и немедленное признание были лучшими условиями для «серьезного дела», образуя то, что М. Чудакова называла «комфортом насилия»?
В строгом смысле приходится сказать – «да». Благодаря упорной социальной критике, интеллигенция разрушила верхний слой массовой идеологической лояльности в советском обществе, но одновременно упразднила и смысловую почву собственного существования. Долгожданная свобода парализовала интеллигенцию, не готовую к иной деятельности, не разделяющую тех ценностей, которыми живут западные интеллектуалы. Часть из наиболее знающих и способных людей бросила свои дела, занявшись политикой, другие уехали работать (пусть даже на время) за рубеж – преподавать, жить, осмотреться. Слой образованных людей в СССР стал быстро дифференцироваться – появилось несколько новых имен, заговорили те, кто много лет молчал, но для подавляющего большинства началась незаметная деградация, уход от множества проблем, возникающих в связи с трансформациями общества, которое, как оказалось, плохо известно. Что же произошло, если интеллигенция, всегда относившаяся к себе как к «соли земли», оказалась столь дезориентированной и пассивной? Чем же отличается интеллигенция от тех, кого за рубежом называют интеллектуалами, интеллектуальной элитой?
Европейский интеллектуал: попытка апологии субъективности
Ничего похожего на нашу интеллигенцию на Западе нет, если не считать маргиналов левого толка, но они как раз и не делают погоды. Можно гордиться своей исключительностью, можно – нет, но организация интеллектуальной жизни в индустриальных странах с демократической представительной системой иная. «Академик» (человек с высшим образованием), а тем более – «интеллектуал», т. е. человек, живущий за счет своего интеллектуального капитала (компетентности в какой-то области или способности к производству нового), оценивает себя (и воспринимается другими) в первую очередь по своей функциональности. В самом общем виде можно указать на три основные функции интеллектуалов в современном обществе: систематическая инновация; критика и отбор наиболее важного и ценного; хранение и ретрансляция всего того, что составляет интеллектуальный ресурс общества. Все вместе образует единую динамическую систему воспроизводства культуры, передачи идей, образцов поведения, оценок, стандартов вкуса и прочего от группы более специализированной – к менее, но численно большей или статусно ниже стоящей, равно как и от поколения к поколению.
Инновация – это выработка, синтезирование новых идей, создание новых моделей действия, ценностей, политических программ, имеющих чисто индивидуальный и неповторимый характер. Инновационное действие (в отличие от адаптации, приспособления сложившихся моделей поведения или решений к новым ситуациям) всегда является результатом сугубо индивидуального решения собственной, глубоко личной, экзистенциальной задачи или проблемы: будь то моральные дилеммы, теоретические противоречия или необходимость выразить переживание предельного опыта жизни и смерти. Не так важно, что это за предметная область – наука, литература, философия, или бизнес, или политика, важно, что решается всегда именно собственная проблема, мобилизуются все ресурсы и культурные возможности, а не просто по-новому истолковывается традиция или канон, политическая цель или технологическое решение. За инновацией потому и закрепляется собственное имя человека, ее автора, что она не имеет аналогов. От группы инноваторов зависит систематическое расширение умственных горизонтов общества, внесение новых смыслов в понимание реальности, появление новых точек зрения на происходящее. Их существование – это мысленный или экзистенциальный эксперимент – над собой, над другими, над вероучениями и доктринами, идеологическими постулатами или общепринятыми табу. Отличительная особенность их культурного пространства – «отмена» безусловных запретов или аксиом, что придает их умственным конструкциям специфический привкус парадоксальности, ирреальности или условности, игры. Акт инновации поэтому предполагает пародирование, отказ, «взятие в скобки» традиций, общепринятых представлений или мнений.
Создание новых образцов – не самая престижная или высоко оплачиваемая деятельность. Расточительность этого культурного механизма очень велика – далеко не всякая идея, мысль или экспрессивная, эстетическая форма немедленно признается обществом. Однако развитость общества (как цивилизационного типа) можно оценивать по его способности к рецепции – готовности усваивать, принимать «новое». Продуктивность элиты оказывается в этом плане важным, но недостаточным признаком, поскольку в неразвитых обществах (каким является советское или теперь российское) всегда сохраняется высокий уровень «лишних людей», «избыточность» одаренных или даже иногда – гениальных маргиналов, ученых, художников, мыслителей, остающихся непризнанными, неуслышанными, непрочитанными. Поэтому более эффективным критерием оценки развитости общества оказывается показатель слоя потенциальных партнеров, потребителей элитарной инновации, который окружает и поддерживает элиту, признает ее авторитет, и которому она адресует результаты своей работы. Насколько общество умно, богато и компетентно, определяется тем, в какой мере оно в состоянии содержать маргиналов[8]8
Понятие «маргинал» употребляется здесь без той (весьма характерной, кстати) негативной окраски, которую оно имеет в нашем обычном словоупотреблении.
[Закрыть], без непосредственной надежды на быструю практическую утилизацию их идей и продукции.
Поэтому для того, чтобы инновационная деятельность могла быть реализована, появляются весьма своеобразные формы признания, вознаграждения, не имеющие меркантильного и материального характера. Отчасти – это честь и слава, отчасти – авторитет у подражателей и учеников. Но главное – внутригрупповые или внутридисциплинарные оценки инноваций, «гамбургский счет», т. е. распределение авторитета, признание среди самых сильных в своем роде, что компенсирует недостаток всего прочего. Именно подобные механизмы были подавлены в первую очередь в 1930-е годы у нас в стране. Тоталитарная бюрократия в общем-то не ставила никогда своей целью физическое уничтожение творческого потенциала, она стремилась к контролю над ним, а для этого достаточно парализовать внутреннюю шкалу ценностей и оценок, изменить систему вознаграждений. Что и проделывали аппарат Союза писателей или Академия наук.
Для того, чтобы результаты смысловой инновации были переданы для «общественного пользования», они должны быть оценены и санкционированы другой группой, функции которой – критика, т. е. анализ и отбор наиболее важного и достойного в потоке нового. Эти эксперты или интерпретаторы озабочены не собственно проблемами порождения новых смыслов, их задача – оценить степень нового, исходя из уже существующих взглядов и представлений, то есть согласовать его с имеющимися направлениями или партиями, концептуальными системами, научными парадигмами или школами.
Сам акт критической рефлексии содержит не только оценку (позитивную или негативную), но и ритуальное, неявное воспроизведение того основного ядра убеждений, ценностей или принципов, которые служат основой коллективного или группового согласия в литературе или науке. Без этого согласия общество превратилось бы в простую сумму механически связанных людей и учреждений. Чем свободнее и чем более открыто общество, тем важнее в нем роль публичной экспертизы любого выступления – от политики до медицины. Разумеется, сама по себе свобода слова еще не свидетельствует о том, какие ресурсы у этого общества, каков умственный горизонт обсуждения, насколько технически богат арсенал аналитических средств, каким диапазоном традиций располагает критик. Самоценность критики, как показывает наш опыт, ведет к ее вырождению в склоку или мелкую говорильню.
Поэтому позитивную границу критике устанавливают хранители и кодификаторы интеллектуальных ресурсов, держатели нормы, исторической памяти – они-то и образуют третью функциональную группу. В этом смысле совсем не случайно то обстоятельство, что крупнейшее книжное и информационное собрание в мире – Библиотека Конгресса США (а при ней один из самых мощных исследовательских и консультативных центров) с годовым бюджетом свыше 700 млн долларов (для сравнения: у второго по величине книжного собрания – Государственной библиотеки СССР имени Ленина, подчинявшегося министерству культуры СССР, годовой бюджет около 13 млн рублей) обслуживает самый известный дискуссионный клуб – законодательное собрание, американскую политическую элиту. Поэтому в первом случае библиотеку возглавляет известный историк, а в другом возглавлял технический чиновник без определенной квалификации.
Без эффективной системы ретрансляции и кодификации знаний невозможны ни устойчивость общества, ни его адаптация к изменяющимся условиям. Очень часто сам способ хранения культурного наследия ведет к склеротизации всего социального целого. Так, принятая в СССР библиотечно-библиографическая система (ББК), построенная на марксистско-ленинской классификации наук и областей знания (за что ее создатели получили в свое время Ленинскую премию), отрезала наши крупнейшие библиотеки от мировых банков и центров информации, точно так же, как широкая железнодорожная колея, установленная при Николае I в целях обороны, отрезала Россию от Европы. Иначе говоря, динамика общества зависит не только от мощности инновационного потенциала, но и от господствующих идей, которые могут стимулировать или подавлять его разработку, и от способности общества усваивать новое, то есть от того, какие стандарты ценностей, какие привычки, вкусы и убеждения интеллектуальной верхушки обеспечивают необходимый момент устойчивости, стабильности и консерватизма.
Тех, кто демонстрирует наивысшие достижения в этих трех функциональных видах интеллектуальной деятельности, в западной социологии характеризуют общим словом «элита». Его значение очень сильно отличается от нашего словоупотребления («властная верхушка»), хотя в языке существуют следы и иных значений, но ушедших в другие языковые пласты (например, в сельскохозяйственной лексике – «элитные сорта» и т. п.). Доминирующее в нашей культуре отношение к власти как к чему-то сверхценному, заставляет искать и подозревать в любой функциональной деятельности скрытые претензии на авторитет, а стало быть, и на господство. Прояснить это различие необходимо хотя бы потому, что понятие «элита» не предполагает принуждение и насилие со стороны власти, а только взаимодополнение, взаимосвязь в системе разделения труда и социальной дифференциации, то есть лишь признание индивидуального достижения в качестве образцового или обязательного для тех, кто ориентируется на данную систему ценностей или следует ей в своем поведении.
Каждая из этих сфер интеллектуальной деятельности устроена по-разному. Символический мир инновационной группы принципиально открыт и антидогматичен, антиавторитарен, здесь действует, по выражению нашего философа Татьяны Любимовой, лишь одна заповедь – «не убий». Он подчеркнуто субъективен, рефлексивен и условен (примером может быть музилевский человек без свойств, то есть субъективность без жестких социальных определений, или же проза Ф. Искандера, своеобразие которой обусловлено авторской рефлексией над теми комментариями к происходящему, которые принадлежат героям – так сказать, рефлексия третьего порядка). Работа учителя, инженера, программиста или редактора в общем-то безымянна, хотя доля их участия в конечном продукте может быть весьма значительной.
Напротив, критик не может не быть авторитарным, поскольку его деятельность по самой сути своей апеллирует к авторитетам, образцам, именам, суждениям, вкусам, признаваемым в данном профессиональном или корпоративном сообществе. Только для критики существует пантеон классиков, без соотнесения с которыми или без оглядки на которых невозможно отделить «высокое искусство» от массовухи, серьезную работу – от эпигонской и тривиальной, оригинальное – от рутинного повторения задов и общих мест. В то же время для хранителей и трансляторов культуры (в смысле наследия, памяти, информационного ресурса) тривиальный писатель не менее важен и интересен, чем гений; повседневность столь же значима, как и жизнь героев или политических деятелей; апокриф так же проясняет становление канона, как тупиковая ветвь научного поиска – складывание новой парадигмы рациональности.
Однако элита неизбежно выродилась бы и деградировала до замкнутой, нарциссической «игры в бисер», если бы она сложным образом не была связана с тем, что происходит в других группах и слоях общества. Поскольку формирование, «комплектование» элиты совершается только через признание индивидуального достижения, по результату, а не по статусу или роли, происхождению, то усилия элиты фокусируются практически на наиболее проблематизированных сферах культуры и социальной жизни. Делая «темой» своей профессиональной деятельности внутренние, драматические моменты собственной жизни, элита (как и интеллектуалы в целом) рационализирует различные сферы человеческого существования, вносит в поток происходящего смысл и логическую упорядоченность, «расколдовывает», как говорит Макс Вебер, действительность, проясняя ее мифологические или рутинные стороны. Иначе говоря, явные или скрытые напряжения, страхи, надежды, возникающие у отдельных людей или целых групп, могут закрепляться, оформляться и подвергаться осмыслению, только будучи интерпретируемыми и прорабатываемыми в русле определенных традиций или направлений, в принятой системе координат и категорий. В противном случае для общества они остаются непредсказуемыми взрывами массовых эмоций, страстей, неконтролируемых агрессий, наблюдать которые мы имели возможность в Сумгаите, Оше, Чечне…
Тем самым, интеллектуал – не просто высокообразованный человек, но специфически образованный, культивирующий в себе особую чувствительность к внутренним – моральным, логическим, доктринальным – коллизиям и ценностным противоречиям. Его отличает болезненная, даже невротическая неспособность принять «готовые ответы», общепринятые точки зрения или интерпретации, если они не устраняют антиномичности додуманного до логического предела вопроса (Ф. Ницше называл это «интеллектуальной честностью»). Оказываясь в трудноразрешимой ситуации, когда выбор, кажется, невозможен – во всяком случае, исходя из традиционных представлений, – интеллектуал не впадает в догматический шок, прострацию (политическую, моральную, религиозную или какой-то иной природы), за которой может последовать лишь истерическая агрессия или умственная редукция к упрощенным схемам и концепциям, так свойственные популистской интеллигенции. Ведь интеллектуала делает интеллектуалом именно опыт парадоксальности мышления, развиваемый особой университетской дрессурой и обучением. Он включает не просто технику саморефлексии, методической критики и самоанализа, но и историю форм иронического существования, навыки систематической релятивизации любых категорических суждений – непременное условие антидогматической профилактики. Благодаря этому интеллектуал, оказываясь в антиномической ситуации, в состоянии подвергнуть рефлексии свой интеллектуальный ресурс и пересмотреть исходные ценностные основания. (Разумеется, такого рода технику рационального самоконтроля можно найти и в других цивилизациях и культурных регионах, традициях, например, в дзен-буддизме с его приемами коанов, в христианской аскезе и др., но нигде эта техника не становится целью рационализации условий существования и мышления.) Естественно, что способности к проблематизации своей персональной, социальной или научной жизни, равно как и средств ее познания или эстетического выражения, являются не просто личным даром, а представляют собой предмет длительной исторической культивации, социального отбора, обеспеченного системой определенных социальных институтов. В первую очередь здесь следует выделить те сферы, которые аккумулируют технику воспитания и рафинирования критических и аналитических способностей. Сегодня, если ограничиться областью культуры, или как говорят немцы, «наук о духе», к ним можно отнести не только традиции высокого или авангардного искусства, моральную эссеистику, например, работы С. Кьеркегора, Э. Канетти или А. Камю, но и гораздо более систематизированные области рефлексивного знания (к коим наша публика абсолютно индифферентна) – философию ценностей, теологическую пропедевтику, психоанализ, сравнительную культурологию или социологию знания и т. п.
Западный интеллектуал как человеческий тип – явление столь же уникальное, как и индийский отшельник, ренессансный гуманист, средневековый мистик или китайский чиновник-литератор. Принципиальное отличие его от всех иных типов носителей интеллектуального начала (включая и российского интеллигента) состоит в том, что он являет собой носителя релятивистского духа европейской культуры – «модерности». Если сравнивать ее с тем, что дают нам этнография или искусствоведение, трактующие культуру либо как совокупность традиционных установлений и обычаев, либо как наследие, собрание образцовых, эталонных авторов и произведений, то идея европейской культуры представляется поразительно необычной. Конститутивным элементом, соединяющим воедино разнородные системы знания, моральные альтернативы, веру и сомнение, разные образы реальности, характерные для современного мира, является сам индивид. Целостность миру, таким образом, придает не святость издавна бывшего, не объективность традиции, какого-то учения, идеология, религиозная догматика и проч., но автономный, то есть не зависящий от каких-либо внешних авторитетов индивид, который обречен полагаться лишь на собственное, субъективное понимание происходящего или прошлого. Европейское, «взрослое» отношение к реальности означает способность человека вносить ясность в поток событий (настоящего или истории), наделять действительность смыслом и значением, субъективно упорядочивать и понимать самое по себе иррациональную и бесконечно многообразную реальность (включая и чужую душевную жизнь). Для воспитанного так интеллектуала не может быть вопроса, который время от времени терзал наших литературных героев: «В чем смысл нашей жизни?» Скорее он мог бы звучать таким образом: «Если факт смерти непреложен, то какой смысл я могу внести в свою жизнь?» Иначе говоря, жизнь интеллектуального героя выстраивается как проект его биографии, а не как серия случайных испытаний, провиденциальный смысл которых надлежит еще разгадать. Такой вариант развития самосознания приводит к тому, что более ранняя фаза интеллектуальной эмансипации – «этика убеждений» (то есть преданности тому или иному вероучению, идеологии, философской или эстетической системе, научным положениям) уступает место «этике ответственности» – сознанию личной ответственности за последствия своих идей, слов, действий, так как другой опоры для ориентации в мире у интеллектуала ни среди звезд, ни среди людей нет.
Именно это качество культуры – «кристаллизация субъективности», – зафиксированное в понятии «модерность» (представляющее точку настоящего как момент самосознания), и придает современной цивилизации динамику и беспокойство, разрушающее любую систему догматов и идеологических констант. «Модерность», будучи последовательно отрефлексированным и проработанным позитивным знанием и потребностью для людей определенного склада, порождает целые структуры внутренней защиты против потенциальной угрозы окостенения и авторитарной склеротизации общественной мысли, общественного мнения.









































