Читать книгу "Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях"
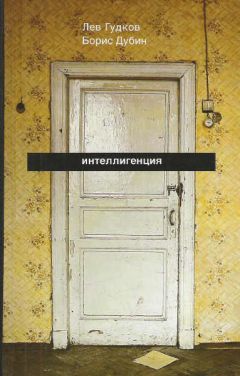
Автор книги: Борис Дубин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Исчезают символы советского времени, но не сами ценностные структуры, не конструкции реальности – и в массе, и в интеллигентской среде. Доминируют по-прежнему патерналистские конструкции реальности, основу социальной и культурной идентификации составляет отождествление себя со всем целым, персонифицируемым «начальством», властью как силой, конституирующей общество, решающей все основные проблемы и обстоятельства его жизнедеятельности. К государству по-прежнему обращены все претензии по части ускорения проведения реформ и ожидания на лучшее будущее, хотя поколенчески это не совсем так: среди молодежи подобные претензии встречаются гораздо реже – примерно вдвое, чем среди людей старше 45 лет.
На протяжении короткого времени дважды менялся знак этой зависимости: сильнейшая популистская поддержка М. Горбачева в 1988–1989 гг. и последовавший за этим отказ ему в признании были повторены один к одному в отношении к Б. Ельцину и связанному с ним правительству Е. Гайдара. Однако последнее отказалось брать на себя проблемы общества, присваивать его право прожить свою жизнь самому. А общество как таковое оказалось настолько слабым и несостоятельным, что фрустрация, вызванная перспективой принятия ответственности и самодеятельности, практически сковала его дееспособность и дееспособность интеллигенции как представителя общества. Чрезвычайно характерно, что именно среди бюрократии (включающей интеллигенцию как составную часть) чувство несвободы проявляется в наибольшей степени: чем выше статус руководителя в иерархии управления, тем сильнее он подвержен социальным страхам – боязни массовых репрессий, публичных унижений. Среди людей с высшим образованием чувства зависимости от начальства и государства распространены гораздо шире, чем среди других групп и слоев (при этом – чем выше уровень символического капитала, например, чем больше по величине домашняя библиотека у респондента, тем сильнее высказывается эта несвобода и зависимость). Если в целом, судя по данным опросов, не чувствуют себя свободными 44 процента, то среди среди людей с высшим образованием – 53 процента (среди людей, окончивших менее 9 классов, – 35 процентов).
После нескольких месяцев растерянности и затянувшегося празднования победы над путчистами среди интеллигенции начался полный разброд, возникли явления групповой депрессии. Не случайно за последний год тема интеллигенции и ее будущего одна из наиболее обсуждаемых – за это время только в центральной печати появилось около 70 статей на эту тему. Этот момент отметил идеологический конец интеллигенции как обслуживающей элиты в советском обществе, кризис механизмов ее консолидации, ментальности, утрату ее социальных партнеров, конец ее двойного существования, двойственности ее роли – обслуживания в качестве спецов бюрократической системы и ее критиков (как критиков социалистического или коммунистического варианта модернизации). Дальше должна была бы наступить профессиональная работа по рационализации повседневности, наличного существования, утверждения ценностей «современности» – синтез традиционных оснований национальной культуры («гемайншафтной» солидарности), инструментальности, нормативного правопорядка. Но для этой работы большая часть интеллигенции оказалась практически не готовой – ни идеологически, ни технологически. Отсутствовала соответствующая компетентность, навыки и техника рационализации, отсутствовали смысловые и ценностные ориентиры. Этот слой (разумеется, мы говорим не об отдельных людях, а именно о коллективных характеристиках слоя) консолидирован общей идеей массовой дидактики, а потому его культурный ресурс представляет собой знание, принципиально неспецилизированное, аморфное, символический адрес его партнера (именно символический, поскольку прагматически интеллигенция всегда ориентировалась только на государственные и властные структуры) очень неопределен, а соответственно не определены и не рационализированы ее моральные критерии. Дело не столько в характере полученного интеллигенцией образования, сколько в смысловых рамках, обеспечивающих этику, гратификацию профессиональной работы. Поэтому с уходом КПСС исчез и ее постоянный символический противник, консолидировавший и придававший смысл существованию интеллигенции, оправдывающий плохое качество ее подготовки и образования, некомпетентность и прочее. Не случайно сегодня даже наиболее авторитетные ученые – возьмем для примера лишь социологов как близких нам специалистов – стали говорить о полной иррациональности происходящего (Б. Грушин, Т. Заславская).
Заметная утрата интеллигенцией своего авторитета, определенности своего статуса, происходящего одновременно с кризисом тоталитарной бюрократии и частично вызванная им, сопровождается не просто групповой депрессией, отъездом, настроениями подавленности и тупика, но и своего рода идеологией «катастрофизма». Чрезвычайно характерно, что эти настроения специфичны именно для бывших чиновников, высокообразованных слоев и групп общества. Во всех наших исследованиях фиксируется однозначная зависимость между уровнем образования и усилением страхов, тревожности, ожиданием катастрофы. Показатели этого рода – ожидания общей беды, несчастья, надвигающихся бедствий, голода, гражданской войны, массовых репрессий, эпидемий, стихийных бедствий и прочее – в три-четыре раза сильнее выражены у людей с высшим образованием, чем у респондентов, имеющих неполное среднее образование. Такого рода сантименты становятся психологическим выражением социального ухода, заката, своего рода негативной утопией нисходящих классов, если несколько перефразировать К. Маннгейма. Мотив катастрофы, возникающий при этом, порожден в определенных группах интеллигенции неисполненными латентными надеждами на чудо, несвершившимися ожиданиями, связанными с собственным предназначением – призванием просвещенных классов к правлению. Но дело не только в психологических сдвигах. Идет реальный распад интеллигентской культуры. Впервые за много лет опросов даже сравнительно подготовленные читатели не смогли назвать заметных явлений или новые имена в литературе или кино, публицистике, появившихся за последние два года. Можно это объяснять сужением аудиторий журналов, но скорее, последовательность здесь обратная.
То, что интегрировало образованную публику, потеряло свой смысл и значимость. Исчезло понятие интеллигентской сенсации, объединяющего события. За последние два года нельзя назвать ни одного «бестселлера» или «бестридера», выставки, журнала, фильма, который, как раньше, «читали бы все» (или «смотрели бы все»). Можно также сказать, что наступило очень скучное время обыденной работы, и для романтических ожиданий «когда же придет настоящий день», которыми жила интеллигенция, вроде бы не остается больше места, равно как и для привычных жалоб на невозможность самоосуществления, бюрократические препятствия. Среди интеллигентов начался естественный процесс дифференциации и профессиональной специализации. Поэтому, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, действительно можно говорить о конце харизматической эпохи в России.
Разрушение верхнего слоя идентификации с советскими символами привело не к вакууму ценностей – мнение, которое часто приходится встречать в советской печати, а к усилению ориентации на сферу частного существования, приватизации символических моментов существования. За четыре года наших исследований зафиксирована определенная тенденция: люди все в большей степени квалифицируют себя не через категории общественного положения (государственной принадлежности, партийности, статуса), а через семейные и домашние роли, локальные связи, этническую причастность, участие в неформальных объединениях и через другие неидеологические отношения. Государственный человек все в большей степени хочет быть частным человеком. Это имело два взаимосвязанных следствия: легализацию массовой культуры и усиливающийся разрыв между «элитой» и массой. Последний связан с тем, что образованный слой оказался не в состоянии выполнять свои функции (включая и функцию критики, которая была уже неадекватна ситуации, так как велась по старым рецептам и диссидентским канонам). В результате СМИ оказались практически исключительно в сфере воздействия массовой или эпигонской культуры. Соединение этих двух моментов – снятие запрета, а значит, реабилитация массовой культуры, существовавшей до того лишь в качестве подавляемой, низовой, неофициальной, табуированной и дискредитированной, и выход ее на каналы СМИ, позволяющие быстро и впервые в таких масштабах тиражировать массовые значения и образцы уже в качестве санкционированных официальными инстанциями, – дало очень сильный и немедленный эффект.
Массовая культура оказалась очень важной составляющей сегодняшнего процесса. Ее низовые формы работают, во-первых, как механизмы, амортизирующие и замедляющие процессы эрозии символических структур (не на уровне собственно идеологических символов, а на промежуточном – в качестве остаточных или фоновых значений и смыслов, погруженных в сюжетику или риторические структуры массовой словесности, эстрады, публицистических передач и прочего). Во-вторых, структуры массовой культуры обеспечивают адаптацию немодернизированного сознания к представлениям и нормам культуры достижительского западного общества, к ее ценностям, моделям поведения, потребительским ориентациям. В этом смысле они, вводя изображение обстановки, бессознательного – само собой разумеющегося – отношения к вещам, к партнерам, работе, потреблению, детям и т. п., создают предельно суггестивный и ценностно нагруженный для новых категорий зрителей или читателей фон и оценку происходящего. Они усиливают существующие ориентации на дом, сферу приватности, культивацию чувственного, рафинирование и обогащение смыслом семейных, сексуальных, партнерских ролей как нерепрессивных отношений, задают новые эталоны достижительской мотивации, перевода привычного и естественного для советского менталитета «гемайншафтного» кода поведения и социального взаимодействия в «гезельшафтный», формальный, свободный, договорный, рациональный, лишенный лояльности идеологическим структурам и первичным коллективам.
Практически мгновенно распространяющиеся образцы тривиального видео, литературы, дизайна, утверждают этику личного успеха, индивидуального действия, веры в себя, что для советского общества представляется абсолютно новым и весьма значимым. Иными словами, массовая культура разыгрывает своего рода ритуалы модернизации, демонстрируя модели отношений, не встречавшиеся в советской действительности до сих пор – модели неполитизированного, неидеологизированного, негосударственного общества. (Показательно, что социальные и культурные сдвиги конца 1950-х – начала 1960-х годов сопровождались массовым интересом к индийской мелодраме, а нынешние перемены проходят под аккомпанемент мелодрамы мексиканской и аргентинской, Раджа Капура сменил Луис Альберто.) Содержательно массовая культура представлена главным образом двумя наиболее распространенными типами. Первый вариант сдвинут к прошлому, хотя и недавнему – к 1970-м годам. Его потребители – преимущественно люди пожилого, реже среднего возраста, чаще женщины. По составу – это лирически-государственная версия народной жизни (среди авторов и исполнителей преобладают Л. Зыкина, А. Пахмутова, Н. Добронравов, В. Тихонов – Штирлиц и др.), по жанровым особенностям – это мелодрама, эстрада, роман-эпопея, телесериал и т. п. Другой вариант столь же распространенной массовой культуры – молодежный, аудиовизуальный. Он, как правило, западного происхождения (рок-певцы, американское кино, переводная детективная или остросюжетная словесность). Модели действия, представленные в ней, для советского потребителя лишены любых этнографических или конкретных примет страны, истории, то есть выступают в качестве принадлежащих «мировой», универсальной, «современной» жизни или цивилизации. Для мужчин – это высокая оценка техники, рационального действия, установка на достижение, склонность к благосостоянию и комфорту и т. п. В женской версии – высокая оценка чувств и воображения, готовности сменить образ, риск, игра, заинтересованность в партнере. Важно, что в обеих версиях ощутимо усиливаются антиаскетические ценностные представления. Вообще акцентирование позитивной ценности богатства (а также сексуальности как непрепрессивной чувственности) являются открытой социальной декларацией: эта особенность поведения – чисто молодежная, подчеркнуто демонстративная в отношении уходящего поколения и его советскости, его ханжества и идеологичности. Еще одним моментом этой массовой, аудиовизуальной и западной по истокам культуры является интерес к запредельному – мистика, астрология, хиромантия. Это у молодежи. В более рутинной и пожилой аудитории этому функционально соответствует демонстрация своей принадлежности к обрядовому православию.
И тот, и другой вариант массовой культуры выступают одновременно как компенсация за страхи и напряжения, вызванные идущими социальными изменениями, дезорганизацией социального порядка. Растущая грубость, даже известное одичание жизни – неизбежное следствие разрушения стратифицированной, в частности, элитарной, культуры, сдерживаемой до того чисто механически: наличием жесткого властного контроля, репрессивных средств принудительной интеграции, атмосферой страха, в настоящее время медленно уходящего. Общество, интеграция которого обеспечивалась не традиционно сословными представлениями («честью», «благородством) и не социальной иерархией, основанной на ценностях достижения и богатства, а иерархией насилия, после разрушения его устоев оказывается перед проблемой чисто инструментальных ограничений применения насильственных средств. Это особенно заметно в среде, совсем недавно бывшей полуархаической, полутрадиционной, например, в республиках, где сегодня разгораются национальные конфликты. Агрессия здесь становится формой прямой коммуникации, как в полуурбанизированной среде крупных городов значение универсального средства общения, «нормального» языка социального взаимодействия получила грубость. Словесные оскорбления приходилось испытывать трети опрошенных (среди гуманитарных профессий – 45 процентов, среди обладателей крупных домашних библиотек – 62 процента). Это значит, что в других общественных слоях постоянная грубость не воспринимается как оскорбительная[23]23
См.: Левада Ю. А. Уходящая натура. // Знамя. 1992. № 6. C. 205.
[Закрыть]. Фоновая тревожность, зачастую не артикулированная, допускает любые обстоятельства для своего объяснения. В этом отношении диффузная агрессивность легко опредмечивается и персонифицируется. Поэтому 46 процентов опрошенных сегодня боятся стать жертвой преступления. Сохраняется также предпочтение жестких репрессивных методов контроля над поведением: 2/3 респондентов требуют сохранения или даже расширения применения смертной казни (лишь 6 процентов считают необходимым ее немедленную отмену). Но вместе с тем, характерен и отказ от разрешения свободной продажи оружия для самозащиты граждан – общество, без сомнения, перекладывает эту обязанность на государство, остающееся в массовом сознании могущественным, всесильным и жестоким. И одновременно – страх перед произволом властей (возврат к массовым репрессиям) распространен больше, чем страх пред преступниками. Заметно растет недоверие к окружающим (за три года доля опрошенных, которые заявили о своем «недоверии к людям», выросла в 1,5 раза).
Уже из сказанного выше становится ясно, что распределение тех или иных ценностных предпочтений и ориентаций имеет крайне неравномерный характер. В общем и целом, стоит отметить, что среди более молодых категорий населения (а они и более образованы, более начитаны и заинтересованы в разнообразной информации, более компетентны в своих суждениях и оценках) значительно шире распространены ценности и нормы терпимости к чужому – и к образу жизни, культуре, и к успеху другого, к экономическому неравенству, меньше ощутимы советские принципы социальной справедливости и эгалитаризма, уравнительности, меньше и проявлений этнической ксенофобии. Для них эти годы перестройки и гласности были наиболее значимым временем, временем социализации, а изменения в формах выражения различных точек зрения воспринимались куда более естественно и нормально, чем для старших поколений. Поэтому и обнажение реальных социальных ценностей и норм поведения для них не выглядело столь драматичным и шокирующим, как для части интеллигенции, «шестидесятников», в немалой степени еще задающих тон в средствах массовой коммуникации.
1993
Идеология бесструктурности: интеллигенция и конец советской эпохи
Исходной точкой для нас в этой работе является одно обстоятельство: слой носителей идеи «интеллигенции», мифологии интеллигентности фактически за один последний год (а особенно после декабрьских выборов) подвергся немыслимо быстрому разложению. Сочетание бессилия и агрессии, доминирующее в печати, заставляет признать, что представления об интеллигенции и ее роли – как о силе, соединяющей интеллектуальные ресурсы с моральным авторитетом держателей культуры и энергией подвижничества, о единой и сплоченной группе наставников молодой демократической власти, о просветителях народа – оказались иллюзиями определенного круга самих интеллигентов, уверовавших в то, что чаемое слияние народа, власти и духовных вождей наконец-то свершилось. Впереди предполагался единый для всех (как в других странах Восточной Европы, но более быстрый) путь к скорому успеху: «нормальному обществу», сочетающему демократические политические институты, свободу печати, общественное мнение и материальное изобилие (уж никак не ниже, чем в европейских странах) в качестве само собой разумеющейся награды за отказ от угрожающего всему миру тоталитаризма, за выбор «капитализма», за возвращение в семью цивилизованных народов. Сама мысль, что «какие-то там драконы», «Аргентина» либо «Чили» могут стать для России мечтой почти что несбыточной, большинству населения, и в первую очередь – образованным людям, казалась кощунственной. Стране с такими ресурсами, таким народом, такой духовностью могло быть уготовано только великое будущее. Прошло шесть лет. Ожидаемого расцвета не наступило. Напротив, вместо света разума и воздуха свободы хлынули чернуха, эпигонство и китч. В прессе почти безраздельно господствует стёб. Общим местом стала тема «катастрофы» и «гибели» профессиональной культуры под натиском полулюбительского рынка и переводной массовой продукции. Все громче голоса, кричащие о крахе фундаментальной науки и разбазаривании интеллектуального потенциала. Однако практически никаких новых идей и подходов в самой науке (говорим лишь о знакомых нам социальных и гуманитарных дисциплинах) за это время не появилось, господствуют инерция и рутина.
Вместе с тем, именно те проблемные области, которые всегда считались исключительным предметом внимания интеллигенции, оказались для нее непосильными. Это – национальная проблематика, сфера трансцендентного и религиозного, формы рационального познания, область политических целей и воли, модели социального развития, технологии политического строительства, автономия культуры как пространства индивидуального самоопределения, игры и воображения, экзистенциального опыта, цивилизационного или морального минимума повседневного существования, т. е. многообразие социального состава общества, интересов и взглядов различных социальных групп. Интеллигенция оказалась несостоятельной и в диагностике нараставших болезненных явлений и процессов, и в их рационализации, и в своего рода интеллектуальной терапии. Возьмем, например, национальное самосознание – как собственно русских, так и народов, входивших в бывшую советскую державу. Неготовность к пониманию процессов национальной консолидации, простое незнание фактических обстоятельств истории этих народов, их культуры, традиций, драматичности их взгляда на мир и на существование в рамках СССР, как оказалось, совершенно не компенсировались официально допущенной экзотикой и скупо переводимой литературой. Фактически русские интеллигенты оказались внутри официальной идеологии по национальным вопросам, характерной для ЦК КПСС. Обычным и общим способом реагирования на внезапный взрыв этнонациональной розни и ксенофобии, национальной мобилизации в республиках стало для подавляющего большинства вульгарное дистанцирование («это к нам не относится») и квалификация национальных движений и чувств как «националистических», то есть не просто оцениваемых негативно, а культурно неполноценных, эгоистических и сепаратистских.
Другая вроде бы приоритетная сфера размышлений интеллигенции как группы, порождающей символические формы и размечающей смысловые структуры реальности, – высшие ценности, предельные ориентиры существования. Единственной целостной смысловой системой, с которой имели дело и население страны, и ее интеллигенция, была советская идеология, в принципе отказывающая в артикуляции, в языке целым пластам существования – как высшим, трансцендентным, так и низшим, повседневно-бытовым. В конце концов, эту разметку смыслового мира приняла и интеллигенция как группа.
Господствующей идеологии здесь могли противостоять либо правозащитный кодекс, либо религиозное обращение. И то, и другое было формами вынужденной, внутренней, достаточно узкой по масштабам и нелегальной по статусу консолидации в условиях внешнего давления и контроля. Проблематика же сочленения различных слоев опыта и сфер жизни (включая культурные механизмы традиции), индивидуальный поиск ориентиров в конкретных обстоятельствах сегодняшнего существования, рационализация подобных усилий занимали кружковое сознание достаточно слабо.
В этих обстоятельствах и взрыв массовой религиозной обрядности после 1988 г., и нарастание неоязыческих и магических настроений в широких кругах образованной публики объектом интеллектуальной рефлексии для интеллигентских кругов не стали. Волна публикаций из наследия религиозных мыслителей 1900–1910-х гг. – «серебряного века» – вне подобного объясняющего и критического контекста либо вовсе не дает отклика, воспринимаясь то ли в качестве все еще запретного плода, то ли почтенной классики, либо порождает эклектические и пародийные сращения романтических и (вторично) магических представлений, характерных для полуобразованных читателей. Она без особого труда соединяет сыроедение по П. Брэггу с гумилевской идеологией пассионарности, К. Кастанеду и православную софийность, йогу с житиями святых, китайскую медицину с державностью И. Ильина или софиологией П. Флоренского, а Иоанна Кронштадтского с В. Пикулем.
Возводя в ранг классиков мыслителей 1910-х гг., нынешняя интеллигенция тем самым разгружает себя от этического осмысления современного материала, редуцируя всю сложность экзистенциальной проблематики к прошлым временам и образцовым ответам. Журнальные переиздания этих работ, равно как и эмигрантского наследия (например, Г. Федотова), заместили столь необходимую уже тогда и становящуюся все более необходимой теперь рефлексию над природой советского общества, особенностями его коллективной морали и социальности, потенциале развития и т. п. При всех бесконечных разговорах о растущей преступности, социальном расслоении, падении нравственности, коррумпированности, мафиозности, равно как и о религиозном ренессансе, нет никаких надежных систематических работ эмпирического либо концептуального плана обо всех этих явлениях.
Навязчивое стремление вернуться к вопросам и ответам столетней давности, к тому российскому обществу, которого в реальности больше нет, воспроизводит схематику культурного шока, определяющего типовые особенности интеллигентского сознания. В формах, казалось бы, самопонимания здесь снова и снова воспроизводится дистанция между интеллектуальным слоем и автономными позициями независимой мысли, самоответственного творчества, самостоятельно обретенного опыта. Это всегда положение неравноправных субъектов: значимый мир размечается и санкционируется для них кем-то другим, «не-отсюда». Между тем как раз определение чего-то в качестве «проблемы» не поддается заимствованию. «Проблемная ситуация» всегда складывается в индивидуальном существовании или внутри группы, артикулируется средствами данной культуры. Попытки же подражательной цитации «проблем», когда заимствуются либо осеняющие авторитеты, либо техника решения задач, снова репродуцируют исходную матрицу «догоняющего» сознания. Особенно явно это на переводах книг и статей по гуманитарным и общественным наукам. Стремление заиметь теорию или методологию прежде, а то и вместо предметной работы толкает нынешних гуманитариев – филологов, философов, социальных ученых и т. п. к перенесению в нынешнюю проблемную ситуацию наследия классиков (только теперь немарксистской парадигмы) или зарекомендовавших себя авторитетов предыдущих десятилетий (1960–1970-х гг.). Вместо работы в общем времени и диалога с коллегами-предметниками воспроизводится поза авторитетопочитания для внешнего наблюдателя и обладания крупнейшими достижениями современной науки – для самих себя.









































