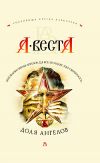Текст книги "Барон Унгерн и Гражданская война на Востоке"

Автор книги: Борис Вадимович Соколов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Около ста харачин не поверили китайцам и двинулись в Монголию в юго-восточном направлении, намереваясь пробраться к себе на родину, а остальные харачины переселились в Маймачен. Там по случаю их приезда начальник гарнизона устроил обед для командного состава и баню для нижних чинов. Во время пиршества помещение, где происходил обед, было окружено китайскими войсками, и все харачины арестованы. Нейсе-геген и 12 человек из командного состава были расстреляны, а остальные харачины переведены в Ургу, где были направлены на принудительные работы.
Избежавшая возмездия китайцев банда харачин, войдя в долину реки Иро, прошла целый ряд заимок русских колонистов и мелких русских золотых приисков. Все эти заимки и прииски подверглись полному разграблению, а русское и китайское население их не избегло издевательств и пыток. Особенно пострадали русские: Рассохин, Петров и Лизото, которых монгольские бандиты жгли каленым железом и вздергивали на дыбу, сделав калеками на всю жизнь…»
Но подобные инциденты никак не поколебали убеждения Унгерна об исключительных моральных качествах народов Востока, у которых должны учиться погрязшие в грехе разврата и революции европейцы. Он надеялся с их помощью повернуть вспять колесо истории, вернуть монархам их троны.
Летом 1919 года, как мы помним из рассказа Вериго, Унгерн отправился в Пекин для установления контактов с китайскими монархистами. 16 августа в харбинской церкви он венчался с «маньчжурской принцессой». Как отмечает в мемуарах Волков, «перед походом в Монголию… Унгерн неожиданно для всех женился на дочери китайского генерала, «хранителя ключей пекинского дворца». В отряде его много потешались над этим браком, говоря, что брак этот «характера династического исключительно». Торновский уточняет, что, согласно семейной хронике Унгернов-Штернбергов, изданной в Риге в 1940 году, «барон, генерал Р. Ф. Унгерн-Штернберг женат первым браком на принцессе Цзи, рожденной в 1900 г. в Пекине и в браке именовавшейся Еленой Павловной». По словам Торновского, «баронесса Елена Павловна жила на ст. Маньчжурии, в то время как супруг жил на ст. Даурия, когда не был в походах против большевиков. Изредка супруг навещал баронессу. В 1920 г. в мае или июне месяце генерал Унгерн, снабдив жену приличными денежными средствами, отправил в Пекин «в отчий дом». Многое говорит за то, что судьбой своей жены генерал Унгерн не интересовался… Генерал Унгерн был большой враг женщин, и надо полагать, что женитьба его на принцессе Цзи имела чисто политический характер и вытекала из назойливой идеи: «реставрация китайской монархии», и женитьбой он приближался к претендентам на китайский законный императорский трон». Принцесса Цзи была родственницей генерала Чжан Кунью, командовавшего китайскими войсками в Маньчжурии на западном участке КВЖД. С ним Унгерн постоянно переписывался. Существует легенда, что от этого брака у Унгерна родился сын, но достоверных данных о нем нет.
Как полагает Евгений Белов, «спал ли Унгерн хоть одну ночь с этой «принцессой» – неизвестно… Барон не имел никаких связей с женщинами и был жесток с ними: во время своего пребывания в Монголии (1920–1921) он за малейшую провинность приказывал Сипайлову и другим палачам бить их палками, а иногда расстреливать и вешать. Необычайная жестокость! Его женоненавистничество, видимо, было связано с тем, что он физически не мог вести половую жизнь с женщинами. Юзефович выдвинул предположение, что Унгерн был гомосексуалистом. Но едва ли это предположение верно. Ведь барон ежедневно, ежечасно находился в гуще своих солдат и офицеров, скрыть этот порок, если он имел место, было невозможно. В воспоминаниях сослуживцев Унгерна не содержится даже намека на то, что ему были присущи гомосексуальные наклонности. Мы можем только предположить, что в половом отношении он страдал каким-то недостатком».
Скорее, думаю, дело здесь в природном аскетизме барона, его убеждении, что женщина на войне может только мешать воину. Что же касается Сипайлова, то тот действовал по приказу и с ведома Унгерна. На допросе у красных барон показал: «Деятельность в Урге полковника Сипайло, выражавшаяся в расстрелах, убийствах, конфискациях, была Унгерну известна так же, как и его пьянство. О насилиях его над женщинами Унгерн не знает и считает эти слухи вздорными».
Строго говоря, на общий исход войны с большевиками силы Семенова и Унгерна в Забайкалье никак не влияли. Сам Унгерн также в то время самостоятельной роли не играл. Его самостоятельность ограничивалась реквизицией грузов, проходящих через Даурию. Положение изменилось, когда в ноябре 1919 года рухнул Восточный фронт белых. Красные войска вплотную приблизились к Забайкалью, что вызвало подъем там партизанского движения.
По мнению Д. Р. Касаточкина, «Унгерн рассматривал реквизиции, исходя из собственных (порой специфических) представлений о дозволенном. Согласно его понимания изъятия необходимых средств на борьбу (даже у невиновных) являлось не преступлением или военной добычей. Барон оценивал это как способ борьбы с большевиками и спасения гибнущий России. Видя, как какой-нибудь состав пушнины вывозится за границу из погибающей страны, чтобы наполнить золотом чей-то бездонный карман, Унгерн считал, что он сам использует данный груз более благородно. Таким образом, мнение о том, что Унгерн ненавидел «своих» куда сильнее, чем большевиков имеет основание». Яир ж, таким же образом пытались «восстановить справедливость» и другие атаманы Гражданской войны. Но подобная «борьба за справедливость» разлагала колчаковский тыл и фактически помогала красным. Унгерновцы конфисковывали как деньги, золото и драгоценности, так и большие партии товаров, которые потом продавали в Маньчжурии по бросовым ценам. А упрямившиеся пассажиры рисковали лишиться не только имущества, но и жизни.
Видно, Унгерн основательно достал каппелевцев своим своеволием. Бывший начальник 4-й Уфимской дивизии генерал-майор Павел Петрович Петров так передает в мемуарах свои безрадостные впечатления от встречи с семеновцами и унгерновцами: «Вооруженные силы атамана Семенова к моменту прихода каппелевцев ни по количеству, ни по качеству не представляли надежной опоры его власти. Неудачи под Иркутском, крушение фронта на востоке отразились и на них в сильной степени. В штабе у него считали, что на 20 января было около 7200 штыков и 8880 шашек, а за месяц до 20 февраля разбежалось 2700 штыков и 1900 шашек, причем насчитывали в оставшихся надежных только около 2000 штыков и столько же шашек. Из всех оставшихся сил азиатская конная дивизия барона Унгерна, стоявшая в районе ст. Даурия, представляла собой скорее угрозу для власти, чем опору, так как барон был ни с кем не считавшийся, своего рода военный авантюрист. Его в Чите называли соловьем-разбойником на пути в Харбин.
Семеновцы и каппелевцы подчинялись общему командованию в лице ген. Войцеховского, как командующего Дальневосточной армией, и главному командованию в лице атамана Семенова. Предполагалось, что в Чите для управления всеми армейскими вопросами будет один штаб, почему командующий армией считался одновременно начальником Штаба Главнокомандующего. Но все же оставался как бы другой штаб – помощника атамана по военной части – генерал-юрист Афанасьев и, кроме того, начальник личной канцелярии атамана Власьевский. Через этих приближенных атаман развил такую систему назначений, наград и чинопроизводства, что окончательно развратил военнослужащих. Всякий, кто хотел и умел, мог добиться производства за неведомые заслуги. Войцеховский добивался, чтобы всякие награды делались по его представлению, но все это обходилось. Атаман на словах охотно соглашался с доводами Войцеховского, а на деле все шло, как раньше. Были такие недоразумения, что давали повод думать, как будто атаман не понимает пределов своей власти и не считается с военными узаконениями.
В апреле месяце Войцеховский оставил свой пост. Его место занял генерал Лохвицкий. Положение не изменилось. Лохвицкий также не мог закрывать глаза на попустительства со стороны атамана, допускаемые им для прятавшихся за его спину приятелей. На этой почве часто возникали недоразумения. Не мог он допустить и особого положения для барона Унгерна и его контрразведки, когда получались сведения о беззакониях в Даурии и даже о преступлениях…
Серьезной работы для подготовки тыла к сопротивлению не производилось. Ей сначала мешал барон Унгерн, безраздельно властвовавший в районе Даурии, а затем политическая игра атамана. Барон Унгерн в середине октября покинул свое насиженное гнездо на ст. Даурия, возможно, недовольный атаманом, и двинулся походным порядком в пределы Внешней Монголии».
Унгерн продолжал задерживать проходившие через станцию поезда и брал из них все необходимое для дивизии по своему усмотрению. Это вызывало недовольство каппелевцев. Впрочем, подобным «самоснабжением» в Гражданскую войну занимался не он один, тем более что боеприпасы и продовольствие от атамана Семенова поступали в дивизию нерегулярно.
Но кое-кто из каппелевцев сказал об Унгерне и доброе слово. Так, уже упоминавшийся генерал Владимир Александрович Кислицын вспоминал: «Из Борзи моя дивизия перешла на станцию Даурия, где я сменил части барона Унгерна. С бароном Унгерном я близко познакомился еще тогда, когда жил на ст. Борзя. Он часто приезжал ко мне в своем поезде. Мы много дружески беседовали с ним. Это был честный, бескорыстный, неописуемой храбрости офицер и очень интересный собеседник. В Даурии я сдружился с ним еще больше. Бывало, он сидит у меня до тех пор, пока не придет моя жена или кто-нибудь из дам. При их приходе он тотчас же старается встать и попрощаться: терпеть не мог женщин. Безумно смелый человек, он страшно стеснялся дам.
Неприхотливость и нетребовательность барона Унгерна к личным удобствам были изумительными. В Даурии он отдал в мое распоряжение всю свою квартиру, а сам перебрался в какую-то комнатку. Вообще, он был большим оригиналом по натуре. Например, на чердаке своего дома в Даурии он держал почему-то волков (видно, барон чувствовал свое внутреннее родство с этими животными. – Б.С.)…
На службе это был очень строгий и требовательный начальник. Особенно строгим он был по отношению к офицерам. Рыцарь и идеалист по натуре, он требовал рыцарства и от окружающих его офицеров. Всякая бесчестность, трусость или корыстолюбие вызывали в нем взрыв негодования, и тогда он был страшен в своем гневе для провинившегося. Его отношение к солдатам отличалось большой заботливостью об их нуждах. Как человек редкой бескорыстности, он не тратил на себя почти ничего, и все отдавал на свою дивизию. Сам он ходил в рваных, заплатанных шароварах и старой шинели.
Все время барон Унгерн звал меня идти вместе с ним в задуманный им поход в Монголию. Он предлагал мне командование над нашими соединенными силами (Кислицын, напомню, командовал самой боеспособной в семеновском войске Особой маньчжурской дивизией. – Б.С.) и говорил:
– Ты будешь командиром корпуса. Я подчинюсь тебе и буду тебя слушать и все исполнять. Иди только с нами.
Я не верил в успех задуманной операции, да, кроме того, и не считал возможным отрываться от армии атамана Семенова, считая своим долгом разделить то, что пошлет судьба войскам обожаемого нами вождя. По всем этим соображениям я не согласился с предложением барона Унгерна.
Накануне своего похода барон пришел вечером ко мне, отдал обручальное кольцо своей жены-китаянки и золотой портсигар. Все это он просил меня хранить у себя. Я отказался лично брать эти вещи на хранение. При бароне, я позвал моего помощника генерал-майора Саблина и начальника штаба дивизии полковника Мельникова и передал им вещи барона для хранения в денежном ящике штаба дивизии.
Кроме того, отправляясь в поход, барон оставил мне передаточную записку на все свое имущество, находившееся в его квартире. Эта записка хранится до настоящего времени. Она гласит так:
«Обстановку моей квартиры, собственность Азиатской конной дивизии, передаю начальнику 1-й сводной Маньчжурской атамана Семенова дивизии генерал-лейтенанту Кислицыну. Генерал барон Унгерн. 15 августа 1920 г. Даурия».
Эта краткая записка барона Унгерна о передаче мне его собственного имущества является еще одним доказательством бескорыстности и исключительной честности и идеализма барона. Даже на обстановку своей квартиры он смотрел, как не на свое имущество, а как на собственность Азиатской конной дивизии.
По мнению этого идеалиста и горячего патриота, все силы и все средства должны были направляться в этот трагический период России только на борьбу с большевиками. Ничего для себя. Все для России. Отсюда становится понятным и нетребовательность барона к удобствам, и почти полный отказ его от собственности, и его жестокость к корыстолюбцам и лицам, небрежно относящимся к обязанностям.
Что бы ни говорили о жестокости барона и его сумасбродствах, надо признать, что это был выдающийся человек. Таких на редкость честных и преданных идее Белого движения людей было слишком мало!
Все имущество, находившееся на квартире генерала Унгерна, мною было передано по описи генералу Саблину и полковнику Мельникову. После в квартиру барона въехал генерал Артамонов.
Прощаясь со мной, генерал барон Унгерн еще раз просил меня принять командование над его отрядом. Он обещал обеспечить мою жену золотом так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Я отказался. Простились мы с ним очень сердечно: расцеловались, а барон даже прослезился. Больше я этого честного, бескорыстного воина уже не видел. Он погиб от руки наемных красных убийц.
Незадолго до отправления барона в поход, в церкви его дивизии, а затем на квартире Унгерна, было совершено бракосочетание его помощника – генерала Жуковского. Генерал барон Унгерн был посаженным отцом, а я шафером.
После отъезда генерала барона Унгерна в Монголию в Даурию прибыл наш дорогой гость, атаман Семенов».
Спору нет, все современники сходятся на том, что Унгерн был аскет, бессеребреник, человек по-своему честный. Многие из них полагают, что барон вел образ жизни почти монашеский. Отсюда и отказ от собственности, и отсутствие интереса к женщинам (до 1918–1919 годов, по всеобщему убеждению, барон был девственником). Но Кислицын не упоминает о другом важнейшем обстоятельстве: Унгерн был фанатиком идеи. Причем это была отнюдь не Белая идея, а более чем архаичная идея возрождения Срединной империи Чингисхана и культа средневековых рыцарей-монахов. И фанатизм барона приводил к тому, что в своих подчиненных и просто встречавшихся ему людях он всегда находил изъяны: или корыстолюбие, или пренебрежение к обязанностям. С точки зрения Унгерна, идеальные солдаты – это точные машины, отличающиеся пренебрежением к любым материальным благам и одушевленные идеей борьбы с революцией, восстановления монархий во всем мире и создания Великой империи желтой расы. Естественно, у него было очень мало солдат и офицеров, отвечавших этим жестким критериям. Поэтому повод для наказания в виде расстрела, порки или сидения на крыше находился всегда. Подчиненным все это, естественно, не нравилось, так что тот бунт, который и привел к краху унгерновской эпопеи, был неизбежен.
Также очень легко было обвинить в корыстолюбии всех попадавших в руки барона коммерсантов, будь то в Даурии или в Урге, чтобы вывести их в расход или, в лучшем случае, основательно поколотить палками, чтобы присвоить их имущество и обратить его на нужды дивизии. Тем более что Унгерн вообще не терпел буржуазию, считая, что от «спекулянтов» один только вред.
Очевидно, сильнейший комплекс неполноценности, присущий Унгерну, требовал постоянно искать и находить какие-то изъяны в окружающих, иначе он не мог спать спокойно.
Конечно, себе Унгерн ровно ничего не брал. И так же, как он, снабжались, повторю, и атаман Семенов, и многие другие белые атаманы и генералы, особенно на востоке России. Кстати сказать, бессребрениками были и красные атаманы, в том числе Думенко и Миронов, и батька Махно и другие зеленые атаманы.
Разумеется, такая система отпугивала состоятельных людей от таких атаманов и дискредитировала Белое движение в глазах населения (от «самоснабжения» страдали нередко не только богатые, но и середняки, и бедные, у которых отнимали последнее). Выход был бы в правильной организации местной власти и сборе налогов по твердо установленной шкале (и частью – в натуральном виде), не допуская безвозмездных реквизиций. Однако ни одной белой армии в Гражданской войне эффективную систему власти и сбора налогов наладить так и не удалось, и в этом была одна из причин поражения белых. Кстати, неспособность организовать тыл и наладить снабжение во многом проистекала из узости социальной базы белых.
Интересно в рассказе Кислицына предложение возглавить монгольский поход, сделанное ему Унгерном. Счастье Владимира Александровича, что он это предложение не принял. Если бы принял, то, скорее всего, разделил бы судьбу полковников Казагранди, Михайлова и многих других, жизнью заплативших за стремление к самостоятельности. Унгерн терпеть не мог подчиняться кому-либо, а от подчиненных, наоборот, не терпел даже малейших возражений. Наверняка в Монголии барон нашел бы способ отстранить Кислицына от командования а потом – и уничтожить. В лучшем случае тот мог бы пострадать от баронской палки. А еще у него был бы шанс погибнуть в ходе заговора против Унгерна от рук заговорщиков, как это произошло с унгерновским другом генералом Резухиным. А может быть, Владимир Александрович отказался идти с Унгерном в Монголию потому, что, хорошо зная характер барона, он заранее просчитал все возможные последствия и испугался. В мемуарах он, разумеется, об опасных для окружающих чертах характера «даурского барона» писать не стал. В эмиграции в Китае Кислицын твердо держал сторону Семенова, до конца своих дней сохранившего, по крайней мере, публично, теплые чувства к Унгерну. Нужно было создавать образ Унгерна как светлого рыцаря белой идеи, и темные пятна с его лика следовало убрать.
А реквизиции, кстати сказать, Унгерн в Даурии проводил широкомасштабные. Например, 1 января 1919 года, на станции Даурия по приказу Унгерна, тогда уже – начальника Инородческой дивизии, были задержаны 72 китайца, ехавшие под охраной чешских солдат. Благодаря чехам, их отпустили с миром, но перед этим у них было изъято более 6,5 млн рублей. А начальник войскового штаба Забайкальского казачьего войска войсковой старшина Иннокентий Хрисанфович Шароглазов в своих показаниях перед созданной правительством Колчака Чрезвычайной следственной комиссией по расследованию противозаконных действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц, данных 20 марта 1919 года, в разгар конфликта между Омском и Читой, утверждал: «В деятельности особого Маньчжурского отряда играли большую роль так называемые реквизиции, которые процветали первое время после ликвидации большевиков и продолжаются и теперь. Приходит какой-нибудь отряд в станицу или село. Кто-либо укажет, что такой-то – большевик. Указанное лицо арестуется, подвергается порке, а его имущество реквизируется… В июле месяце (1918 года. – Б.С.) по инициативе Таскина, когда он был во Временном Забайкальском правительстве, был реквизирован бароном Унгерном по правому берегу Аргуни у жителей скот в количестве 8000 баранов и тысяча лошадей и около 400 рогатого скота. Таскин предполагал, что вырученными от продажи скота деньгами будут удовлетворены пострадавшие от большевизма. Скот этот продавался в Хайларе, но куда пошли деньги, неизвестно».
Точно так же комиссия не выяснила, куда делись свыше 6,5 млн рублей, конфискованных у китайцев, но не приходится сомневаться, что за границы унгерновского удела в Даурии они не вышли.
Сохранился любопытный отчет бывшего начальника гарнизона станции Маньчжурия генерал-майора Владимира Ивановича Казачихина, адресованный особой следственной комиссии по реквизициям и датированный второй половиной 1920 года. По распоряжению Хорвата Казачихин был посажен в тюрьму в Харбине по обвинению в злоупотреблениях в бытность на станции Маньчжурия, и теперь пытался оправдаться. Он, в частности, писал, сваливая всю ответственность на Унгерна: «Жалование мы получаем только от барона, да и мне было приказано изыскать источники, откуда брать его, ввиду хронического безденежья у барона Унгерна в дивизии.
Теперь скажу о бароне Унгерне – человеке живого дела, боевом, органически не терпящем никакой канцелярии и бумаг, бросающем их в печь или жгущем, как тормозящие живое дело. Он приказал все бумаги отправлять в Даурию, которые шли из Читы ко мне. Достаточно посмотреть на его канцелярию. Чины от начальника штаба до писарей включительно менялись, как в калейдоскопе. Долго сидеть – надоедает писать. Станешь просить предписание – в ответ: «Вам бумагу – хорошо, Вам пошлют бумаги целый пакет». Такой ответ получил и полковник Шарыстанов – живой свидетель. Барон все на словах приказывает, и всегда мне говорил, что не я главное лицо во всех этих реквизициях, а он, барон, и за все ответит, а я лишь потому подписываю, что живу в Маньчжурии, где находится товар, и что я раз получаю жалованье, то обязан не разговаривать, а исполнять. Именно он приказывал реквизировать товар, принадлежащий бывшему Омскому правительству, как никому не принадлежащий. На мои рапорта я или вовсе не получал ответа, или через офицеров, и вообще писание велел сократить, так как всю ответственность он берет на себя. Затем он велел избавить его от хозяйственных вопросов, а с этими вопросами обращаться к коменданту дивизии, полковнику Краснокутскому, и исполнять его все просьбы, так как у барона очень много дела. Чтобы ближе познакомиться с поручением барона, хотя с одним, я укажу на телеграмму № 2741, где барон просит достать 6 500 000 руб., скорей пойти в день, разрешая мне продать все что угодно и как угодно, но только скорей, и уже приехал офицер за деньгами. Этим он брал ответственность за какой угодно грех.
Впрочем, если войти в положение барона, сознавая по части борьбы с большевиками, нужно было удовлетвориться всем, иначе бунтуют, что было в Даурии, и бегство чуть ли не целых частей, уводили лошадей, как это сделала одна батарея, уводя всех орудийных лошадей, которых за большие деньги собрали по одной, и целая часть исчезла. Все это заставляло барона ни с чем не считаться. Слова барона – что не время теперь канцелярией заниматься, когда отечество погибло. Надо создавать его, помогая атаману, осталась лишь узкая 400-верстая полоса до Читы, да и ту прерывают большевики. А ведь одевать, снарядить, вооружить и прокормить тысячи людей и лошадей в течение почти года при современной дороговизне что-нибудь да стоит. Источником для этого была лишь только реквизиция, ею даже долги платили и покупали на нее. Потом барон кормил рабочих железнодорожных и вдов в Даурии, раздавая им и бурятам-казакам мануфактуру… Барон неоднократно, да и не откажется подтвердить: все реквизиции и все, что я делал, исходило от него. Зная барона 10 лет и веря ему, скажу, что он не из тех, что будет прятаться за чужую спину, и я уверен и теперь – он не откажется. Мне лишь приказывали исполнять, и даже в упрек поставлено, что я, старый командир полка, не знаю, что не тот отвечает, кто исполняет, а кто отдает приказания. В случае неисполнения мне грозил расстрел или арест. Я знаю, барон словами не играет, что и было, когда я позволил не исполнить приказания барона, свидетель сотник Еремеев. Ему приказано меня арестовать, и только я упросил барона не подрывать моего авторитета. Я почти 25 лет офицер и ни разу не сидел под арестом. При аресте барон сказал мне, что «при повторении он меня пошлет в сопки», то есть на расстрел. Легко ли так служить старому офицеру и служить, потому что некуда голову положить? Ограбленный и арестованный большевиками, я не имею средств к жизни…
Реквизированных товаров я почти не видел. Приходил из Даурии паровоз, прицеплял вагон с товарами и увозил его… В июле месяце с. г., когда атаман был в Маньчжурии и сказал, чтобы я был в стороне от реквизиции, я просил его дать мне письменное приказание, чтобы я мог его показать барону, так как атаман знает барона, что он ни на что не смотрит, а для меня было основание. Атаман или не обратил на мои слова внимания, или считает довольным словесное приказание. В моем положении не сделать – барон расстреляет, а сделать – атаман может приказ отдать и расстрелять.
Я получил приказ от барона раздать муку и другой товар родственникам и вдовам убитых солдат и служивших в отрядах…
Исполняя различные приказания барона, я в свою очередь доверял ему. Раз он говорит, так и будет…
Я был в полной уверенности, что все реквизируемое доходит до Даурии. Приезжают из Даурии от полковника Краснокутского и передают благодарность за разный товар. Значит, получено. Я не бежал в Харбин, а приехал по поручению барона и лечиться, правда, барон послал меня в Японию или Китай и хотел дать средства. Если бы я бежал, то не в Харбине надо оставаться. Если меня не арестовали, а просто бы вызвали – я бы приехал. Мне 50 лет (пятьдесят), куда бежать? Все, что мною создано – по распоряжению барона и на нужды дивизии, я себя считал обязанным исполнять всякие поручения, ибо он мне давал кусок хлеба, и благодаря ему я был сыт, да и если бы не исполнил, мне грозило наказание – нелегко служить. Была бы возможность, конечно, ушел бы, а то ни пенсии, ни средств нет, а у меня жена, племянники – надо их содержать».
Это – настоящий крик души пожилого, заслуженного генерала, волею обстоятельств оказавшегося в дивизии Унгерна и бессильного противостоять «сумасшедшему барону». А ведь Владимир Иванович Казачихин был кавалером ордена Св. Георгия 4-й степени еще за Русско-японскую войну. Он был награжден «за выдающийся подвиг самоотвержения в мае 1904 года, когда, вызвавшись на чрезвычайно опасную разведку, он проник глубоко в тыл японской армии и, наблюдая движения противника, доставил главнокомандующему два весьма ценных донесения, выяснивших направление движения главных японских сил. А перед Унгерном все равно сробел. В 1907 году Казачихин был подъесаулом 1-го Аргунского полка, там, видно, и познакомился с бароном. Унгерн давал своим подчиненным то же оправдание, что позднее Гитлер: я отвечаю за все, преступление может совершить только тот, кто отдает приказ, но не тот, кто его исполняет, даже если приказ впоследствии признают преступным. Прежде чем родилось знаменитое: «Фюрер думает за нас!» было: «Унгерн думает за нас!» Гитлер, кстати сказать, здесь существенно отличался от советских вождей, которые очень не любили, особенно публично, брать на себя ответственность за массовые убийства «классово чуждых элементов» и часто в пропагандистских целях представляли это как «народный гнев» или «инициативу с мест». Так было, в частности, с убийством царской семьи и адмирала Колчака, осуществленными по приказу Ленина, но представленные как самостоятельные решения местных властей. Да и приговор Унгерну, кстати сказать, Ленин предопределил своим письмом еще за несколько дней до начала процесса.
Казачихин в своем письме очень хорошо передает психологическое состояние подчиненных Унгерна, вынужденных проводить расстрелы и реквизиции из боязни не исполнить приказание барона, и в то же время пребывавших в постоянном страхе, что за исполнение унгерновских приказаний их может покарать атаман Семенов или какая-нибудь иная власть. Владимир Иванович не скрывает и шкурнического мотива: барон щедро оплачивал верность себе. Его жалованья хватало офицерам и генералам, выплачиваемого, в отличие от других белых частей, регулярно и, как правило, твердой валютой, золотом и серебром или ликвидными товарами, и до поры до времени служба в Азиатской дивизии обеспечивала безбедное существование.
Есть и восторженная зарисовка тех же «даурских будней», принадлежащая перу Владимира Ивановича Шайдицкого, из штабс-капитанов произведенного Унгерном сразу в полковники. Он командовал одним из полков Азиатской дивизии. Шайдицкий так описывал унгерновскую вотчину: «Даурия стала опорным пунктом между Читой и Китаем, и дивизия несла охрану длинного участка железной дороги от ст. Оловянная включительно до ст. Маньчжурия включительно. Состав дивизии: Комендантский эскадрон в 120 шашек, 3 конных полка, Бурятский конный полк, 2 конных батареи и Корейский пеший батальон. Дивизия была весьма дисциплинированная, одета и обута строго по форме (защитные рубахи и синие шаровары), офицеры, всадники и конский состав довольствовались в изобилии, жалованье получали в российской золотой монете, выплачиваемое аккуратно. Всем служащим и рабочим линии железной дороги Оловянная – Маньчжурия жалованье, также золотом, выплачивалось бароном. Ежедневно выдавалось по одной пачке русских папирос и спичек. Если попался пьяный, расстреливался немедленно, не дожидаясь вытрезвления. А кто подавал докладную о разрешении вступить в законный брак, отправлялся на гауптвахту до получения просьбы о возвращении рапорта (тут Шайдицкий преувеличивает, поскольку дальше сам пишет, что, когда он подал барону рапорт с просьбой разрешить вступить в первый законный брак, Унгерн не только разрешил, но и направил местному священнику записку с просьбой венчать молодых в пост, что противоречило церковным канонам. – Б.С.). Питался барон бараниной и пил самый лучший китайский чай и ничего другого не пил и не курил. Женат был на китайской принцессе, европейски образованной (оба владели английским языком), из рода Чжанкуй, родственник которой – генерал, был командиром китайских войск западного участка Китайско-Восточной железной дороги от Забайкалья до Хингана. Он свободно говорил также на монгольском и бурятском языках (степень владения Унгерном этими языками Шайдицкий преувеличивает, тем более что сам он их не знал. – Б.С.) …
На путях стоял длинный эшелон из вагонов 1-го класса и международного общества, задержанный бароном до прохождения своих частей. Наблюдая за жизнью в вагонах, из которых никто не выходил, зная, что барон поблизости, я стоял на перроне. Ко мне подошел барон и спросил: «Шайдицкий, стрихнин есть?» (всех офицеров он называл исключительно по фамилии никогда не присоединяя чина). – «Никак нет, ваше превосходительство!» – «Жаль, надо всех их отравить». В эшелоне ехали высокие чины разных ведомств с семьями из Омска прямо за границу…
Отдельная Азиатская конная дивизия, строго говоря, не имела штаба дивизии, ибо нельзя же назвать штабом сумму следующих должностных чинов: барон, казначей – прапорщик, интендант – полковник со своим большим управлением, его два ординарца – офицеры и генерал-майор императорского производства, окончивший военно-юридическую академию, представлявший из себя военно-судебную часть штаба дивизии в единственном числе и существующий специально для оформления расстрелов всех уличенных в симпатии к большевикам, лиц, увозивших казенное имущество и казенные суммы денег под видом своей собственности, всякого рода «социалистов» – все они покрыли сопки к северу от станции, составив ничтожный процент от той массы, которой удалось благополучно проскочить через Даурию, наводящую ужас уже от Омска на всех тех, кто мыслями и сердцем не воспринимал чистоту Белой идеи. Расстрелы производились исключительно всадниками комендантского эскадрона под командой офицеров по приказанию командира этого эскадрона – подполковника Лауренца (кадрового офицера Приморского драгунского полка), который в свою очередь получал на это личное приказание барона».