Текст книги "Отнимать и подглядывать"
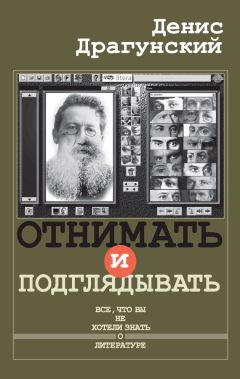
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
Ответ Солоневича
Самая лучшая, самая живая и при этом самая научно проницательная книга про диктатуру большевиков была написана довольно давно. Представьте себе, до 1937 года. И она была издана, вот что удивительно. В Софии, в 1936 году, и сразу была переведена на иностранные языки. Книга называется «Россия в концлагере», написал ее Иван Солоневич (1891–1953), более известный у нас как автор трактата «Народная монархия».
«Россия в концлагере» – книга объемистая (почти 600 страниц), подробная и точная, написанная очевидцем и жертвой коммунистических безумств. Книга умная, дающая точный анализ технологий советско-партийно-чекистской власти, описывающая конфликты поколений внутри репрессивного аппарата, демонстрирующая всю мерзость советского режима, всю его осмысленную жестокость, а также всю его опасность для европейской и мировой цивилизации.
Ибо, как доказано в этой книге, миллионы жизней и годы нечеловеческого труда были принесены в жертву не для России и ее народов, а для мировой революции, то есть для войны со всем миром. В книге мельком упоминаются и другие тайны советской власти: голод и людоедство на Украине, разорение и истребление Казахстана, восстания на Северном Кавказе.
Всё это было написано и опубликовано в 1936 году в Европе, но все западные гуманисты, бесчисленные Ромены Ролланы и Бертраны Расселы, не обратили на этот документ никакого внимания. Не возмущались, не посылали запросы в свои парламенты, не публиковали пламенных статей вроде «Я обвиняю!» или «Не могу молчать!».
Понадобилось сорок лет, чтобы «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына был воспринят на Западе со всей серьезностью. Дело, собственно, не в годах взросления. Леволиберальный Запад резко поумнел перед лицом шестикратного военного превосходства СССР в Центральной Европе. Говорят, что жизнь проста. Это неправда. Она гораздо проще, чем нам кажется.
На первый взгляд, Солженицын и Солоневич похожи. В обоих нет ни грана левизны. Оба сочувствуют больше всего мужику, работнику, которого коммунисты оторвали от земли и бросили в лагерь. И меньше всего – репрессированному аппаратчику. Обоим свойствен легкий националистический крен.
Однако разница между ними более существенна.
Солженицын – это обманутая вера гражданина в государство. Это утраченные иллюзии по поводу разумности происходящего. Это страх фраера («социально далекого» интеллигента или просто законопослушного горожанина или крестьянина) перед блатным («социально близким» уголовным преступником). Лирический герой Солженицына – это слабый человек, влюбленный в государство беспомощной и обидчивой сыновней любовью.
Солоневич – это холодный взгляд сильного и умного человека, которому чужды страхи и иллюзии. Он прежде всего джентльмен. Он любит своего сына, своего брата, свою жену, которую загодя сумел отправить за границу. Любит свою несчастную Россию. Он любит их по-настоящему – потому что еще сильнее он любит честь, как рыцарь из старой английской баллады.
Возможно, все дело в том, что Солженицын не видел другой власти, кроме советской. А Солоневич повзрослел еще в той России. Поэтому он так брезглив к большевикам. Он писал: «У меня перед революцией не было ни фабрик, ни заводов, ни имений, ни капиталов. Я не потерял ничего такого, что можно было бы вернуть в случае (антисоветского. – Д.Д.) переворота. Но я потерял семнадцать лет жизни, которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции. Когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны – это еще терпимо. Но когда от вас под угрозой того же револьвера требуют, кроме штанов, еще и энтузиазма, жить становится вовсе невмоготу, захлестывает отвращение. Вот это отвращение и толкнуло нас к финской границе».
Его арестовали за первую попытку бежать в сентябре 1933 года. Ему еще повезло – указ о смертной казни за побег из страны был принят 8 июня 1934 года. Важнейшая, кстати говоря, дата в нашей истории: в этот день СССР официально объявил себя тюрьмой; обидно, конечно, но очень поучительно. Но это к слову.
28 июля того же года Иван Солоневич с сыном и братом успешно бежали из лагеря, с Беломорстроя. Благодаря чему мы сегодня читаем «Россию в концлагере». Вернее, так и не прочитали. К сожалению.
Итак, почему наши домохозяйки-телезрительницы любят Сталина?
Ясно, что «домохозяйки» – это метафора, а говорить надо шире: почему значительная часть народа до сих пор поклоняется этому тирану и садисту? Почему по поводу осуждения сталинизма наша вообще-то трусоватая публика осмеливается даже президенту России возражать, направляя в его блог ужасающие калькуляции: дескать, не так уж много миллионов погибло, и всех уничтожили за дело. Почему героическую победу в великой войне многие приписывают именно Сталину, а не армии и народу? Почему они восторженно принимают на веру любую панегирическую чушь о Сталине, но с паранойяльной скрупулезностью вчитываются в любые антисталинские публикации, злорадно выискивая мельчайшие противоречия и расхождения цифр? В самом деле, почему?
Журналисты говорят: нынешняя жизнь домохозяйкам не нравится, они обращаются к прошлому в поисках некоего идеала, и вот, мол, поэтому они любят Сталина. Действительно, жизнь в стране не сахар, соглашусь с домохозяйками. Но тогда уже мой вопрос: но почему именно эпоха Сталина? А не брежневский застой, не хрущевский энтузиазм, не Серебряный век, наконец, с его промышленным рывком и культурным расцветом?
Чтобы понять это, надо спросить: а что именно не любят домохозяйки в нынешней жизни?
Короткий и неправильный ответ: им не нравится отсутствие порядка.
Увы, дело обстоит ровно наоборот.
Сталинский «порядок», а также «большие цели» – это радужная пленка на бездонном бурлящем болоте. Большего безобразия, беззакония, бардака, большего отрицания культуры, чем случилось в СССР в 1920–1940-е годы, трудно себе представить. Ибо культура – это взаимоотношения людей, а не дворцы, балеты и романы «большого стиля». Там, где людей уничтожают по классовому признаку или просто по доносу соседки, о культуре лучше молчать. Культуры нет и в коммунальной квартире, там, где в одной комнате жили, бывало, бабушка с дедушкой, папа с мамой и сын с дочкой. Там, где возникает ужасная метафора «мы все – одна семья». Ах, как хорошо было в коммуналке, говорят домохозяйки. Тесно, но зато все как одна семья! Простите, гражданочки хорошие, вы о чем? Семья – это мужчина и женщина. Муж и жена спят в одной постели. От этого у них бывают дети. Иногда не бывают, но спать вместе муж и жена не перестают. Вот, собственно, основа семьи. Остальное (в смысле хозяйственной ячейки) надстраивается. Или не надстраивается. При чем тут «в квартире жили одной семьей»? Что такое «единая семья народов»? Почему не сказать «единая команда»? Бригада? Коллектив? Батальон? Иное какое сообщество? Нет, именно «семья».
Потому что таков был нечистый образ жизни. С тесными комнатами, общим сортиром и редкими походами в баню. Нечистый по-латыни – incestus. Вот именно. Тысячелетние культурные запреты рухнули в советской коммуналке.
Агрессивно-свальный образ жизни в сталинскую эпоху – вот что влечет домохозяек. Им хочется залезть в чужую постель. Вломиться в чужую жизнь. Въехать в комнату соседа, освободившуюся после домохозяйкиного доноса. Вот почему они ненавидят «Дом-2» – как свое несбывшееся желание. И в самом деле, почему это надо смотреть по телевизору, когда при Сталине все это вторжение в приватность было в натуре? В реале, так сказать. Вот тут, в нашем коридоре.
При чем тут Солоневич?
А он все это написал в своей книге. Он демистифицировал старинные представления о том, как работает государство. О том, что существует благолепный консенсус между народом и его владыками. Или наоборот – жестокие владыки грабят народ, а народ время от времени устраивает бунт. Беспощадный, но бессмысленный, а потому легко подавляемый.
Все не так. Есть технология власти. В тоталитарном государстве не обойдешься одними убеждениями или одними репрессиями (хотя и пропаганда, и ГУЛАГ работают на всю катушку). Нужен большой слой населения, с которого сняли намордник и позволили грызть ближнего своего. Речь идет о придонном социальном слое, о подонках общества. Иначе ни в каком тоталитарном государстве не хватит людей в погонах, чтобы нагнать страх на народ.
Выражаясь по-ученому, в основе советской технологии власти лежало институирование психологии маргиналов. Солоневич называет это проще и вместе с тем глубже – «ставка на сволочь».
Большевики, пишет Солоневич, сделали ставку на человека с волчьими челюстями, бараньими мозгами и моралью инфузории. На человека, который в групповом изнасиловании участвует шестнадцатым. На человека, который решение своих убогих проблем ищет во вспоротом животе соседа. «Реалистичность большевизма выразилась в том, что ставка на сволочь была поставлена прямо и бестрепетно».
Советская сволочь – это так называемый актив. Солоневич подробно описывает путь, который проделывает деревенский или городской бездельник и горлопан, карабкаясь к заветному посту в гор– или сельсовете, к партбилету и корочке сотрудника ГПУ. Многие отваливались по дороге и попадали в тот же ГУЛАГ. Но для «активиста» другого пути не было. Потому что трудиться или учиться он все равно не мог, не хотел, не считал нужным.
Единственное, что умел «активист», – доносить, убивать, а главное – воровать. Масштабы бардака, охватившего страну плановой экономики, еще долго будут поражать воображение исследователей. Но Солоневич буквально на пальцах объясняет, что этот бардак – всего лишь способ существования многомиллионной армии «активистов». На самом низовом уровне существовал обмен услугами между колхозным начальством, местной торговлей и местной милицией. Но система не была замкнутой. Мужика, у которого уводили корову, которую забивали, а мясо отдавали милиционерам и в лавочку Главспирта в обмен на водку, – этого мужика приходилось пускать в расход.
Таким образом решалось сразу несколько политико-технологических задач. Многомиллионная банда «актива» и низовой администрации получала надежный самопрокорм. Народ был порабощен, потому что сволочь жила и паразитировала в его толще. Далее, вершки «актива» были надежным и дешевым кадровым резервом. И наконец, общая атмосфера бардака позволяла вождям пролетариата купаться в византийской роскоши – и в нужный момент попадать в тот же ГУЛАГ.
Таким образом, сталинский бардак – это единственно возможный способ продлить существование государства-урода, лишенного политической конкуренции и рыночной экономики.
Но нет зла, которое длилось бы сто лет. Великая революция Хрущева: десталинизация и строительство пятиэтажек. Одно невозможно без другого. Сталин мог быть общим отцом только в атмосфере коммуналки. Отдельная квартира для простого труженика – для советской истории это штука посильнее полета Гагарина. Это прорыв в космос культуры из хаоса инцеста и каннибализма. Брежнев сделал следующий шаг. Он стабилизировал сословия: репрессии чиновников сделались редчайшим исключением; политические доносы работали только в области чистой политики. Уже нельзя было сообщить, что сосед клевещет на советскую власть, и на этом основании занять его жилплощадь, да и сама организация ЖКХ этого не позволяла. Эпоха Горбачева – возможность свободно говорить; эпоха Ельцина – свободно действовать; эпоха Путина – попытка стабилизации уже на следующем этапе развития.
Естественно, многим домохозяйкам это не нравится. Они хотят назад, в «одну семью», со всеми ее агрессивно-инцестными прелестями. В этом, как мне представляется, секрет вечной привязанности к Сталину со стороны отдельных психосексуально незрелых личностей. Они еще надеются, что придет Самый Главный Самец (он же Отец Народов) и накажет их обидчиков (злых самцов поменьше) и обидчиц (обнаглевших старых самок). И под шумок им перепадет чего-то сладенького.
Мы, однако, живем в правовом государстве. Защита прав человека лежит в основе нашей демократической конституции.
Однако права человека – это штука тонкая. Например, у человека есть право собственности. На то, чем он владеет (по наследству или заработал). Но у человека нет прав на незаработанную собственность. Точно так же со свободой высказываний. Любой человек имеет право высказывать свое мнение. Даже если это та самая сволочь, о которой пишет Иван Солоневич. Однако это не значит, что мнение сволочи имеет для нормальных честных людей хоть какое-то руководящее значение.
Борьба за право быть рабом
В 2011 году вышел документальный фильм «Дорогой Леонид Ильич» (сценарий Леонида Млечина, режиссер Игорь Максимчук). Не знаю, как бы я поступил на месте любого, кто в этом фильме рассказывает о покойном генсеке. Вряд ли я был бы объективным, историчным и желчным. Много лет работая близким сотрудником какого-нибудь крупного государственного деятеля (если только не монстра какого-то вроде Сталина или Гитлера), я бы волей-неволей нашел какие-то человеческие слова о каких-то его человеческих чертах. Ну, незлой человек. А иногда неожиданно добрый. Задумывался о судьбах мира. Любил красивых женщин. Тяжело болел. Ценил шутку. Не кричал, не топал ногами, не швырялся тяжелыми предметами. А оскорблять мое личное достоинство – да никогда в жизни!
Впрочем, недавно вышел мудрый и добрый фильм про Гитлера. Про запутавшегося человека. Который наделал много зла, но не стал от этого счастливее. Говорят, что сейчас в России снимается – или планируется – еще более мудрый и добрый фильм про Сталина.
Это я к тому, что нет ничего удивительного в теплых словах о Брежневе, звучащих в каждом кадре этого документального фильма.
Удивительно другое. Три вещи. Неискренность, мифология и, главное, социально-психологический контекст. Давайте по порядку.
Все эти люди, которые говорили хорошие слова о генеральном секретаре Брежневе, на самом деле не любили и не уважали его. Потому что сейчас они насмехаются над ним, презирают его, не хранят его личные тайны.
Издеваются над его страстью к орденам, страстью по-детски глубокой и серьезной. Они с усмешкой говорят, что от Раздоров, где он жил (это начало Рублево-Успенского шоссе), до Кремля его кортеж доезжал за тринадцать минут. То есть движение на трассе замирало, и многотонные лимузины летели со скоростью под 200 км/ч. Что, согласитесь, как-то неадекватно… Ах да! Леонид Ильич был отменный лихач и часто сам сидел за рулем. Иногда отрываясь от машины сопровождения. Правда, когда у него случился инсульт, он, пытаясь самостоятельно вести свой «членовоз», сносил, бывало, все елочки вдоль дороги… Мне кажется, что от большой симпатии к человеку (даже бывшему хозяину) такого не расскажешь.
Они повествуют о его любвеобильности. Настоящий плейбой был наш дорогой Леонид Ильич! – одобрительно посмеиваются друзья и соратники. Господин Медведев, заместитель начальника личной охраны генсека, рассказывает, что его, как и всех сотрудников-мужчин, строго предупреждали – ни взгляда, ни жеста в сторону секретарш и референток Брежнева! Этого добряк Леонид Ильич не потерпит. Ибо ревнив! Иными словами, аппарат Леонида Ильича представлял собой служебный гарем. А лучше сказать – первобытную орду. Самец-хозяин, принадлежащие ему самки и молодые самцы, которым «это» запрещено. Данный историко-антропологический сюжет еще ждет своего исследователя. А зрители, наверное, ждут продолжения про «внучат Ильича», законных и незаконных. Не удивлюсь, если продюсеры уже дерутся за такой сценарий.
Но мы отвлеклись. Далее бывшие соратники и коллеги совершенно бессовестно рассказывают о каких-то таблетках. Почему бессовестно? Потому что если тебе случайно открылась чужая врачебная тайна – так молчи же, никому не рассказывай! Это элементарно, это как чужие письма. А тут проскакивают слова «снотворные» и «транквилизаторы». А также вспоминают эпизод, как Леонид Ильич на курорте шутливо гонялся за своим врачом с криком «дай таблетку!». Это уже серьезно. Нам намекают, что наш генеральный секретарь был, как бы это поэлегантней выразиться… ну, в общем, его ломало без дозы. Интересные дела.
Про обсуждение многочисленных романов его дочери я уж не говорю. Рассказы о цирковых любовниках, о Чурбанове, о бриллиантах цыганского барона. Об отношении покойного генсека к своей супруге: уважать-то он ее уважал, но «первой леди» она почему-то не стала. Только дом, обед, дети, внуки. Даже спросить у охранника, куда девались мужнины охотничьи сапоги – и то нельзя. Не в свое дело сунулась. Даже как-то стало обидно за Викторию Петровну. А сам себя Леонид Ильич называл царем. Правда, говорил, деревеньку пожаловать не может. А вот орденок – пожалуйста.
Зато в фильме избыток традиционной советской и даже царистской мифологии. Больше всего о том, как Леонид Ильич заботился о простых солдатах, а также о своих адъютантах. Попал человек в переплет, обслуживая генсека, – генсек позвонит, спросит, как да что. Солдату – побывку. Адъютанту – хорошую больницу. И жил скромно. Квартира на Кутузовском, 26, в шестом подъезде, где мемориальная доска висела, – это, по словам писателя Карпова, просто гостиничный номер. Да, да, не падайте со стульев. Просто служебная жилплощадь, туда поселяли приезжих руководителей. Небольшой такой номерок, четыре комнаты плюс пятая для прислуги. Там и прожил всю (!) жизнь, скромняга. О том, что помимо ближней и дальней дачи у него были огромные двухэтажные апартаменты на том же Кутузовском, – естественно, ни слова.
Как ни слова об одной действительно великой личной заслуге нашего дорогого Леонида Ильича. В «кругах, близких к источникам» я слышал, что в начале 1970-х был разработан план превентивного неядерного ракетного удара по Китаю. Цель – одним махом ликвидировать все пусковые установки ядерных ракет беспокойного соседа. Говорят, Леонид Ильич этот план решительно отверг, ибо существовала хоть мизерная, но все же вероятность того, что хотя бы одна китайская ракета уцелеет для ответного удара. Уже ядерного. Не захотел Леонид Ильич рискнуть Омском или Красноярском. Даже если это легенда, то хорошая, красивая, гуманная. Но ей не нашлось места – и, очевидно, не случайно.
Миролюбивая легенда не подходит спешно создаваемому великодержавному мифу. Мифу, в котором мы – ух! Всем хвоста накрутим, кирдык устроим! Этот миф совершенно закономерно опирается на лживые и сусальные картинки из жизни генсеков, военачальников и народных артистов СССР. На мечты о прошлом. О сладком и красивом, сильном и справедливом, богатом и достойном прошлом. Yesterday! Yesterday! – музыкальное сопровождение фильма про Брежнева. И лейтмотив всего социально-психологического контекста.
Итак, контекст.
Возрождение советчины идет, может, и не очень быстро, но явственно. Советчина как стиль: стиль всей жизни, стиль политического руководства, стиль убежденного вранья из соображений целесообразности. Написал это слово, и будто нахлынуло! «Ваш выезд за рубеж нецелесообразен». Господи! Какой цели должна быть сообразна поездка на болгарский курорт сроком на две недели? Ответом были строго нахмуренные брови.
Советчина как серьезная художественная ностальгия (Дейнека, Пластов, Вучетич) или как шутка, она же «стеб», куратора галереи – Решетников, Серов, Иогансон и их постмодерные апологеты – Комар и Меламид, Виноградов и Дубоссарский (все-таки советскую пакость изображать веселее вдвоем). Как инфантильная поэтизация собственной молодости, тогдашних мелодий, фасонов и лиц.
Советчина как культивация «законной гордости». О это кошмарное «зато нас все боялись»! И еще более жуткое – «зато в стране порядок был». Советчина как пристальный интерес к недавней истории, как вроде бы резонное стремление заменить советско-ангажированные и антисоветски-ангажированные книги (фильмы, телепередачи) чем-то взвешенным, сбалансированным. Чтобы соответствовало генеральной линии, которая формируется на наших глазах: этакий православно-капиталистический сталинизм. Никакой эклектики, все предельно органично.
В общем, советчина наступает со всех сторон. Отчего бы это так?
Отчего народ и его интеллигенция, так сильно пострадавшие за годы советского режима, радостно повизгивая, реставрируют советчину?
Да все от того же. От травмы и шока.
Попробуем поподробнее.
Начнем с травмы.
Советский (ныне российский) народ в прошедшем веке перенес ужасающие тяготы и страдания. Гражданская война. Коллективизация – индустриализация. Репрессии 1930-х. Война. Миллионы военнопленных, которых родина предала трижды: один раз бросив навстречу вермахту плохо вооруженных солдат, потом объявив предателями и отказавшись делать взносы в Красный Крест и после освобождения из нацистских лагерей отправив в свои, родные. Депортации народов. Послевоенные репрессии. Закручивание гаек после столь желанной оттепели. Афганская авантюра. О том, что ближе, помолчим – и так хватит.
Впрочем, некоторым странам в ХХ столетии тоже досталось по первое число. Взять ту же Германию. Или Грецию, Италию, Испанию. Однако европейцы (а также народы других континентов) умеют обдумывать, обсуждать и, самое главное, оплакивать перенесенные катастрофы. Понимание того, что произошла народная беда, оплакивание этой беды – залог того, что беда будет изжита. Сначала в народной душе, а там и в повседневной жизни нации. Главная задача народа после кошмара войны или диктатуры, оккупации или коллективного безумия (вроде нацизма или коммунизма) – преодолеть пережитую травму. Не загнать в коллективное бессознательное, а, наоборот, вытащить оттуда. К сожалению, этого мы не умеем. И учиться не хотим.
Оплакивание национальной беды не нужно понимать совсем уж буквально. Это не значит всенародно лить слезы на центральных площадях, устраивать трауры, устанавливать покаянные монументы и служить панихиды во всех церквах. Впрочем, такие церемонии тоже не лишние, особенно воздвижение памятников, установка надгробий над безымянными могилами. Но главное – это внутренняя работа национального сознания. Сделать эту работу должны политики и интеллектуалы, в том числе – в первых рядах – люди искусства. Политики должны понимать, что народные несчастья следует осознать, обдумать, публично обсудить. Интеллектуалы и художники должны это реально сделать. Написать романы, стихи и песни. Философские трактаты и журнальные статьи. Снять фильмы и телепередачи. Выступать по радио и на читательских конференциях в районных библиотеках. В этой долгой и массовой работе интеллектуалы и художники должны быть смелыми и отважными. Никакой пощады народному самолюбованию, никакого самооправдания, никаких трусливых слов типа «но не все же было так ужасно… но многие люди искренне верили… но дайте хотя бы старикам умереть спокойно, они же думали, что поступают правильно». Так ничего не выйдет. Никогда не поздно назвать беду бедой, а не «особенностями ускоренной модернизации» или «спецификой построения новой государственности».
Но увы. Ничего похожего в России не произошло.
Гражданская война была романтизирована. То есть было романтизировано планомерное взаимное истребление молодых и старых, крестьян и офицеров, профессоров и поэтов. Такая вот была совершена идеологическая подлость. Об остальном сказано едва-едва, вполслова и вполголоса. На русском языке нет практически ни одной книги о войне как о величайшей народной беде. Астафьев? Василь Быков? Кто еще? А вот о подвиге – пожалуйста, полки ломятся, и иногда довольно талантливо. И всегда были охотники выдать народную беду за что-то другое. За уникальный исторический путь. За отдельные ошибки руководства. Но чаще всего делался вид, что вообще ничего не было, кроме вереницы побед. Неосознанная беда тяжким грузом ложилась на дно народной души.
Всем было тяжело в советские годы, но тяжелее всего было простому человеку. Простых людей пропало больше всего и при коллективизации-индустриализации, и в «кировском потоке», и в 1937–1938 годах, и в войну, и в немецком плену погибали простые люди, и их же потом отправляли в Сибирь. От ночного стука в дверь простой человек вздрагивал гораздо чаще, чем интеллигент или номенклатурщик.
Простому человеку хуже всех было – и остается – еще и потому, что он совершенно не понимал и по сей день не понимает, что делалось в стране и почему он страдал. Интеллигент и чиновник могли строить какие-то предположения, теории, объяснения своего ареста и гибели – от великой Исторической Необходимости до банального сведения счетов внутри парторганизации. Почему попадал в лагерь простой человек – ему самому было непонятно. Жертва была необъяснима и оставалась необъясненной. Ничего вразумительного, кроме «Органы не ошибаются. У нас зря не сажают». Простой человек изнывал от страха, затопляющего душу. Такой страх передается по наследству – не в генах, естественно, а в семейном воспитании, что гораздо надежнее.
Но именно поэтому – из-за того что не обсудили случившееся, не изжили пережитое – возник миф о том, что страдала только интеллигенция и номенклатура. Да и то немного. Номенклатуре, собственно, досталось поделом: изобретатели мясорубки рано или поздно идут на котлеты. А интеллигенция – исключительно по легкомыслию. Не писал бы Мандельштам дурацких эпиграмм – получил бы сталинскую премию. Со временем. А народ – народ не страдал. В крайнем случае геройствовал, страдая, – что значительно легче в плане ретроспективных самооценок.
Отсюда возникает то, что Фрейд назвал «навязчивым повторением». Невозможность справиться с травмирующими переживаниями прошлого – с ужасом жизни в бесправии – вызывает неодолимое желание повторить это ощущение. Снова погрузиться в неизбытый, такой родной и влекущий страх. Снова стремиться туда, где ночные шаги по лестнице и белый френч с душистой трубкой.
Травма не была вылечена – но по этой ране хлестанул шок свободы.
Все, что служило опорными столбами советской цивилизации, было в одночасье вышиблено вон. Радикально сменился социальный контракт. Раньше гражданин отдавал государству свою свободу – практически всю. Включая свободу читать книжки и слушать радио, носить модное и пить кока-колу. Взамен этого он получал малый рабский набор социальных услуг, которые поддерживали его как тело, годное к труду. Особо везучим полагался средний рабский набор – еда посвежее и квартира попросторней. Но для этого надо было стать академиком или народным артистом. Единицам полагался большой набор, включающий дачу в Крыму, бронированный лимузин и личную охрану.
Равенство в рабстве не допускало исключений. Даже набор генсека был абсолютно рабским. Уже цитированный господин Медведев, рассказывавший в фильме «Дорогой Леонид Ильич» о гаремных нравах брежневского аппарата, был впоследствии личным телохранителем Горбачева. В случае чего ему надлежало закрыть шефа грудью и изрешетить каждого, кто близко подойдет с дурными намерениями. Каждого, да не каждого. В Форосе он не осмелился поднять руку на путчистов, нагрянувших арестовывать его шефа, – ибо среди мятежников был его начальник, какой-то генерал КГБ. Максимум, что себе позволил личный телохранитель генсека, – попросил письменное предписание оставить свой пост. Театр абсурда: жизнь главы государства зависела от настроения начальника его личной охраны. То есть Горбачев был тоже рабом. Хотя его набор был самым сладким. Один спуск к морю на Форосской вилле чего стоит…
И вдруг – все наоборот. Никаких тебе наборов, никаких гарантий. Но и никаких ограничений. Читай Набокова, слушай «Свободу», покупай… да что хочешь покупай, были бы деньги! Полная свобода их зарабатывать. А не заработал – извини, брат.
Воистину есть от чего в отчаянье прийти. Но было бы непростительным упрощением считать, что весь вопрос в деньгах. Что вот, мол, был советский народ таким, что ли, работящим иждивенцем, а теперь, мол, гарантированный паек кончился, пошла голодуха и социальная деградация, откуда и все проблемы. Отчасти, конечно, так. Но только от очень небольшой части.
Шок наступил не только экономический, но и культурный. Отчасти это похоже на шок модернизации, который пережили народы Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Азии. Такие элементарные на наш европейский взгляд вещи, как таблички с названиями улиц и номерами домов, светское образование, движение в сторону женского равноправия были страшным ударом, который разрушил все народные представления о пространстве и времени, о добре и зле. Эту бурлящую пустоту не удалось заполнить товарным изобилием при наличии вполне платежеспособного спроса. Через два поколения это аукнулось религиозным фундаментализмом и авторитаризмом, подчас карикатурным – но, очевидно, нужным народу, который таким манером излечивает шок модернизации.
Вот и у нас в России разрушены были не только социальные гарантии, но и представления о правде и порядке, о законе и справедливости. Увы, наши реформаторы на поверку оказались пошлейшими марксистами, на полном серьезе поверившими в агитпроповскую туфту о базисе и надстройке. Никаких попыток объяснить людям суть и перспективы экономических и политических реформ сделано не было. Вот и приехали.
Непереработанная советская травма в сочетании с неосмысленным шоком свободы – результат можно было предугадать.
Началась всенародная борьба за право быть рабом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































