Текст книги "Письма с Прусской войны"
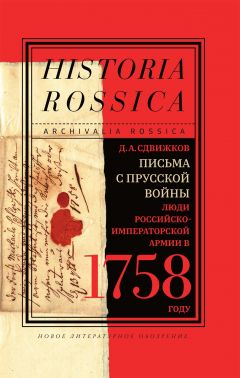
Автор книги: Денис Сдвижков
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Еще один акцент работы – в сравнении и контексте. С точки зрения войны как феномена культурной истории она не может описываться с одной точки зрения, из одного угла сцены. Если немецкий нарратив оперирует анонимной массой «московитов», то та же односторонность справедлива и для нарратива российского. Пруссак ассоциируется тут с Фридрихом II и «Историей Семилетней войны» Архенгольца (что почти одно и то же). Лишь в последних работах о Семилетней войне стали привлекаться иные источники, в том числе личного происхождения[77]77
Анисимов 2014 привлекает прусские мемуары фон Притвитца (Prittwitz 1989) и мушкетера Доминикуса (Dominicus 1891); Доля V и VI комментирует перевод французских дневников Шарля-Марка де Буффле и Жака де Больё.
[Закрыть]. «Марсов праздник» (№ 69, 70) я буду стараться по возможности представить с привлечением обоих «актерских коллективов».
Это тем более важно, что Российско-императорская армия, с которой мы имеем дело, представляет собой «великий и многонародный город» (А. Т. Болотов). Только в представленном корпусе есть письма на русском, немецком, французском, грузинском, шведском, польском языках. А в составе армии были еще и венгры, сербы, хорваты, молдаване, калмыки, татары, башкиры, мещеряки[78]78
В числе недавних публикаций – выписки из дневника мишаря 1756 г. с интригующим названием «Язылды бу язу 1756 елда.», изд. Р. Мардановым // Эхо веков. 2002. № 1/2, 16–18 (на татар. яз.). См.: Рахимов Р. Н. Национальная конница в русской армии: опыт Семилетней войны 1756–1763 гг. // Национализм и национально-государственное устройство России: история и современная практика. Уфа 2008, 60.
[Закрыть] – вполне «дванадесять языков» для оторопевших пруссаков. Да плюс мулы с колокольчиками, украинские волы обоза, верблюды главнокомандующего… А если прибавить сюда еще и заезжих офицеров с волонтерами, то стоит согласиться с командующим Фермором: «за грехи мои всех наций собрание»[79]79
Теге 1864, 1113; В. В. Фермор – М. И. Воронцову, Мариенвердер 18/29.11.1758 // АКВ VI, 349.
[Закрыть].
Трактовка офицерских свидетельств, выходящая за рамки истории национальной, помогает настроить правильный фокус для толкования таких текстов. Письма Томаса (Фомы) Григорьевича фон Дица (№ 102, 103), к примеру, не только по языку, но по восприятию и манере описания баталии ближе не к письмам однополчан, а к стилю, скажем, прусского фельдфебеля Либлера или к мемуарам прусского офицера Христиана фон Притвитца[80]80
Briefe preußischer Soldaten 1901, VI, 53–55; Prittwitz 1989.
[Закрыть]. Что неудивительно, если знать, что и остзеец Диц, и оба пруссака воспитаны в традициях немецкого пиетизма.
Наконец, наш источник демонстрирует потенциал, который все еще сохраняют зарубежные архивы для освещения «далеких войн» России, начиная с Ливонской[81]81
См.: Бессуднова М. Б. Реалии Ливонской войны в показаниях русских военнопленных. Дюнабург, год 1577 // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2016. 1 (19), 38–45, здесь 39.
[Закрыть]. В ряду других внешних свидетельств, которые нередко сообщают уникальный материал по русской истории, «Россика» такого рода способна до– или восполнить картину, складывающуюся по отечественным источникам.
Характеристика источника
Служебная корреспонденция составляет меньшую часть почты. Документы касаются в основном вопросов по отправке в тыл и необходимости скорейшего возвращения выздоровевших или легкораненых (что понятно при остром некомплекте из‐за огромных потерь при Цорндорфе); денежного, вещевого, провиантского довольствия и фуража; организации коммуникации между действующей армией и тыловыми службами и командами в ключевых пунктах Пруссии Восточной и тогдашней Польской Пруссии – в Кенигсберге, Торуни (Торне), Мариенвердере, Эльбинге (Эльблонге), где были расположены магазины и госпитали «Заграничной армии», как она официально именовалась, а также о приведении в надлежащее состояние восточнопрусских крепостей[82]82
См. ордер Фермора от 05/16.06.1758 // АКВ XXXIV, 108–109.
[Закрыть].
Что определяет круг авторов писем? В большой степени тоже случай. Передача с курьером личной корреспонденции – практика полулегальная и терпимая до поры до времени. По рангу рассчитывать на отправку корреспонденции с фельдъегерем могли, казалось бы, скорее чины генеральского уровня и уж никак не ниже штаб-офицерских. Однако на деле мы видим большое разнообразие: наряду с генералитетом и штаб-офицерством присутствуют капитаны, поручики, подпоручики. Среди имевших более высокие чины не у всех получалось воспользоваться неформальной оказией, поскольку «об отправлении с маршев и куриеров, и штафетов наши чины не всегда знают ‹…› з генералною квартерою соединяемся так позна, что она отправление свое до того делает, к тому ж бываем и совсем от нее отсудственны» (№ 3). Наоборот, штабные канцеляристы, ординарцы, квартирмейстеры, провиантмейстеры первыми узнают о курьере и успевают передать обстоятельную корреспонденцию.
Часто письма вкладываются в конверты и адресуются особам высокого ранга, что гарантирует более надежную доставку. Передавшие корреспонденцию оговариваются в письмах, что больших пакетов курьер не принимает, и поэтому, к сожалению их и моему, вынуждены ограничиться самым насущным. Диктуют свое и походные условия: «Я мог бы сочинить к вам обстоятельное письмо, в материи недостатка нет, – замечает саксонский офицер в августе того же 1758 г. из лагеря на «Западном фронте». – Да только в палатке, где ни кровати, ни стола, ни стула, особо не пишется[83]83
Ганс Карл Генрих фон Траутцшен – г-ну Л., полевой лагерь при Андернахе 17.08.1758 // Trautzschen 1769, 86.
[Закрыть]».
Эпистолярная культура и привычка находятся в становлении и существенно отличаются у разных корреспондентов. Наряду с теми, кто переписывается часто и много[84]84
Фома/Томас Диц упоминает, например, о получении от домашних «номера 54‐го», тогда как сам отправляет уже 91‐е письмо (№ 102).
[Закрыть], есть и обратные примеры. Из далекого степного Рыльска, к примеру, письма идут в армию больше полугода – и в ответ отправлены всего несколько строк (№ 14). За отдаленностью мест, неграмотностью получателя и просто отсутствия традиции переписки домашние могут оставаться в полном неведении о судьбе своих родных годами и даже десятилетиями[85]85
Например, в романтизированной биографии Петра Захаровича Хомякова: по возвращении в подмосковную деревню после 30-летнего отсутствия с 1756 г. он пребывает в полном неведении о родителях, с которыми, очевидно, не переписывался вовсе или крайне нерегулярно (Хомяков 1790, 259–260).
[Закрыть].
С учетом всех обстоятельств в целом можно принять, что перед нами выжимка относительно образованного слоя армии. Культурный водораздел проходит внутри офицерства, как и внутри разнородного конгломерата российского шляхетского сословия в целом. Это один из очевидных признаков того, что мы все еще имеем дело с «пограничьем» старой и новой России. Даже среди штаб– и обер-офицеров встречаются письма, по стилю и по содержанию мало отличимые от грамоток XVII и начала XVIII в.[86]86
Петрухинцев, Эррен 2013, 6. Ср., например, письма Данилы Хрипкова (№ 74–75) с перехваченными в начале Северной войны шведами солдатскими и офицерскими письмами: Козлов 2008, 198–213 и письмами русских пленных: Козлов 2011.
[Закрыть]
Сказываются и особенности состава Заграничной армии: элитная гвардия в продолжение всей Семилетней войны остается практически незадействованной[87]87
В феврале 1758 г. с участием гвардии собирались сформировать вспомогательный корпус для участия в составе австрийской армии. Затем под впечатлением цорндорфского кровопускания в конце августа 1758 г. А. Б. Бутурлину поручили формировать «большую армию», «собираемую около Риги», включая составленный из добровольцев гвардейский отряд под начальством генерал-поручика кн. Александра Меншикова (сына «Алексашки»). Однако к зиме 1759 г. решение отложили (СА X, 522, 528, 540, 542; Карцов 1854, 474 et passim; Чичерин 1883, 120 et passim).
[Закрыть]. В полевых полках уровень даже элементарной грамотности дворян был серьезной проблемой. Перед войной грамотность составляла среди пехотных офицеров около 70 %, но с привлечением офицеров из гарнизонных полков и ландмилиции, при необходимости усиленного производства при военных действиях этот уровень неизбежно падал[88]88
В начале 1758 г. в предписании П. А. Румянцеву конференции говорилось по поводу комплектования запасных эскадронов конницы: «Понеже довольно известно, что в кавалерийских полках ‹…› дворян, грамоты знающих, довольно находится, а напротив того в полевых пехотных их так мало, что не точию в офицеры, но и в унтер-офицеры производить не кого» – предписывалось отправить грамотных дворян из нижних чинов в пехоту (Масловский II, 126 второй пагинации). Калашников 1999, 127–130 (данные по грамотности на 1745 г.), Фаизова 1999, 53.
[Закрыть].
Мобилизованный в качестве капеллана российской армией прусский пастор Христиан Теге писал, что в плену в Кюстрине после Цорндорфской баталии ему «пришлось жить с грубыми офицерами, которых образ жизни и привычки внушили мне отвращение» и постарался «сыскать других товарищей». Среди тех, кто пишет, есть и первые, но в большинстве – те самые «другие товарищи» «с более тонким образом мысли»[89]89
Täge 1804, 196; Теге 1864, 1128. Мемуары Христиана Теге записаны через полвека после описываемых событий в литературной обработке кенигсбергского издателя и писателя А. С. Гербера, переведены с купюрами, поэтому часть цитат будет со ссылками на немецкий оригинал. О Теге: Füssel 2010 II.
[Закрыть]. В числе «военных интеллигентов» помимо хрестоматийного А. Т. Болотова, который, впрочем, практически всю войну отсиживался в кенигсбергском тылу, из бывших в поле можно назвать любителя романов и диариста поручика Якова Яковлевича Мордвинова или отставленного капитаном артиллерии Ивана Григорьевича Мосолова, который оставил «военные книги» и «тетради скорописные… с разными примечаниями»[90]90
Мосолов 1905, 124 («Знал разные науки и говорил по-немецки»). Пару лет спустя, осенью 1764 г., под Варшавой офицеры уже ставят «от скуки» «Скупого Гарпагона» Мольера (Хомяков 1790, 58).
[Закрыть].
В категориях социологии вполне допустимо принять этот архивный материал как случайную выборку, которая дает представительный срез российской Заграничной армии.
Можно уверенно говорить о типологической структуре писем: наряду с вводной и финальной частью письма часть основная также строится преимущественно по определенному шаблону. Помимо обязательной даты и места написания (обычно в конце письма) в начале нередко ставится порядковый номер, упоминается о получении «вашего номера такого-то» или идет ориентирование в порядке корреспонденции («это мое такое-то письмо, ваше пришло тогда-то…»). Обычный прием для корреспонденции XVIII – начала XIX в., «понеже часто посылаемые письма через почту пропадают и для того, всегда должно смотреть по порятку ли № оное получено и естли не по порятку, то писать, что такое писмо утратилось»[91]91
Щербатов 1965, 453.
[Закрыть].
Затем следует информативная часть: в нашем случае, как правило, разной степени подробности описание баталии при Цорндорфе и настоящего положения армии («а ныне маршируем…»). После следует «поручительная» деловая часть – информация о денежных расчетах, долгах, векселях и авансах, просьбы о присылке того или иного, указания по управлению имением или домом, просьбы о прошениях – преимущественно об отпуске и ходатайствам в продвижении по службе. В завершающей части передаются поклоны родственникам, крестным, друзьям и благодетелям. И наконец следуют различные конвенциональные формы прощания.
«Видиш я залпом сколко написал, да еще бумашки пришлю» (№ 62): такое могут себе позволить разве что бумажные души, интенданты да канцеляристы. В остальном видно, что письма написаны в чрезвычайных обстоятельствах с марша. Формат их чрезвычайно разномастный: «цыдульки» Петра Панина Б. А. Куракину (№ 5, 6) или Василия Долгорукова жене (№ 77) – далеко не последних людей в армии, заметим, – написаны буквально на клочках бумаги; местами рваные; иногда донельзя заношенные по карманам в ожидании оказии, как у гусара Грузинского полка Степана Эристова (№ 83). Тогда как письмо Корнилия Бороздина П. И. Шувалову (№ 36) или В. В. Фермора Ф. И. фон Эмме (№ 90) на роскошной голландской бумаге с золотым обрезом. Что неудивительно: в одном случае это прошение генерал-фельдцейхмейстеру о переводе своего сына, в другом – обращение к вице-президенту Коллегии лифляндских и эстляндских дел, от которого зависело в том числе благосостояние имения командующего. На квартирах, надо думать, с бумагой получше: Андрей Тимофеевич Болотов в перерыве между кампаниями зимой 1758 г. переписывает свой перевод Прево тушью «как можно лучшим и красивейшим письмом», «сделав тетрадки из лучшей почтовой бумаги»[92]92
Болотов I, 610.
[Закрыть].
В остальном о бумаге ничего примечательного сказать не могу: она со стандартной для этой эпохи эмблематикой (филиграни Pro Patria, Beehive, рожок, лилия, герб Амстердама, почтальон, голова шута) и литерами (J Honig & Zoon, C & I Honig, GR, IGL, AJ и др.). В большинстве своем, очевидно, голландская; есть также бумага немецкого (саксонского, восточнопрусского), возможно, петербургского и английского производства. Нередко, что также извинительно в походных условиях, бумага вовсе без филиграни или лист разорван[93]93
Что в обычных условиях было бы воспринято как не комильфо. Ср.: не дали «почтовой бумаги, и для того на дурной пишу, и перо как палка» (А. К. Воронцова – А. М. Строгановой (Воронцовой), СПб. 04/15.07.1761 // АКВ IV, 475).
[Закрыть]. Даже для челобитных на высочайшее имя гербовой бумаги не находится, приходится писать на простой[94]94
См. челобитную П. И. Панина декабря 1758 г. в разделе «Действующие лица».
[Закрыть]. Австриец Сент-Андре вынужден отослать первую реляцию о Цорндорфской битве в Вену канцлеру Кауницу на одном листке, так как «ни одного листа бумаги, годного для письма, не осталось»[95]95
Ф. Д. Сент-Андре – В. А. Кауницу, Дризен 27.08.1758 // OeStA. HHStA Kriegsakten 371. A. Bl. 304.
[Закрыть] (писать с обеих сторон листа, как это практикуется в частных письмах, в реляции для канцлера, естественно, немыслимо).
Чернила, как упоминалось, часто разбавлены водой. Скажем тут, кстати, что для передачи конфиденциальной информации использовались симпатические чернила. Так, к примеру, написана реляция о Цорндорфской баталии в письме принца Карла Саксонского, следующая после бытовой части письма, написанной обычными чернилами[96]96
Принц Карл Саксонский – курпринцу Фридриху Кристиану Саксонскому, Ландсберг сентябрь 1758 // Lippert 1908, 321–325.
[Закрыть]. В походной секретной канцелярии для этих целей применялась «цифирь» – цифровые шифры.
Примерно половина писем – в отдельных конвертах, остальные сложены конвертом; почти все запечатаны личными печатями красного сургуча[97]97
Во время официального траура по меньшей мере на казенную корреспонденцию ставились черные печати (Струков 1902, 260).
[Закрыть]. В большинстве своем дворянские гербы, в некоторых случаях печатка с вырезанным изображением, камеей. Обычной практикой было вкладывать в один конверт несколько писем для дальнейшей передачи/пересылки респондентом либо для разных лиц по одному адресу. Чем формальнее письмо, тем крупнее отступы и пробелы, которые служили в эпистолярном этикете эквивалентом уважения, оказанного автором адресату[98]98
Бекасова 2006, 109. Ценной информацией по истории стиля писем я обязан Виктории Фреде-Монтемайор (ун-т Беркли). Благодарю за текст предоставленного ей неопубликованного выступления на конвенции ASEEES 2016 г. «Military Masculinity and the Sentimental Letter during the Napoleonic Campaigns».
[Закрыть]. В личных письмах за недостатком бумаги этим часто пренебрегают, на полях вписаны исправления и дополнения. Своих домашних авторы писем, наоборот, призывают писать «попространнее, не оставляя болшее место бумаги неписанной» (№ 33, 62).
Стиль[99]99
Ср. для немного более позднего периода: Бекасова 2006, 102–120. Об эпистолярном стиле XVIII в. в общем: Nikisch, Reinhard. Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 18. Jahrhunderts. Göttingen 1969. Cледует заметить, что до Екатерининской эпохи эпистолярный этикет в России ориентировался в большой степени на немецкие образцы, отсюда много параллелей у русских и немецких писем нашего корпуса.
[Закрыть] корреспонденции, конечно, уже далеко уходит от эпистолярного этикета московского периода: нет челобитья и постоянного тыканья[100]100
О нестабильности нормы «ты/вы» в корреспонденции середины XVIII в.: Bernstein, Laura. Merchant «Correspondence» and Russian Letter-Writing Manuals: Petr Ivanovich Bogdanovich and His Pis’movnik for Merchants // The Slavic and East European Journal, Vol. 46, No. 4 (Winter, 2002), 659–682, здесь 663–664.
[Закрыть], нет холопов. Исчезает сам архаический термин «грамотки» для писем. Часто употребляющиеся раб, и нередко, параллельно с ним, слуга, выражают учтивость, но не самоуничижение[101]101
Полонский 2013 I; Марасинова 2017, 325–336.
[Закрыть]. Язык писем часто выдает обиходно-разговорные интонации, фиксируя функцию подобного рода текстов – диалог с адресатом: «Я так вам пишу, будто я с вами говорю»[102]102
Долгорукова 1913, 14. Ср. «А коли не вижу, так хоть то удовольствие, что будто с тобою говорю, батюшка мой, и так редко нонеча переписываемся» (Е. М. Румянцева – П. А. Румянцеву, 01/12.04.[1763] // Бекасова 2006, 91; «Мне кажется, когда к тебе начну писать, будто я с тобою говорю» (А. К. Воронцова – А. М. Строгановой (Воронцовой), СПб. 20.02./03.03.1761 // АКВ IV, 461) и т. п.
[Закрыть]. «Далие же да вам дарогая ныне распространятся времени не имею, затем что мы выступили апять в свои марш со всею нашею армиею», я «от всей истинности внутренней моей желаю тебе, дорогой моей, добраго здравия без печали» (№ 7, 62), боец за счастье трудового народа полка имени Августа Бебеля… но виноват, увлекся.
Диалогичность писем, для нас очевидная, вовсе не является само собой разумеющейся для раннего Нового времени, когда переписка часто имела формальный характер и использовалась для поддержания «взаимства» и «приведения в любовь»[103]103
Бекасова 2006, 40.
[Закрыть]. Функция частной переписки как средства социального общения в формате «фамильярных» (familiar), дружеских, сентиментальных писем только утверждается, и середина XVIII в. в России в этом смысле носит переходный характер[104]104
Кошелева 2003; Marker 2010, 133. Переписка вызвана «потребностью общаться друг с другом, покуда мы живы», констатирует американский письмовник конца XVIII в. (Dierks K. The Familiar Letter and Social Refinement in America, 1750–1850 // Barton D., Hall N. (eds.) Letter Writing as a Social Practice. Amsterdam – Philadelphia 1999, 32–33).
[Закрыть]. В то же время сама эта «дружественность» / «фамильярность» еще не приобретает черты ритуала и клише, каковыми отличается корреспонденция ближе к концу XVIII в.[105]105
О формализации и ритуализации писем: Марасинова 1999, 43–46.
[Закрыть] Доверительный и непосредственный уровень общения респондентов, вообще характерный для этой эпохи с ее стилистической неупорядоченностью и отсутствием строгих границ между языками разных социальных групп[106]106
См. комментарий к употреблению пословиц в письмах (№ 8, 26). В общем: Кузнецов А. Е. Просторечие в «Записках» А. Т. Болотова // Русская речь. 2010. № 2, 78–81.
[Закрыть], выдает, в частности, употребление пословиц («гусиные лапки завсегда сладки», «сквозь петлю вино пил», № 9, 30).
Выбор стиля между старожитной наивностью («чтоб скорей увидитца всем небезнадежды, атаперь хотя изаошно навсегда верный твой друк», № 41) и витиеватыми барочными формулами письмовников («в протчем поруча себя в неотменную ко мне вашу милость пребуду пока жив с должным высокопочитанием и совершенною преданностию», № 53) определяется скорее поколенческой разницей, чем разностью адресатов[107]107
Следующий после петровских письмовник появился только в 1765 г. (Joukovskaia 1999, 667 et passim).
[Закрыть]. Оба приведенных выше примера – из писем к ближайшим родственникам. Однако в первом случае автору почти шестьдесят лет, тогда как второй – молодой человек, для которого разговорный «масковский» стиль в переписке неприемлем как архаичный и неполитичный.
Хотя, называя русских «московитами»[108]108
Русские, между прочим, рассматривали такое обращение к себе пруссаков как оскорбление, «запрещая его на полном серьезе. Ослушавшимся грозил удар нагайкой, а то и саблей» (Bertuch 1828, 43).
[Закрыть], Фридрих II не так уж неправ. Господствует эклектика: допетровская Русь еще живет в кафтанах и епанчах, в выносных буквах скорописи и в словесных формулах, в нравах и стиле жизни вдали от двора[109]109
Ср.: Donald Ostrowski. The End of Muscovy: The Case for circa 1800 // Slavic Review. Vol. 69. N 2 (2010), 426–438.
[Закрыть]. Эпистолярный этикет на переломе столетия ближе к началу века, чем к его концу[110]110
Козлов 2011.
[Закрыть]. Сохраняется конвенциональная передача поклонов: пусть уже не с таким формализмом, как в предыдущем веке[111]111
Ср.: Scheidegger 1980; Дмитриева 1986; Goehrke 1989; Атанасова-Соколова 2006 I.
[Закрыть], но соответствующая часть занимает до трети текста. К примеру, в письме П. И. Мещерского (№ 55) в приписке для жены собственно ей самой уделены три строчки из двенадцати. В остальных – поклоны государыням сестрам и всяческим Федорам Фомичам с Матвеями Ивановичами.
В отличие от немецких и остзейских писем, как правило, при ссылках всякого рода на родных и знакомых в письмах ограничиваются именем и отчеством, что при отсутствии контекста делает идентификацию названных лиц очень проблематичной. Обратим, кстати, внимание на архаизм имен: в дворянском – даже генеральском – круге общения то и дело мелькают Мины Ивановичи, Фомы Силычи, Савелии Авдеичи или вовсе экзотическая Анимаиса (№ 99). Уже скоро такой набор имен будет отсылать в лучшем случае к «темному» купечеству, пушкинская Татьяна произведет фурор, а дочь одного из братьев Орловых, Екатерина Новосильцева, доведет сына до самоубийства, отказав ему в женитьбе «на какой-то Пахомовне».
Письма с поклонами обнаруживают еще одну архаическую черту корреспонденции, ее редко предполагавшийся сугубо интимный характер. Очевидно, что помимо непосредственного адресата они писались для широкого круга родных и знакомых в расчете на то, что адресат даст читать – или скорее прочтет вслух – такое письмо всем упоминаемым лицам («К тебе писанные мои письмы можете орегинално ему государю моему сообщать», № 35). Широко распространено по-прежнему применение терминов родства к лицам, не обязательно являющимся кровными или духовными родственниками (батюшка, матушка, братец)[112]112
Полонский 2013 II.
[Закрыть] – хотя это в равной степени характерно и для немецких писем корпуса.
Дифференциация в зависимости от адресата выдает разность стратегий и идиом самопредставления. Сравнение, к примеру, двух писем двадцатилетнего князя Сергея Мещерского – Прасковье Александровне Брюс (Румянцевой), «наперснице» вел. кн. Екатерины, и своему отцу кн. Василию Ивановичу Мещерскому (№ 26–27) – хорошо иллюстрирует сосуществование в переходный период языков и стилей общения. «Птенец гнезда Петрова, изъясняющийся на новомодном жаргоне, вынужден переходить на более общепонятный идиом при общении с представителями старшего поколения или членами других социальных групп»[113]113
Живов 2009, 13.
[Закрыть]. Жовиальный тон с переключениями между русским и французским (отвечающий, заметим, эпистолярному стилю самой Прасковьи Брюс[114]114
Брюс 1881.
[Закрыть]) меняется у князя Сергея на строгий и архаичный в слезном письме батюшке с просьбами о вспомоществовании[115]115
Ср. аналогичный прием на примере второй половины XVIII в. в корреспонденции М. Н. Муравьева с отцом и сестрой (Атанасова-Соколова 2006 II).
[Закрыть]. Подобную же множественность идентичностей можно наблюдать в письмах Алексея Ильина: солидно-архаичный стиль общения с родителями (№ 48), повествовательно-нейтральный с братом (№ 49), сдержанно-галантный с «любезной» (№ 50), обстоятельный и подробный с «интеллигентной» влиятельной родней (№ 53).
Круг адресатов наших авторов с большим отрывом составляют родственники, в том числе крестные, «милостивцы»-патроны[116]116
Обзор литературы о патронате в России: Лавринович 2016, там же о взаимосвязи патроната и дружбы. См. также: Ospovat 2011.
[Закрыть], а также, условно говоря, деловые партнеры. Функция писем «милостивцам» – не только просьбы или благодарности. Но и «поддержание символической связи между клиентом и патроном посредством регулярной переписки», стилистически выверенной и представлявшей нередко «инсайдерские» сведения в условиях ограниченных и запаздывавших информационных потоков. От поддержания такой переписки в большой степени зависела дальнейшая карьера клиента[117]117
Ср.: Хаванова 2018, 51 et passim.
[Закрыть].
Дружеская переписка в ее классическом виде, которая составляет стержень европейской эпистолярной культуры Просвещения, а со второй половины XVIII в. законодательствует и в России, пока еще мало распространена. Хотя ее образцы присутствуют как в нашем корпусе (№ 65, 66), так и вне его, от переписки А. Т. Болотова до корреспонденции между И. И. Шуваловым и И. Г. Чернышевым, которые именовали себя в ней «Орестом» и «Пиладом»[118]118
Веселова 2013 (переписка А. Т. Болотова и Н. Е. Тулубьева); И. Г. Чернышев – И. И. Шувалову [Рига? июль 1757 г.] // Шувалов 1841 II, 28. О феномене «дружеского письма» в целом см.: Лазарчук 1972, Тодд 1994.
[Закрыть]. Для общения с людьми своего поколения и духа характерен «ноншалантный» делано-небрежный стиль с лирическими отступлениями (№ 69, 70). Жанр писем любовных (№ 28, 50) к середине XVIII в. тоже только формируется. Наряду с употреблением нового «галантного» языка здесь же обнаруживаются вполне архаические черты: обращение «матушка», к примеру, трудно представимое в этом контексте уже в Екатерининскую эпоху (№ 50).
Иностранные языки: признаки начинающейся галломании несомненно присутствуют. В упоминании, к примеру, петербургских петиметров у Я. А. Брюса (№ 26) – на корявом французском, несмотря на то что Брюс провел до того год волонтером во французской армии. Столичной молодежи, впитавшей елизаветинскую придворную культуру, в Заграничной армии немного, вроде князя Сергея Мещерского (№ 26) или подписавшегося псевдонимом Pakalache, который по-французски адресуется своей Натали (№ 28). Обращает на себя внимание также, что на французском у остзейцев пишется адрес на конвертах[119]119
«В середине XVIII в. и позднее практически большинство адресов в немецких письмах написано по-французски» (Steinhausen 1889, 271).
[Закрыть].
В остальном преобладает немецкий, и не только благодаря письмам остзейцев. П. И. Шувалов, зная французский, говорил, однако, только по-немецки[120]120
Фавье 1887, 394.
[Закрыть]. Знанием немецкого обладают многие образованные русские офицеры помимо хорошо известного А. Т. Болотова. В совершенстве им владеют А. И. Бибиков, братья Панины, проведшие детство в Эстляндии. Над П. А. Румянцевым, который в молодости год провел при посольстве в Берлине, вообще посмеиваются из‐за его немецкого акцента[121]121
Бекасова 2006, 38–39.
[Закрыть]. Даже Степан Федорович Апраксин «говорил по-немецки достаточно»[122]122
Пишчевич 1884, 171–172.
[Закрыть]. На немецком, пусть и корявом, протопресвитер Заграничной армии Иоанн Богаевский[123]123
Его сын, Иван Иванович Богаевский (1750 – после 1802), учился «на иждивении отца» в Германии, затем по рекомендации российского посла в Берлине и при поддержке П. И. Панина получил место в Академии наук, став одним из лучших переводчиков с и на немецкий. Добился чина с потомственным дворянством, обер-секретарь Сената, редактор «Санкт-Петербургских Ведомостей». См.: Дружинин П. А. Неизвестные письма русских писателей кн. А. Б. Куракину (1752–1818). М. 2002, 95–104.
[Закрыть] общается с пастором Теге, стоя вместе на квартире[124]124
Теге 1864, 1117; Nachrichten 1759, 766.
[Закрыть]. Немецкий по-прежнему может иметь ключевое значение для карьерных стратегий[125]125
Болотов I, 275 о своих привилегиях в общении с полковником, не говорящим по-русски.
[Закрыть], а в армии, воюющей с пруссаком, особенно.
Вполне практическое значение все еще имеет латынь. Знания латыни требуются православным священникам при полках, где служит много иностранцев[126]126
ОДД СПС, 472–473 (тут речь о Молдавском гусарском полке). Среди гусар РИА также распространен немецкий, поскольку многие – выходцы из Габсбургских земель. О латыни в России XVIII в. см. статьи В. Ржеуцкого и Е. Кисловой в: Rjéoutski V., Frijhoff W. (eds.) Language Choice in Enlightenment Europe. Education, Sociability, and Governance. Amsterdam 2018, 169–224.
[Закрыть]; на латыни долго и пространно беседует с горожанами в Восточной Пруссии некий драгунский офицер[127]127
Pastenaci 1866, 473.
[Закрыть]; наряду с польским она востребована при марше и расквартировании РИА в Польше[128]128
Для этой цели, к примеру, в Обсервационный корпус специально искали офицеров и солдат со знанием латыни и польского (Опись дел Секретного повытья Московского отделения Общего архива Главного Штаба. М. 1890, 100).
[Закрыть]. Латынь по-прежнему употребительна и в дипломатической переписке по военным вопросам, прежде всего в корреспонденции с Веной[129]129
На латыни, к примеру, составлено письмо в. к. Петра Федоровича имп. Марии Терезии (OeStA. HHStA StAbt Russland I 37 Russica, Bl. 38).
[Закрыть].
Языковой трансфер, надо заметить, шел и в обратном направлении. В попытках найти общий язык с российскими войсками подданные Фридриха пытались учить русский: жена управляющего имением «могла сыскать ласку от казаков выучась несколько поруски […] и зато ее звали гуте мачка». Правда, результаты не всегда были убедительны[130]130
Шувалов И. И. – Голицыной П. И., Бреслау 20.05.1763 // Шувалов 1841 I, 134. «Так как прежний повседневный опыт показал повсюду, что некоторое ожесточение не только возникает, но и увеличивается оттого, что местные жители не могут объясниться со своими иноплеменными гостями, и что одни других не могут убедить, то первые, пусть даже пребывавшие в преклонных летах, видели себя принужденными учить чужой язык, если им посчастливилось встретить кого-то, кто мог говорить на обоих языках, и от которых они могли узнать русские наименования провианта и прочие часто встречающиеся или употребительные выражения. [Один деревенский] пастор приложил к этому большие старания, однако не извлек никакой выгоды. Ибо когда он в ответ на требования своих гостей (мародерствующих казаков. – Д. С.) ответил на их языке, что все припасы уже исчезли, они выказали мало радости, что житель Новой марки говорит на их наречии, ответив ему нагайкой, а один ударил его фухтелем» (Nachrichten 1759, 789–790).
[Закрыть]. Так же вынужденным образом выучил русский и прусский пастор Теге в петропавловском каземате, покуда его караульные рассказывали «батюшке» «русские народные сказки»[131]131
Теге 1865, 1157; Täge 1804, 282–284.
[Закрыть]. Первые результаты русификации явно видны и в корреспонденции остзейцев, от вкрапления русских слов и прямого двуязычия (№ 40, 99), перемешанного старого с новым стилем хронологии, употребления «братец» в «русском» стиле до русифицированных немецких топонимов (Cistrin) и удивительных грамматических гибридов (см. комментарий к «остзейским» письмам).
О почерках: в нашем корпусе их образцы даны в изобилии, и по ним многое можно сказать. Писарской разборчивой рукой составлены, конечно, прежде всего официальные письма. Для писем частных эпистолярный этикет предусматривает, чтобы они были писаны собственноручно, а не секретарем, как дань уважения и «приятства». Но все же несобственноручное писание по разным причинам присутствует и в частной корреспонденции. Во-первых, в случае, когда письмо, не будучи служебным, должно иметь более официальный характер. Такой прием применен, например, в № 89, где Фермор предупреждает своего знакомого о недопустимом поведении его сына в армии. Четкий писарский почерк отличает письма Харитона Зуева или Алексея Ильина (№ 48–53, 56), но по другой причине: это профессионалы, штабные канцеляристы, которые не делают разницы и для собственной частной переписки. Почерком Ильина написаны также два письма Степана Ржевского (№ 45–46) – но здесь, как в аналогичных случаях, из‐за слабости и/или ранения отправителя. Раненый Степан Ржевский извиняется в письме родителям: «Рукою еще вовсе управлять не могу, что из даннова моево писма видеть изволите». И тем не менее второе письмо родителям еще успевает написать сам (№ 47).
Кн. Василий Долгоруков, также раненый, пишет жене самостоятельно. По его почерку заметны и слабость из‐за ранения, и следствия его непростой судьбы. По преданию, как отпрыску ненавистного рода при имп. Анне Иоанновне ему было запрещено учиться грамоте и свои умения он приобрел исключительно самостоятельно (№ 77). По выработанности почерка можно, кажется, судить об общей степени культурности автора: круглый, крупный почерк Николая Николева, с буквами, написанными порознь, напоминает детский и вполне соответствует лапидарности и примитивности содержания (№ 18–22). Однако на такой же сетовал и издатель мемуаров М. В. Данилова, человека отнюдь не заурядного: «очень дурного почерка, едва ли не детского»[132]132
Строев П. М. [Предисловие] // Данилов 1842, IV.
[Закрыть].
Проблема нечитаемости почерков, очевидно, была актуальна и для современников: в большой степени этим объясняется неудача двух переводчиков перед Леонардом Эйлером в передаче содержания русских писем. Сам Эйлер в плохо читаемых местах подписывал над строчкой по букве, что скрывают каракули автора (например, в письме Я. А. Брюса жене, № 26). Интересно, что плохо разбираемые почерки характерны скорее для высшего офицерства (В. Долгоруков, П. И. Панин и др.), которое, очевидно, многое может делегировать писарям. То, что мы имеем дело с общей проблемой, говорит и пример П. А. Румянцева: его писем адресаты часто не могли разобрать, для дешифровки требовалась помощь супруги, сестер или сыновей[133]133
Бекасова 2006, 57–58. Почерк мог сыграть важную роль в карьере. Так, в ответ на просьбу сына устроить его в российское посольство в Париже отец отказывает на том основании, «что порусски напишешь, никто прочесть не может […] Брось все науки, а учись писать слова снова» (Р. И. Воронцов – А. Р. Воронцову, [СПб.] 22.07./02.08.1759 // АКВ XXXI, 33. Поскольку проблема с «худым и нечотким почерком» в дальнейшем так и не исчезла, Александру Романовичу Воронцову приходилось посылать важные письма в двух экземплярах – с копией писарским почерком (Там же, 81–82, 113).
[Закрыть]. В лейб-гвардии Семеновском полку полковым писарям для исправления почерка устраивали даже «каллиграфический класс»[134]134
Карцов 1854, 92.
[Закрыть].
С другой стороны, небрежность в письмах может объясняться полевыми условиями утомительного марша, а также, как нередко оговаривается в самих письмах, необходимостью спешно закончить их «за отправлением куриера» (№ 105).
Политика полей у страниц также подчиняется правилам эпистолярного этикета. В официальных письмах широкие отступы по горизонтали и поля по вертикали обязательны. Однако в частных письмах вставки на полях встречаются довольно часто. Иногда из‐за недостатка бумаги практически все поля использованы для того, чтобы уместить на них окончание письма, как в грузинском письме № 85. Зато даже в этих походных условиях авторы практически не допускают замаранных слов. Обратные примеры чрезвычайно редки, ибо помарки рассматриваются в эпистолярном этикете эпохи как «великая неучтивость»[135]135
«Всего дурнее, что ты в письме еще и мараешь слова. Это великая неучтивость: я требую от тебя, чтобы ты писал нескоро и чисто» (Р. И. Воронцов – А. Р. Воронцову, [СПб.] 06/17.10.1758 // АКВ XXXI, 29).
[Закрыть].
При отсутствии устоявшихся орфографических и грамматических правил, разумеется, не соблюдаются они и в корреспонденции. Пунктуация редко отсутствует вовсе; но там, где она есть, употребляется, как можно ожидать, тоже вразнобой. Наряду с современными (запятая, точка) используются архаические формы, типичные для европейского XVIII в. в целом (надстрочные точки в конце предложения; там же как вариация могут стоять двоеточие, точка с запятой, точка и косая черта и т. п.), или заимствования (точка или запятая после порядкового числительного в датах аналогично немецкому узусу («12. сентября»). В одном случае (№ 9) точками вообще разделено каждое слово в письме.
Если передача на письме московского «аканья» общераспространена, то в написании слов нерусского происхождения («отаковали», «батальяны») или географических названий («Кенец берх») явной становится разница в образовании и культурном багаже.
С точки зрения современной пунктуации текст кажется «неживым», лишенным эмоций и интонаций. Эпистолярная культура елизаветинской России отличается тут и от собственных книжных норм, и, в сравнении, от немецкой культуры корреспонденции. Там с пафосом «естественности» и чувственности письма иной раз стали представлять собой «исключительно, к месту и не к месту употребленные, восклицательные знаки» – удвоенные, утроенные и учетверенные[136]136
См.: Steinhausen 1889, 279–280.
[Закрыть]. То же касается многочисленных «Ах!», «О!» и прочих атрибутов последующей сентиментальной эпохи. Можно ли отсюда заключить, что правы люди этой самой следующей эпохи, как тот же не дающий мне покоя Иван Иванович Бецкой со своей метафорой о «бездушных» телах до Екатерины II или пруссаки, характеризующие русских как бесчувственных варваров?[137]137
См.: № 115–116 и комментарий.
[Закрыть] Вряд ли.
Исследователи эпистолярной культуры опираются преимущественно на тексты, созданные культурной элитой – чем офицерство в елизаветинской России, и тем более, в полевых полках, явно не является. Тем не менее и в наших письмах есть прямые свидетельства об эмоциональном климате эпохи. Секретарь Алексей Ильин пишет о «льющих слезы» офицерах, отправляющихся в армию. И хотя «плаксивым» они себя признавать не хотят, но и «нечувствительный человек» служит синонимом для человека «негодного» (№ 53). В другом месте выражение шока передается через: «немые были и не чювствовали себя» (№ 56).
Эмоционализация присутствует и в употреблении междометий: вместо привычных «Ах!» и «О!» европейского сентиментализма – универсальное «ей-ей» («ее (ей-ей) сердечно сажелею» см. № 27, 32 и др.), вводные типа «чур» («Толко чур не так вот как прежде», № 61) или уже совсем просторечное «ну-та ли» (№ 61). Оставляю при этом открытым вопрос, означает ли разница в формах выражения разницу в самих эмоциях. Эмоциональную нагрузку несут и сформулированные «чувствительно» места. Например, «Боже милостив, Господи, как мы бесчасны» или «alors pour l’Amour de Dieu soyez moi fidelle» (№ 28, 78)[138]138
Бога ради, будьте же мне верны (франц.).
[Закрыть]. Только «вопросительной» или «удивительной» (восклицательный) знаки при них отсутствуют. Восклицательный знак вообще употребляется редко и исключительно формально, при обращении (№ 69, 70, 89). Очевидно, он воспринимается как атрибут высокого формального штиля и книжной культуры. Восклицательный знак употребляется также в местах, к которым требовалось привлечь особое внимание читателя, например: «А за прусским лагарем ‹…› вседневно примечание было!»[139]139
В ответах В. В. Фермора на опросные пункты Конференции по окончании кампании (Яковлев 1998, 88).
[Закрыть]
Перенос и в русских, и в немецкоязычных письмах обозначается редко и, как правило, не современным способом, а особым значком, как, к примеру, в прусских письмах (№ 111, 112) или двумя параллельными штрихами аналогично современному знаку равенства (например, в письме П. И. Панина жене № 8 и др.). В качестве знака «вместительного» (скобки)[140]140
Ломоносов М. В. Российская грамматика. М., 1755, 60–61 (§ 126–133).
[Закрыть] могут употребляться квадратные скобки (№ 55); тире и дефис отсутствуют вовсе.
В одном месте, стремясь придать эмоциональность тексту, остзеец прибегает к приему на манер детских книжек с картинками в тексте, вставляя их вместо слова «сердце» («желаю иметь великое счастье, чтобы еще раз в этой жизни тебя мое вселюбезное ♡ мог обнять», № 99).
Из других пикториальных знаков отметим присутствие в письмах (№ 7, 8, 67) сверху на полях креста. Какие-то особые благочестивые пассажи при этом отсутствуют. Крест представляет собой, очевидно, благословение автором своего письма и должен помочь ему дойти до адресата. Маркирование подобным образом личных документов подтверждается аналогичными примерами: так, в дневнике 1786 г. помещик при поминании умерших «выставлял в таких случаях слева на полях крестик»[141]141
Сивков К. Полгода из жизни провинциального помещика конца XVIII века) // Голос минувшего. 1915. № 9, 271–277, здесь 275.
[Закрыть]. И в светском по характеру «Маршруте Четвертого гранодерского полка» 1757–1763 годов. Я. Я. Мордвинова по всей тетради снизу на полях идет постраничная запись-скрепа: «Млстью – Гда – бга – испса – нашего – Иисуса – Христа – поблагодати Иево – вседержителя – десницы – всегда – ныне – иприсно – ивовеки – веков – Аминь»[142]142
Мордвинов.
[Закрыть]. Аналогичная практика засвидетельствована для консервативного купечества и столетием позже: «При начале письма отец почти всегда ставит крест в знак того, что пишет, испрашивая Божьего благословения»[143]143
Выходец из купечества Н. П. Вишняков о своем отце, П. М. Вишнякове (1781–1847), цит. по: Ульянова Г. Н. Автобиографические тексты купечества: религиозное сознание и религиозное поведение // Манчестер Л., Сдвижков Д. А. (ред.). Автобиографика и православие в России кон. XVII – нач. XX вв.: вера и личность в меняющемся обществе. М. 2019 (в печати). См. там же, что крест или «ГБ» (Господи, благослови») ставились в начале амбарных книг.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































