Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
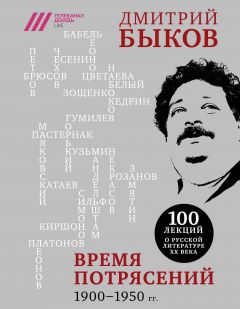
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Иван Катаев
«Ленинградское шоссе», 1933
Начнём разговор о 1933 годе, о повести Ивана Катаева «Ленинградское шоссе». Это довольно неожиданная вещь, что мы отобрали для элитной, золотой сотни повесть Катаева (подчёркиваю, Ивана Катаева, а не Валентина). Тут есть две причины. Во-первых, это действительно очень хорошая повесть. Во-вторых, я стараюсь всё-таки говорить не о том, что широко известно. Мы уже огребли определённые нарекания за то, что у нас 1927 годом, скажем, не помечена «Зависть». И действительно, «Зависть» Олеши – один из ключевых текстов, но я Олешу приберегаю на 1965 год, на посмертную публикацию его величайшей книги «Ни дня без строчки», которая потом стала называться «Книгой прощания». Мне кажется важным поговорить о ней. Всё-таки я стараюсь говорить о том, что сейчас не в центре внимания.
Я человек не завистливый, тем более что в судьбе Ивана Катаева завидовать особенно нечему. Это расстрелянный, репрессированный, как и большинство талантливых авторов прозы в 30-е годы, писатель. Поэтам иногда удавалось уцелеть или путём молчания, или потому, что Сталин в поэзии хоть что-то, да понимал. Но поэтов тоже косой косило безотказно. Прозаикам, особенно таким, как «перевальцы» (группа «Перевал» пыталась сохранить некую идеологическую нейтральность в 20–30-е годы), конечно, ничего не светило. Тем не менее, хотя в судьбе Катаева завидовать нечему, я читал «Ленинградское шоссе» со жгучей завистью просто потому, что такой прозы давно нет. Я считаю Ивана Катаева в некотором смысле предтечей Трифонова. Будущие трифоновские подтексты, образ Москвы, ключевой в литературе 60–70-х годов, – всё это катаевское. Вот об этом мы сейчас и поговорим.
Вообще вся проза 30-х годов чётко делится на две группы. Первая, большая часть, – радостное воспевание социалистического строительства. О чём мы говорим прежде всего? Конечно, Гроссман. Хотя Гроссман и пишет в эти годы пронзительный рассказ «В городе Бердичеве», но всё-таки у Гроссмана есть довольно точная идея, им выстраданная и довольно искренняя, что этот новый мир и строительство новой жизни – благодатная и прекрасная тема для литературы, что новые люди состоялись. В незаконченном романе «Степан Кольчугин» он тоже описывает пролетариат как движущую силу революции. Ради бога, он во всё это верит. Это и, как ни печально это говорить, рассказ Бабеля «Нефть», в котором дан сусальный, много ниже бабелевского таланта, образ женщины нового типа, которая работает на исследованиях, на геологоразведке, планирует, сколько нефти получит Россия, строит грандиозные планы, одновременно решает личную жизнь подруги. В общем, это образы победителей и покорителей нового мира. Весь русский производственный роман в диапазоне от «Гидроцентрали» до «Дня второго» работает на ту же тему. Есть вторая группа литераторов – это люди, которые скорее горько сожалеют о происходящем или, по крайней мере, понимают, что родимые пятна и родовые черты России никуда не делись, что вместо индустриализации получится погибель. Это прежде всего Платонов, который очень быстро понял, что всё заканчивается котлованом, это Леонид Леонов, который умудрился в романе «Скутаревский» и особенно в «Дороге на океан» показать утопичность, невозможность этого строительства. Это Пильняк, который довольно чётко показал, что всё выходит на прежнюю матрицу. То есть это люди, которые не верят в эту новизну. Иван (я всё время это подчёркиваю, потому что гораздо более известен Валентин) Катаев в этом мире стоит наособицу. Он искренне сожалеет и сострадает тем, кто не вписывается в эту новую матрицу. Не сказать, что он сочувствовал тем, кто строит новый мир, что он его любит. Но самое главное – он восхищён масштабом происходящего, той страной, которая может себе позволить такой диапазон.
Вот это вечный вопрос, на чьей стороне Катаев в «Ленинградском шоссе»: на стороне стариков, которые гибнут? На стороне раскулаченных или церковников? Нет, они у него довольно непривлекательные, жалкие ребята. На стороне новых людей, таких как дети Саввы Пантелеева, которые пришли его хоронить? Да нет, они склочники, они всех хотят арестовать, они душевно пусты, лишены милосердия. И хотя они весёлые, жизнерадостные и очень профессиональные, но таких людей нельзя провозгласить нормальной альтернативой. Так за кого же он? А он за Ленинградское шоссе. Он за то, что получается в результате. Он за ту пирамиду, которую воздвигают из своих тел все эти люди, за ту грандиозную картину, которая в результате получается.
Финал «Ленинградского шоссе» – никак не связанное с повествованием, оторванное от него внезапное трёхстраничное описание сначала Ленинградского проспекта, потом стадиона «Динамо», потом Красной площади – всей этой гигантской магистрали, прорезающей Москву, идущей от Красной площади через Тверскую-Ямскую, через будущую площадь Маяковского, тогда ещё Кудринскую, насквозь через Триумфальную, через стадион «Динамо», где стоя приветствуют турок, приехавших туда. Заканчивается она мирной московской окраиной, на которой только что похоронили старого мастера. Этот путь, это шоссе – оно и есть ответ, великая картина, в которую всё складывается, в том числе и наши жизни, в которой их оправдание. Очень многие спрашивали, что означает московский пейзаж в финале «Долгого прощания». Что хочет сказать Трифонов этим образом, явно отсылаясь к Катаеву: «А Москва катит всё дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу гибель, с каждым годом всё гуще. Ляля удивляется. «И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повырастали?» Вот этой фразой, огромной, разверстанной на несколько строчек, как всегда у Трифонова, заканчивается повесть. Что он хочет этим сказать? Что это за амбивалентность такая? За кем правда: за Лялей, за Ребровым, за кем она? А правда вот за этой Москвой, которая катит, правда за той пирамидой, которая складывается из костей. Это очень нестандартный, не похожий ни на что вывод, но взято это из Катаева. Я думаю, это единственно возможный вариант.
Вот что пишет Катаев о семье Саввы Пантелеева, который умер. Савва Пантелеев – почти семидесятилетний жилец дома на тогдашней окраине Москвы (теперь Сокол – вполне себе престижный спальный район). Он сдает полдома, дети разлетелись, сам он всё время покупает у старьёвщика какой-то дрянной скарб и налаживает его. В руках у него, как у героя «Происхождения мастера» Платонова, «способность ко всякому рукомеслу», он очень любит всё налаживать. Но проблема в том, что, поскольку он вообще человек сырой, неудачливый, у него и эти починенные вещи работают очень плохо. Весь дом заставлен какими-то уродцами вещей, ублюдками этой семьи, часы плохо ходят. Единственный более-менее приличный артефакт в доме – тоже чудовищно уродливая фарфоровая фигурка, купленная когда-то в 20-е годы и чудом переехавшая с этой семьёй, спасшаяся во всех переездах. Обратите внимание, каким правильным и чистым языком – для прозы 30-х годов это редкость, она вся или орнаментальна, или нарочито корява, как у Гладкова, или уж совсем невыносимо почвенна, как у Панфёрова, – он описывает эту семью:
«И всё, что собралось тут, происходило от того, кто лежал там, и сохраняло несомненную похожесть на него: этими-то как раз мягко очерченными, розовеющими щеками – на те, щетинистые, жёлтые, этими выпуклыми светящимися лбами – на тот, с застывшими толстокожими морщинами.
Пустивший в мир столько жизней, зачавший их в забитости, в алкоголе, кончился. А они, молодые, продолжались: похаживали, вздыхали, украдкой острили.
Это была прочная русская рабочая семья из Западного края, семья, пережившая со своим народом и классом все великие перемены и потрясения двух последних десятилетий. Тысяча девятьсот пятнадцатый год вырвал её из освоенной почвы и, надолго окрестив беженцами, в телегах и теплушках прогнал через всю грозово помрачневшую равнину, чтобы кинуть в мучной и бездорожный городишко на берегу Волги. Раструсив весь свой деревянный, тряпичный и глиняный скарб, семья вывезла с Запада только склонность к опрятности, мучительную по наступившим временам, только это далековатое “вы” родителям и привычку отдавать детей одного за другим в городское училище. Пока отец приноравливал свои навыки кожевника к ходу паровой мельницы-крупорушки, пока старший сын возил военные грузы по Сызрано-Вяземской дороге, а второй, перебравшись в Москву, чинил потрёпанные фарманы и блерио на Дуксе, – две дочки на помочах беженской благотворительности завершали учение, и подрастала младшая. Осенние бури девятьсот семнадцатого и месяцы, помчавшиеся вслед за ними, ещё дальше разметали обоих сыновей; первые связные и длинные письма были получены от одного из-под Казани, от второго – из штаба Южной завесы; последнему сыну, ровеснику революции, суждено было нелёгкое младенчество. Гражданская война, стихи, союз молодёжи, вольность раскрытых, бесконечных дорог разлучили с семьёй и старшую дочь; с тех пор она больше не жила дома. Да и сам-то дом скоро во второй раз снялся с места. Двадцать первый год, страшно дохнув из Заволжья азиатской бедой, сорвал семью с якорей и бросил сюда, к подножию Москвы, на слободскую окраину, где Сергей, к тому времени демобилизованный, заарендовал на имя отца этот самый домишко. Настал счастливый всероссийский миг возвращений, свиданий, отдыха, опамятованья; тут и Пантелеевы собрались все сразу под одним кровом, и даже шальная Александра, тогда в шинели, подпоясанной ремнём, заглянула ненадолго. Но встретились только для того, чтобы снова расстаться – накрепко, навеки, отрываемые друг от друга уже не столько вёрстами, сколько расхождениями судеб. Старики остались с двумя младшими, потом приняли внучку и жили так на Саввино жалованье заводского сторожа, последние два года на пенсию, сдачей комнат, на случайные червонцы от взрослых детей, жили робко и неслышно».
Эти два, а теперь уже и три поколения семьи противоположны, безусловно, по вектору, хотя все похожи на Савву Пантелева. Чем похожи? Вечной страшной незавершённостью судьбы. Это важная штука, она как-то проскальзывает там у Катаева. Он всё время даёт понять, что так удачно вписавшиеся в мир дети Пантелеевых тоже с роковым изъяном.
Александра – поэтесса и агитаторша, теперь она журналистка, сдала внучку старикам, никак не может найти мужчину по себе. Другие – ясно, что и браки их недолговечны, и в их занятости тоже чувствуется какая-то фальшь и самоподзавод, в их кочевой жизни – отсутствие уюта и опоры. На похороны приехал извозчик, который хорошо знал Пантелеева по прежней жизни, он оказался бывшим кулаком – они немедленно хотят его ущучить и сдать в ГПУ. Это желание тоже от какой-то внутренней страшной неполноценности. У Саввы в руках ладится всякая работа, а меж тем ничто не работает после этого, так и они не до конца вписались в новую жизнь. Во всём есть роковой урон, ущерб. В чём он? Наверно, в том, что и Савве, и им присуще одно страшное врождённое уродство, одна страшная врождённая неполнота. Это врожденное чувство собственной неправоты, отсутствие собственного достоинства. Поэтому этот дом без якоря, поэтому с ними можно сделать всё, что угодно.
Строго говоря, почему умер Савва? Он сдаёт комнату куплетисту, который выступает под псевдонимом Адольф Могучий. На самом деле он бездарь, пошляк. Он на Савву наорал и пригрозил вывести его на чистую воду, подать на него в суд, отказался платить. Савва, вместо того чтобы спустить его с лестницы, от страха ночью умер.
Всех этих людей оттого и носит по миру, что у них нет корня, якоря, нет самостояния, какой-то прочной основы. В этом и трагедия, что они носятся по всей России, нигде не закрепляются. Сейчас они беспрерывно осваивают новые пространства. Все пантелеевские дети заняты освоением новых земель, строительством заводов, но ясно, что эти земли не будут их. Они ничему не хозяева, в этом и весь кошмар. Единственное здесь, что прочно, – это Ленинградское шоссе, которое пролегает в бесконечность и вбирает в себя все эти судьбы.
Возникает естественный вопрос: если повесть Ивана Катаева до такой степени безоценочна и нейтральна, содержит в основном довольно объективные данные, совершенно аполитична, за что пострадал этот автор?
Катаев – «перевалец», не рапповец, попутчик, как это тогда называлось. Во-первых, «перевальцы» в большинстве своём, во главе со своим теоретиком Воронским, были на подозрении у советской власти потому, что это была организованная группа. При советской власти к группам лучше не принадлежать, всякая группа уже зародыш сопротивления.
Поэтому и Воронский не успел увидеть изданной свою лучшую книгу, биографию Гоголя, поэтому и Катаев, ещё начиная с 30-х годов, с публикации рассказа «Молоко», подвергался яростной критике, в основном почему-то за христианские мотивы, за реабилитацию церкви, хотя там этого нет. Даже в «Ленинградском шоссе» живущий при церкви бывший беспризорник – один из самых неприятных героев.
Видимо, проблема в том, что в Катаеве – и критика это безошибочно чувствовала – очень много настоящей, глубокой, невыдуманной человечности. Тот гуманизм, который у него есть, как раз и отпугивал идеологическую критику. Катаев не готов жертвовать человеком ради самых великих и грандиозных перемен.
Понимаете, как у рапповцев было своего рода античутьё, они провозглашали правильным всё самое бездарное: чем бездарнее автор, тем он правильнее, неважно, какое у него происхождение, точно так же своего рода чутьё на талантливое было у погромной критики 30-х годов. Катаев просто очень хорошо пишет. Это действительно редкое явление, когда плотная, экономная, чистая речь без диалектизмов, без новояза. Вот за это, за повести «Жена», «Поэт», «Сердце» его не любили, за то, что он пишет такие удивительно чистые вещи. Странно, например, за него не вступался даже Горький, который вступался за всех. Почему? Наверно, потому, что Горький – он и Леонова, кстати, разлюбил в тридцатые годы – не любил вступаться за тех, кто писал лучше него.
Вот поэтому этот полузабытый писатель своё второе рождение пережил в шестидесятые, когда его жена, героически спасшая его имя, его рукописи, кстати, сама хорошая поэтесса, начала публиковать его повести. Тогда гремело имя другого Катаева, Валентина, уже сочинявшего в духе мовизма, поэтому многим, как и мне в своё время, сборник Катаева достался по ошибке. Но только после того, как он мне достался, я понял, что его великий однофамилец сильно уступает ему во врождённом таланте.
Когда сегодня наша собственная жизнь кажется нам бессмысленной (а она, конечно, особенно в такой меняющейся стране, особым смыслом не обладает), мы можем по-катаевски подумать, что ведь от нас остаётся тот пейзаж, который мы создали. Этот пейзаж когда-нибудь если не доставит эстетического наслаждения зрителю, то, по крайней мере, многое о нас расскажет. От всего остаётся Ленинградское шоссе, и это, в общем, не самый мрачный вывод.
Не является ли Иван Катаев родственником Валентину Катаеву и его брату Евгению Петрову?
Нет, между ними нет никакого родства. Зато он являлся двоюродным братом великого математика, академика Колмогорова. Как ни странно, за Катаева, когда речь шла о его реабилитации, больше всего вступались математики. Надо ещё заметить, что он сам по себе обладал (это тоже, наверно, его сгубило) очень многими связями. Он лично был необычайно привлекательной фигурой, со многими дружил, его многие знали. Он был одним из центров русской литературной жизни.
Нельзя сказать, что он был влиятельным, но к его мнению, его словам, критике очень прислушивались – не в последнюю очередь потому, что он был одним из создателей «Литературной газеты». Как вы помните, её придумал Дельвиг в 1831 году, но возобновил её Катаев после Съезда писателей. В «Литературной газете» он был одним из лучших, самых беспристрастных редакторов. Он печатал там хорошие вещи. Эту его роль мы, конечно, обязаны вспомнить, особенно с учётом того ужаса, в который «Литературная газета» превратилась сегодня.
Владимир Набоков
«Приглашение на казнь», 1934
1934 год на нашем календаре, и мы поговорим о романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь».
Тут сразу два момента, которые делают наш разговор недостаточно легитимным. Во-первых, мы договорились, что всё-таки наша основная тема – это книги, написанные в России. Но поскольку литература русской диаспоры так или иначе давно уже входит в золотой, не побоюсь, фонд русскоязычных текстов, было бы, наверное, неправильно пренебрегать романом Алданова «Самоубийство», романами Набокова, романами Газданова, наверное, неправильно было бы игнорировать «Тёмные аллеи» Бунина, поскольку всё равно ничего более важного в этот период на русском языке не появлялось. Поэтому мы постепенно начинаем привлекать русскую литературу, написанную в зарубежье, к нашему основному корпусу. Ну и, естественно, второй вопрос связан с тем, что трудно установить основную дату написания «Приглашения на казнь». Роман вчерне был закончен в 1934 году, доведён до ума в 1935-м, напечатан вообще в 1938-м, поэтому публикация «Приглашения на казнь» – это довольно сложная отдельная история. Но тем не менее мне представляется очень важным, что Набоков основной корпус этого романного текста сочинил за три дня. Те обстоятельства, которые предшествовали его рождению, довольно загадочны.
Набоков был вообще единственным русским писателем, который реагировал на вызовы стремительно, и реагировал на них творческими взлётами. В 1934 году у него было два обстоятельства, которые чуть не свели его с ума: во-первых, Вера рожает в мае, и рожает она довольно тяжело, поскольку это поздний ребёнок, ей действительно к этому моменту 33 года, они с Владимиром достаточно долго откладывали его рождение, потому что денег не было. В какой-то момент им сказали, что дальше рисковать они не могут, потому что она может просто умереть во время родов, и они решают завести ребёнка. А второе обстоятельство, как вы помните, 1934 год, в Германии уже фашизм, причём пришедший к власти совершенно демократическим путём, уже на всю Европу набегает страшная тень. И как раз когда Набоков возвращается в 1934 году по майской улице, оставив Веру в роддоме, у него зарождается мысль о романе «Приглашение на казнь». Здесь путь от замысла до воплощения оказался стремительным. Первый карандашный стостраничный вариант романа был написан буквально запоем в ближайшие три дня. Можно сказать, что Набоков таким образом отвлекался от мучительной тревоги за жену и ребёнка. А можно сказать, что это был его способ противостоять обстоятельствам. Потому что Набоков, потомственный дворянин и очень высоко это дворянство ценивший, очень высоко опять-таки ценит и рыцарственный кодекс поведения – надо отвечать не рефлексией, не страхом, не дрожью, а действием. Его роман «Приглашение на казнь» – это страшный, жестокий, развенчивающий ответ на всё то, что происходит в это время в Германии. Это одна из самых страшных и в то же время одна из самых смешных книг Набокова, потому что уже спустя четыре года в «Истреблении тиранов», очень важном для него рассказе, он говорит, что единственным способом бороться со страхом остаётся смех. Но тем не менее не только в смехе дело, впервые этот смех у Набокова носит такой мрачный, сардонический и циничный характер. Когда Набоков читает в русских литературных салонах первые главы «Приглашения на казнь», он впервые в жизни сталкивается с массовым неодобрением. Он, избалованный восторгами публики, он, после «Защиты Лужина» провозглашённый наследником Бунина, оправданием нового поколения русских писателей, выслушивает отзывы типа «это шизофрения» и «это садизм». И действительно, в «Приглашении на казнь», как в будущем потом романе «Bend Sinister», тоже некоторые элементы садизма по отношению к читателю присутствуют, конечно. Здесь Набокову нужно исчерпать, доскрести до дна собственную ненависть, омерзение, страх, и этого добра здесь очень много, это жестокий роман.
Ну и нечего говорить о том, что роман этот давно разобран по косточкам бесчисленными славистами, и в общем из всех книг Набокова, если не считать «Дара», это самое разбираемое, самое интерпретируемое его произведение. Это роман-сказка, что важно. В XX веке было несколько таких прелестных жестоких сказок. Рядом с ним можно поставить, например, роман-антиутопию Веры Пановой «Который час». Ничего общего, конечно, не имеет эта книга ни с Кафкой, которого часто прочили Набокову в учителя, на тот момент он «Замка» ещё не читал, тем более давайте не забывать, что Набоков по-немецки не читает, а переводы «Замка» на английский появились позже. «Замок», конечно, имеет некоторые сходства, прежде всего по своей сновидческой кошмарной конструкции, такой nightmare, как, собственно, Честертон обозначил когда-то жанр «Человека, который был четвергом». Но это не просто кошмар, кошмар, во всяком случае, не кафкианский, кошмар гораздо менее серьёзный, в каком-то смысле гораздо более насмешливый и в общем гораздо более жизнерадостный, как это ни ужасно звучит. Параллели же с романом Оруэлла «1984» вообще смешны, поскольку, как вы знаете, он был написан 12 лет спустя. Соответственно, единственный источник, более-менее близкий, который можно было бы, наверное, указать, – это роман Замятина «Мы», о котором мы уже говорили. Идея романа «Мы» здесь отозвалась в образе вот этого прозрачного мира, всеобщей прозрачности, Цинциннат обвинён в гносеологической гнусности, он непрозрачен для окружающих. Помните, что в мире Замятина все живут с прозрачными стенами и опустить занавеси можно только на сексуальный час. Вот это единственное, чем исчерпывается сходство.
На самом же деле Набокову каким-то образом удалось предсказать мир постмодерна, и по большому счёту главное набоковское открытие заключается в том, что он рассматривает фашизм как высшую стадию постмодернизма. Постмодернизм – это мир, где всё равно, где утрачены все оппозиции и все смыслы, где у людей не осталось базовых понятий. Вот такие очевидные нормы, как сострадание, эмпатия, любовь, восхищение, такие необходимые вещи, как культура, как милосердие, как закон, – всё это упразднено. И не случайно в этом романе появляются такие ватные куклы – Пушкин, Лермонтов, вот это всё, что осталось от классиков. Этими куклами дети играют в школах. Это мир выхолощенный, вот что очень страшно. По Набокову, самое страшное – это не тоталитаризм, с тоталитаризмом можно бороться. Самое страшное – это иссякание смысла, это мир, в котором ничто ничего не значит и всё равно всему. Это мир торжествующей тупости, и это мир торжествующего обывателя, то, что очень скоро в романе «Bend Sinister» 1947 года будет названо скотомизацией, там есть такой мыслитель Скотома, который провозгласил ценность простого человека, героя по фамилии Заурядов, господин и госпожа Заурядовы. Вот идея «заурядности торжествующей», это я цитирую, как вы понимаете, перевод Сергея Ильина, но он довольно точен, идея торжествующей скотомизации, превращения в скот, в страну обывателей, в мир, где нет различий, – вот это для Набокова самое страшное.
Вы знаете, что одна из главных полемик XX века – это полемика вокруг тезиса Честертона: обыватель – лучшая сила в обществе, он надёжно стоит на пути у всяких революций и всякого тоталитаризма. Но тут вдруг оказалось, что обыватель – это и есть тоталитаризм, что обыватель – это оптимальная среда и главное сырьё для любого фашистского переворота. Почему? Да потому, что ему присущ культ нормы, культ заурядности. И именно этот культ лежит в основе фашизма. Не нужно думать, говорит Набоков, что в основе фашизма лежат героические мифы, фашизм же старательно рядится всегда в Зигфрида, нибелунгов, Вагнера, Ницше. Да ничего подобного! Ну какой там Зигфрид? Это обыватель, с брюшком, с лысинкой, в халате, самодовольный. А иногда он рядится в пролетария, неважно. Важно, что это человек, чьи представления заурядны. Это человек, которому чуждо сочувствие и чужда любовь, лишь бы не трогали. Вот это и есть обыватели, те самые люди, которые населяют будущий набоковский рассказ «Облако, озеро, башня». Они всегда затаптывают кого-то, потому что этот кто-то создаёт им необходимое ощущение родства и единения. Травля – ничто без этого тёплого чувства единения, и поэтому городу надо убить Цинцинната. Цинциннат ни в чём не виноват, но, уничтожая его, остальные горожане чувствуют себя правильными. В этом мире настолько нет никакого сострадания, что смерть обставлена массой комических и унизительных моментов. Перед тем как Цинцинната казнить, на сцену выскакивает герольд и радостно сообщает, что получена большая партия мебели и предложение может не повториться. А в театре с блестящим успехом злободневности идёт премьера оперы Фарса «Сократись, Сократик». А рядом одновременно Марфинька улаживает свою личную жизнь, Марфинька – это жена, уже чувствующая себя вдовой, жена Цинцинната. Марфинька – это тоже очень интересное существо, ведь Цинциннат страстно тяготеет к Марфиньке, он её любит, он её романтизирует, он вспоминает её грудь с земляничным соском, её холодные поцелуи со вкусом лесной земляники. Она очень много для него значит, но Марфинька – это кукла, это фетиш, муляж. И то, что можно к кукле испытывать сексуальное влечение, мы знаем ещё с гофмановского «Песочного человека», но знаем мы и то, что эта кукла лишена милосердия, сострадания, она лишена ужаса перед жестокостью. Помните, когда она своему сынку, калеке, злобному уродцу, говорит: «Оставь моментально кошку, позавчера ты уже одну задушил, нельзя же каждый день». Но это смешно всё, конечно. И смешон цинциннатовский тесть, который долго и со смаком Цинцинната проклинает, по написанному произнося традиционный монолог, начинающийся со слов: «Мне сдаётся иногда, что я просто-напросто старый болван и ничего не понимаю». Все они куклы, все они заводные герои, заводные герои кукольного театра. Цинциннат – единственное живое существо, потому что в этом мире уродцев, в мире полулюдей, в мире торжествующих недочеловеков, которые провозгласили себя сверхчеловеками, он единственный, кто не утратил любви, милосердия, попыток творчества, потому что ему всё время кажется, что надо кое-что дописать, хотя всё уже дописано.
Естественно, ключевой вопрос романа (во всяком случае, вопрос для его интерпретаторов) – жив герой или мёртв. Мы привыкли, нам хочется, чтобы нам в конце романа по крайней мере объяснили это. На протяжении всей книги мы сталкиваемся со сложной системой обманок. Сосед по камере оказывается будущим палачом, сторож тюрьмы оказывается её директором, день казни постоянно переносится. В общем, сама казнь оборачивается площадным фарсом, когда директор тюрьмы, встречая Цинцинната, говорит: «Превосходный сабайон», – угощая его ужином с личной кухни, но совершенно ничего не говорит о дате смерти. В общем, это система обманок, система фальшивых ходов. Самым обидным из них, конечно, оказывается ход с Эммочкой, дочерью начальника тюрьмы, которая подстраивает Цинциннату побег только для того, чтобы привести его в святая святых этой тюрьмы, в дом к её начальнику. Но в этой системе обманок нам всё-таки хочется знать главное, будет ли казнён Цинциннат. Потому что, хотя и тюрьма фальшивая, и правила в ней фальшивые, помните, там в правилах написано, что дирекция не отвечает за исчезновение каких-либо вещей, в том числе и самого узника. То есть всё насмешливо, всё пародийно, но смерть-то настоящая и страх смерти настоящий. И Цинциннат от этого страха всё время сходит с ума и всё время с ним борется. Отсечение головы представляется ему чем-то вроде выворота огромного зуба, который удаляет дантист. Ему всё время кажется, что всадник, как он пишет, не отвечает за дрожь коня. Действительно, душа не отвечает за дрожь и страх тела.
Так вот, как же заканчивается роман? Что же, собственно, там происходит? Вот об этом спорят абсолютно все читатели. Написано, что в какой-то момент, когда палач уже начал раскручиваться, чтобы нанести удар, Цинциннат вдруг поднимает голову, осматривается, видит, что всё уже никуда не годится, что деревья с фальшивой тенью для иллюзии круглоты уже падают, что рвётся сценический задник, «летела сухая мгла; и Цинциннат пошёл среди пыли и падших вещей и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». Вот этот мощный, оркестровый финал, трубные голоса оставляют нас тем не менее в полном недоумении. Мы не понимаем, что случилось с Цинциннатом. Во-первых, «блевал бледный библиотекарь», замечательная фраза. С чего бы это он блевал, сидя на ступеньках эшафота? Родриг Иванович подбегает к Цинциннату, крича: «Ведь вы лежали, всё было готово, всё было кончено!» – и это аргумент для противной стороны, как бы если Цинциннат встал и пошёл, значит, он жив. А если летела сухая мгла, это может означать, с одной стороны, то, что рухнул мир, но и, с другой стороны, рухнула жизнь героя. Тут, в общем, опять-таки возможны полярные трактовки. В финале этого романа, самого обманного у Набокова, мы остаёмся в полном неведении, что случилось. Но Набоков всегда говорил, что для стоящего писателя это не важно, для него важны приёмы, важна мысль, важно, что он абсолютное божество в книге, и Цинциннат, в конце концов, такая же кукла, как и все остальные герои. Но, как мы понимаем, такое объяснение входит в противоречие с авторской идеей: Цинциннат – единственный живой из всех этих персонажей. Мы хорошо помним его светлые пушистые усы, помним, как он смотрит на свои большие пальцы и говорит «вы-то, милые, вы-то ни в чём не виноваты». Мы помним, как он пишет, как он дружит с пауком, как он падает в обморок, и мы не желаем Цинцинната признавать куклой писательского воображения. Он для нас живой, точно так же он единственный живой в книге. Поэтому нам приходится сделать, вместе с Набоковым, единственно возможный и, к сожалению, неутешительный вывод – Цинциннат, безусловно, погибает и именно его смерть становится условием его освобождения. Потому что в мире, который нарисовал Набоков, существа, подобные ему, могут существовать только на другом плане реальности, только вне жизни. Когда человек покидает мир, мы это хорошо помним по «Дару», у него словно открывается не один глаз, а все глаза, он словно начинает смотреть во все стороны, вырвавшись из клетки тела. И, безусловно, вот эта заветная набоковская мысль о том, что после смерти наступает другая реальность, которую он провидит иногда, потусторонность, о которой написано его последнее стихотворение, вот это, пожалуй, мысль наиболее важная. Не случайно герои романа «Ада» живут на некой планете Антитерра, где всё иначе, где другая география, другая физика, и они всё время обдумывают вопрос, существует ли Терра, существует ли Земля. Для героев Набокова очень важно, что существует второй мир, «о, поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна». Этот другой мир существует, но для того, чтобы в него попасть, Цинциннат обязан покинуть свою тюрьму, а тюрьма, это, конечно, более широкий образ земного существования.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































