Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
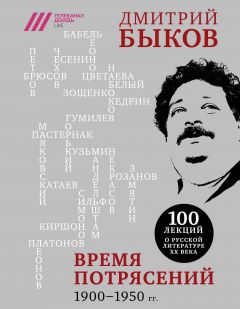
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Дмитрий Кедрин
«Зодчие», 1940
В 1940 году, правду сказать, ничего особенно радостного в русской литературе не произошло, кроме выхода небольшим тиражом изуродованного сборника стихов Дмитрия Кедрина «Свидетели».
Кедрин готовил этот сборник десять лет, тринадцать раз получал его на доработку. Сначала эта книга называлась «Русские стихи», слово это, «русские», ещё не было официально реабилитировано, потому что русским, а не советским стало можно называть всё отечественное только в начале войны. Но и тогда, в 1942 году, сборник под названием «Русские стихи» Кедрину зарезали. Зарезали его сборник «День гнева», где была собрана его военная публицистика. Он удивительным образом был невезуч в русской литературе. Не зря он в 1944 году писал жене: «Мне скоро 40, жизнь сгорела бездарно. Друзей у меня нет, читателей я не вижу, и всему виной ремесло, которое выбрал я, точнее, которое выбрало меня».
Тем не менее каким-то нечеловеческим образом Кедрину в 1940 году удалось напечатать довольно многое. Сначала драматическую поэму «Рембрандт», которую он считал одним из лучших своих произведений, и правильно считал, потому что, пожалуй, две хорошие пьесы в стихах, ну три, было в русской литературной традиции. Кедринский «Рембрандт», поэма Антокольского «Франсуа Вийон» и «Давным-давно» Гладкова. Всё остальные образцы, конечно, не выдерживают критики. Во-вторых, Кедрину в 1940 году удалось напечатать своё ныне самое известное произведение. Это, конечно, баллада «Зодчие».
Если искать Кедрину какой-то аналог, сравнивать его с великими авторами XIX столетия, пожалуй, он больше всего похож на Алексея К. Толстого. Та же великолепная чеканка формы, то же пронзительное лирическое чувство, удивительно сильное, та же любовь к историческим сюжетам. Причём, если, скажем, Антокольский всю жизнь отрицал, что он имеет в виду прямые исторические аналогии, он писал: я такой пошлости никогда не могу себе позволить. Но на самом деле, конечно, всякий поэт, обращаясь к истории, имеет в виду аналогии. Не случайно Алексея Толстого больше всего интересовало время Ивана Грозного, когда русская матрица начинала закладываться. И эта же эпоха больше всего волновала Кедрина.
Надо было обладать большим талантом и смелостью, чтобы в 1940 году, когда уже главной исторической фигурой был Иван Грозный, а Пётр уже был задвинут на дальнюю полку, вот в этом году напечатать стихотворение, в котором Иван Грозный представал зверем, злодеем. Кедрин излагает в «Зодчих» довольно распространённую и в общем не имеющую под собой никакого основания легенду, но судить об эпохе, судить о людях надо не столько по фактам, сколько по тем легендам, которые от этой эпохи остаются. Ну вот, например, мы все знаем, что мать Мария не перешивала свой номер другой узнице и не шла за неё в газовую камеру, а умерла от дизентерии в марте 1945 года, но легенда такая осталась, и все мы уверены, что Кузьмина-Караваева пошла в газовую камеру за другого человека. Почему так? Да потому, что это вытекает из всей логики её судьбы. И вот из всей логики правления Ивана Грозного вытекает то, что он убил своего сына, хотя сына он, как выясняется теперь, не убивал. Выясняется, в частности, и то, что Барма и Постник, строители главного шедевра русской архитектуры, строители храма Василия Блаженного, ослеплены не были. Но действительно, легенда такая возникла без каких-либо оснований, если не считать того, что основанием для неё была вся деятельность Ивана Грозного. Действительно, это очень в его духе, сначала спросить, можете ли вы, как сказано у Кедрина,
– Смерды!
Можете ль церкву сложить,
Иноземных пригожей?
– Можем!
Прикажи, государь!» —
И ударились в ноги царю.
И потом он опять их спрашивает: «А можете сложить лучше этого храма?» «Можем», – отвечают зодчие.
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,
И в землях Рязанских,
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!
Естественно, довольно сильные исторические вольности, масса отступлений от фактов, но в любом случае, все, что мы знаем о Барме и Постнике, это их имена. Вот Барма и Постник – двое зодчих, которые построили лучший русский храм. А в результате возникает легенда, что дабы никакого храма лучше построено не было, их приказали ослепить. Даже тут есть определённые разночтения в их возрасте, и в том, какой, собственно, храм это был и где он стоял, но вот то, что Грозный приказал такой построить, а потом ослепил исполнителей, это дожило до XX века. И именно эту легенду в 1938 году обрабатывает Кедрин и в 1940 году это стихотворение наконец печатает. Как это получилось, как ему это удалось? Очень многие исследователи его творчества, и российские и зарубежные, искренне недоумевают, каким образом можно было напечатать в 1938 году его стихотворение «Легенда об Алёне-старице». Все прекрасно понимают, что Алёна Арзамасская, о которой идёт речь, это звероватый такой персонаж, страшная сподвижница Степана Разина, которую потом в Москве долго пытали, и возраста мы её тоже не знаем, потому что старица не означает возраст, это означает, что она, видимо, из беглых монахинь. Мы вообще ничего не знаем про Алёну Арзамасскую, но главное, чего мы не понимаем, это каким образом Кедрину удаётся в 1938 году напечатать стихи:
Все звери спят.
Все птицы спят,
Одни дьяки
Людей казнят.
Вот эта страшная картина пыточного застенка, которая там нарисована, и страшные слова Алёны-старицы: «Сегодня – нас, а завтра – вас!», каким образом это всё проскочило через советскую цензуру? Понятно, что Сталин очень любил исторические произведения, но на самом деле тут просто господь каким-то образом помог, потому что Кедрин очень мало знал удачи в своей жизни. А вот то, что он напечатал при жизни «Алёну» и «Зодчих», это безусловная и принципиальная удача.
Судьба этого человека вообще странная и тёмная. Он родился в 1907 году, причём родился вне брака. Его усыновила потом семья старшей сестры, а мать его, Ольга, она родила его от случайного беглого романа. Он жил всё своё детство, проведённое в Екатеринославе, на попечении большой, интеллигентной, культурной, не слишком богатой семьи, которая с очень ранних лет приучала его к поэзии. Сам он сочинять начал лет с шести-семи. Он переехал в Москву, в Москве честно не скрыл, что на Украине просидел год. Сидел он с 1928-го по 1929-й за то, это вот новая, вернувшаяся к нам статья, за то, что называется «недонесение». Он знал, что у его друга отец – офицер-колчаковец, и он не донёс, и за это год получил. Правда, дали ему два, но он выпущен был досрочно. Он не скрывал этого факта ни в одной из своих анкет. Несколько раз ему предлагали стать осведомителем НКВД, и всякий раз он умудрялся отказаться. Вот это удивительная кедринская черта, в самом деле, мы можем себе представить Кедрина в какой угодно функции, в какой угодно социальной роли, но не можем его представить ни палачом, ни доносчиком. Каким образом можно было требовать от него, чтобы он донёс на друга? Тем не менее именно такова была норма тогдашней морали.
Кедрин – человек идеально чужой, принципиально не вписывающийся в это время. И хотя у него есть довольно много очень плохих, что уж тут его оправдывать, жалких попыток как-то примирить свой характер, свой нрав с советской властью, написать стихотворение, которое было бы не совсем советским и не совсем антисоветским. Таково, например, стихотворение «Добро» 1931 года, или «Кукла», которая так нравилась Горькому, потому что там Горький упомянут. Всё это половинчато. Кедрину прекрасно удавалась трагическая лирика, исторические баллады, а про советскую действительность он ничего написать не мог, это у него клинически не получалось. Все его попытки этой действительности коснуться, они выдают страшную натугу. Но зато посмотрите, какой органический, какой чистый, какой небывалый звук у Кедрина, когда это настоящий Кедрин:
Несчастный, больной и порочный
По мокрому саду бреду.
Свистит соловей полуночный
Под низким окошком в саду.
Свистит соловей окаянный
В саду под окошком избы.
«Несчастный, порочный и пьяный,
Какой тебе надо судьбы?
Рябиной горчит и брусникой
Тридцатая осень в крови.
Ты сам своё горе накликал,
Милуйся же с ним и живи.
А помнишь, как в детстве весёлом
Звезда протирала глаза
И ветер над садом был солон,
Как детские губы в слезах?
А помнишь, как в душные ночи,
Один между звёзд и дубов,
Я щёлкал тебе и пророчил
Удачу твою и любовь?..»
Молчи, одичалая птица!
Мрачна твоя горькая власть:
Сильнее нельзя опуститься,
Страшней невозможно упасть.
Рябиной и горькой брусникой
Тропинки пропахли в бору.
Я сам своё горе накликал
И сам с этим горем умру.
Но в час, когда комья с лопаты
Повалятся в яму, звеня,
Ты вороном станешь, проклятый,
За то, что морочил меня!
Вот это очень здорово, потому что только Кедрин с такой элегической и вроде бы шаблонной интонацией может так ровно провести стихотворение вот к этому финальному взлёту, к этому абсолютно парадоксальному финалу, в котором он обвиняет все клише мировой поэзии в том, что они ему так преступно солгали. Человека готовили к совершенно другой жизни, а жизнь, которой ему пришлось жить, была непрерывным отчаянным унижением. Но не будем думать, что в стихах Кедрина много вот этой романтической злости, на самом деле он как раз поэт примирения, поэт милосердия, и не случайно собственная подступающая зрелость, а потом и старость не вызывают у него такого уж мучительного чувства. Но самое, наверное, известное его стихотворение конца тридцатых – это «Бабка Мариула», написанное, точнее, уже в 1940-м, всё том же году:
После ночи пьяного разгула
Я пошёл к Проклятому ручью,
Чтоб цыганка бабка Мариула
Мне вернула молодость мою.
Отвечала бабка Мариула:
«Не возьмусь за это даже я!
Где звезда падучая мелькнула,
Там упала молодость твоя!»
Конечно, Кедрин поэт вечной тоски по тщетно растрачиваемой жизни, по жизни, которая могла бы быть прекрасной и насыщенной, а может быть, и полезной кому-то. Но так случилось, что лучшие качества не востребованы, а востребованы отвратительные, которых он не может себе позволить.
Почему «Зодчие» стали главным, самым известным стихотворением Кедрина? Вообще надо сказать, что Кедрин пережил настоящую посмертную славу, ну, не пережил, а имя его пережило вот этот посмертный взлёт интереса к его лирике. Это началось на самом деле с шестидесятых годов, Кедрина очень многие люди пытались посмертно привлечь в союзники – и так называемая тихая лирика, лирика почвенная, лирика сельская, философская, и городская лирическая традиция, такая, как, например, Кушнер или Чухонцев. Многие считали Кедрина одним из отцов-основателей этого направления. Почему? Потому что он в советское время умудряется писать абсолютно честные, очень хорошие, очень звонкие, замечательные и с формальной стороны тоже, классические русские стихи. В нём совершенно нет налёта достаточно поверхностного российского авангардизма, в нём нет никакого эпатажа, нет никакого эксперимента, он продолжает чистую, классическую русскую традицию, но при этом, конечно, Кедрин безусловный новатор в трактовке русской истории. Раньше ведь к русской истории подходили двояко: либо наша история – это сплошное пыточное пространство, у нас нет истории, у нас есть география, как говорит Чаадаев, либо наоборот – прошлое России превосходно, настоящее выше всяких сравнений, а будущее превосходит самые смелые ожидания, как говаривал Бенкендорф. Но Кедрин удивительным образом, и это, может быть, его величайшая историческая заслуга, отделяет историю царя от истории народа. Вот есть царь, одержимый манией подозрительности, царь-чудовище, царь, который кровавым называется в легендах, а не просто грозным, а есть народ, который на самом деле творит сам свою историю, своё искусство, народ, который от этой власти независим, народ, который умеет ценить прекрасное.
И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту, —
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту…
То есть действительно непотребная девка больше царя понимает в красоте и милосердии, это как раз заветная кедринская мысль, что с народом ничего не сделается, народ по-прежнему продолжает в себе хранить вот это зерно свободы, красоты, независимости. Это на самом деле главное в Кедрине и главное в поэме «Зодчие». Не случайно она называется, собственно говоря, «Зодчие». И надо вам сказать, что впоследствии, как ни странно, самым прямым продолжателем этой темы в русской литературе оказался не какой-нибудь почвенник, архаист, а самый что ни на есть авангардист Вознесенский, который по следам кедринских «Зодчих» написал свою поэму «Мастера».
Колокола, гудошники…
Звон. Звон…
Вам,
Художники
Всех времён!
Вам,
Микеланджело,
Барма, Дант!
Вас молниею заживо
Испепелял талант.
Вот это обращение к архитекторам, к строителям, хранителям культуры, оно именно у Вознесенского в 1959 году, спустя почти 20 лет после кедринской публикации, прозвучало как прямая преемственность. Почему архитектура становится таким важным символом? Потому что архитектура – это и есть единственное лицо эпохи. От Ивана Грозного остался вот этот храм, вот что пытается нам показать Кедрин. То, что главное, что остаётся от эпохи, – это не её кровавые злодейства, не присоединение земель и не убогое теоретизирование, а главное, что остаётся, лицо времени, – это то, что построили двое безвестных зодчих. У Кедрина гораздо раньше появилась эта мысль, ещё в поэме «Пирамида»:
И скажет:
«Царь!
Забыты в сонме прочих
Твои дела
И помыслы твои,
Но вечен труд
Твоих безвестных зодчих,
Трудолюбивых,
Словно муравьи!»
Вот то, что главная задача человека на свете – это создать храм культуры, мысль, которая потом прозвучала у Стругацких в «Граде обречённом», это как раз Кедрин, это кедринская концепция. Потому что даже положить свой кирпич в основание этого храма – уже значит больше, чем присоединить любые земли.
Дальнейшая судьба Кедрина была очень трагична. Он уцелел во время войны, несколько раз просился добровольцем, но его не брали из-за зрения минус 17. Попал в конце концов во фронтовую газету, под псевдонимом Вася Гашеткин написал множество стихов почти тёркинской силы, а в 1945 году погиб при до сих пор не выясненных обстоятельствах, там очень странная история. Он поехал в Москву за гонорарами, жил в Мытищах, поехал за гонораром в Москву. Там его в баре недалеко от проспекта Мира увидел Михаил Зенкевич, последний человек, с которым он говорил. И Зенкевич заметил, что около них всё время тёрся какой-то странный тип, который пытался пристать к их застолью, поодаль за ними наблюдал. И Зенкевич предложил, чтобы Кедрин заночевал у него, не ездил в Мытищи, а Кедрин сказал: «Нет, жена больна, везу лекарства». И Кедрина нашли случайно, в совершенно другой стороне. Неподалеку от станции Вешняки он был выброшен с поезда, и жена, которая его опознавала, говорит, что выражение такого ужаса, нечеловеческого, было у него на лице, какого она никогда не видела при жизни. Это, кстати, опровергает версию о возможном суициде, которая тоже гуляла довольно долго. Его и за три дня до этого какие-то странные люди пытались столкнуть с платформы, но тогда вмешались пассажиры. Кто его убил и из-за чего, до сих пор никто не знает. Все его документы подбросили семье две недели спустя просто к порогу.
Много было расследований, много было попыток это дело возобновить, ничего неизвестно. Почему он поехал не в ту сторону? С кем поехал? Как он вообще провел 18 сентября 1945 года, последний свой день? Это до сих пор тайна. И непонятно, может быть, действительно какие-то давние энкавэдэшные провокации, за ним ходили провокаторы и следили, и какой-то след за ним тёмный тянулся, или он должен был получить квартиру в Москве и кто-то вот таким варварским образом решил его обойти, этого мы до сих пор не знаем. Но невыносимо мучительна сама эта смерть на взлёте, смерть человека, который только-только начинал набирать какое-то влияние, какую-то славу, человека, который только что начинал становиться на крыло. И что нам всем от того, и что Кедрину самому от того, что в шестидесятые годы он стал одним из самых знаменитых русских поэтов? Надо сказать, он вообще предвидел и такой конец, и посмертную свою славу, и какое-то страшное это эхо несвершившейся судьбы, оно звучит во многих его пророческих стихах.
Какое просторное небо! Взгляни-ка:
У дальнего леса дорога пылит,
На тихом погосте растёт земляника,
И козы пасутся у каменных плит.
Коль есть за тобою вина или промах
Такой, о котором до смерти грустят, —
Тебе всё простят эти ветви черёмух,
Все эти высокие сосны простят.
И будут другие безумцы на свете
Метаться в тенетах любви и тоски,
И станут плести загорелые дети
Над гробом твоим из ромашек венки.
Какая-то интонация совершенно вообще из начала XX, из конца XIX века, совершенно странная для русского стиха.
Судьба Кедрина посмертная была странная ещё тем, что во времена, когда советская власть не очень-то издавала Пастернака и совсем не издавала Мандельштама, для детей моего поколения Кедрин был таким мостом к настоящей высокой поэзии. У многих из своих сверстников я находил вот тот же, зачитанный до дыр оранжевый сборник 1984 года, где впервые были напечатаны и «Рембрандт» в полном виде, и большинство поэм, включая гениальное «Приданое», которое я с тех пор знаю наизусть. Очень много кедринских текстов, которые для нас как бы заменяли прикосновение к подлинной русской классике XX века. Можно, конечно, сказать, что Кедрин – суррогат этой классики для советского подростка. Но это не так. Мне кажется, что это поэт абсолютно клюевской на самом деле мощи, поэт классической, а не графоманской, не попсовой традиции. Многие посматривают на Кедрина высокомерно, говоря, да, это, конечно, не Мандельштам. Я думаю, что он Мандельштаму в лучших своих вещах не очень-то и уступает. И если мы сегодня перечитаем «Приданое», мы поразимся тому, какая там лирическая сила.
В общем, «Зодчие» и весь практически Кедрин довоенный к 1940 году так трагически закончившийся, это всё остаётся для нас уникальным памятником не только русской лирики, но и простого, выдержанного, негромкого человеческого мужества, того самого мужества, которого в XX веке было так мало.
У нас, понятное дело, есть вопрос, и этот вопрос довольно предсказуем. Почему Кедрина не посадили?
Вы будете смеяться, но сажали не всех. Представить себе, что все писатели той эпохи, даже имевшие уголовные дела в прошлом, были арестованы в тридцатые годы, это, знаете, никакого воображения не хватит. Некоторые всё-таки уцелели. Почему не взяли Кедрина? Во-первых, кто знал Кедрина? Он сидел на должности тихого литконсультанта, кстати говоря, был одним из учителей Наума Коржавина, вёл литературную студию, где тот когда-то читал свои первые стихи. Коржавин вспоминает, что однажды он прочёл там свои стихи, что, если когда-нибудь его враги обманут, «я приползу на старую Лубянку», там была такая строчка. А Кедрин сказал ему, не надо тебе никуда ползти, они сами за тобой придут. Что и осуществилось четыре года спустя.
Кроме того, Кедрин был очень мало кому известен и никакой опасности не представлял, он просидел в тихой такой нише. И жил в коммунальной квартире, где кабинетом ему служила четверть комнаты, завистников у него не было, доносов на него не писали. Может быть, то, что он так роптал на своё бесславие, это было некоторой ошибкой его, потому что по большому счёту радоваться надо было, что никто тебя не знает. Может быть, именно это полное отсутствие аудитории и славы, когда его знали, может, три человека – Щипачев, Луговской, Антокольский, – может быть, это и спасло его тогда, но не спасло, как видим, после войны. Потому что человек, диссонирующий с эпохой, гибнет если не от репрессий, то от бандитов. Правда, утешением ему может служить то, что в следующую эпоху он станет одним из главных героев своего времени.
Константин Симонов
«Жди меня», 1941
На этот раз мы поговорим – довольно редкий случай в нашей практике – даже не о поэме, а об одном стихотворении 1941 года, которое стало, наверное, самым известным лирическим произведением советского периода. Это стихотворение Константина Симонова «Жди меня».
Вопреки распространённому мнению, стихотворение это написано не на фронте, а во время одной из кратковременных командировок, наоборот, в Москву, в редакцию «Красной звезды». Симонов жил тогда на небольшой частной квартире у друга и там это стихотворение в один из октябрьских дней 1941 года закончил, хотя придумал его, как он вспоминает, ещё в августе 1941 года, в самые страшные дни отступления.
Почему этот текст оказался таким знаменитым и что вообще из себя представляет военная лирика Симонова? Начнём с того, что все инсинуации, которые Симонова хронически преследуют, что это стихотворение написал не он, что оно то ли взято из блокнота погибшего друга, то ли это переписанный неизвестный текст Гумилёва, – это глупость. Приписываемый Гумилёву текст совершенно не мог ему принадлежать, это абсолютно графоманские стихи. Гумилёву вообще приписывают очень много всякой дряни, которую иногда находят или в чужих записных книжках, или в солдатских блокнотах. Это творчество самодеятельное, по-своему ничуть не менее достойное, но с литературной точки зрения никакое.
Конечно, Симонов сам написал эти стихи, и они очень точно отражают собой суть и структуру его военного романа в стихах, в который этот текст полноправно входит, его лирической книжки «С тобой и без тебя». Существует другой слух, гораздо более устойчивый, что Сталин, увидев книгу «С тобой и без тебя», спросил: «Сколько тысяч экземпляров?» Ему сказали: «Пять тысяч». Он ответил: «Надо было бы два – ему и ей». Но это тоже, в общем, легенда, потому что Симонов был сталинским любимцем. Сталин очень поощрял, что в годы войны лирические стихи были популярнее всякого этого жестяного громыхания. У него всё-таки был вкус, хотя очень консервативный и узкий.
Что касается сюжета лирической книги «С тобой и без тебя», вообще это довольно экзотический жанр – книга стихов, потому что она, как правило, отличается от просто сборника сквозным единым лирическим сюжетом. Этот единый лирический сюжет в книге Симонова, конечно, наличествует, и это сюжет экзотический, в литературе довольно редкий. Это история о том, как мальчик любит девочку, девочка, как всегда, даже будучи ровесницей, чуть постарше, всегда понимает чуть больше, всегда опытнее просто инстинктом. К тому же Серова к этому моменту была уже вдовой, муж её, прославленный лётчик Серов, уже погиб через полгода после свадьбы, сына Анатолия она родила, уже овдовев.
Серов как раз тоже был одним из сталинских любимцев, а Симонов тогда ещё был никем. Он был молодым поэтом, начинающим драматургом, чья пьеса «Парень из нашего города» получила первую Сталинскую премию в череде бесконечных симоновских наград. Она очень понравилась наверху, понравились и халхин-гольские стихи Симонова. То, что Симонов вместо аспирантуры поехал на Халхин-Гол, вызвало у Асмуса эпиграмму «Аспирантура – дура, штык – молодец». Действительно, Симонов вовремя понял, что стране на пике милитаристского психоза нужны военные стихи и военные поэты. Тогда же Симонов полюбил молодую, одинокую, трагическую, всеми любимую, непокорную, неуправляемую Серову. Несколько раз ему удавалось, как ему казалось, добиться её взаимности. Всё это описано в одном из лучших стихотворений цикла:
Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы.
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.
Видите, какая интонация, какие простые рифмы: «зубы» – «губы», «люблю» – «терплю». Симонов – очень непосредственный автор, отсюда это ощущение простоты и подлинности, которое есть в его стихах. Действительно, чего-то он добивался, но было полное ощущение, что Серова, которая так и не стала Симоновой, по-прежнему влюблена в мёртвого мужа. Некоторое время спустя ему удалось, как ему казалось, добиться настоящей взаимности, когда он был на фронте и подвергался постоянному риску:
И вдруг война, отъезд, перрон,
Где и обняться-то нет места,
И дачный клязьминский вагон,
В котором ехать мне до Бреста.
<…>
Ты вдруг сказала мне «люблю»
Почти спокойными губами.
Лирический сюжет в том, что мальчик в конце концов добивается любви от девочки, да только ему, прошедшему войну, медные трубы и раннюю славу, уже это не нужно. Симонов 1945 года – человек, который действительно стал любимым военным поэтом миллионов и, рискну сказать, главным поэтом эпохи, гораздо популярнее и Пастернака, и Ахматовой, и всех советских авторов в диапазоне от Суркова до Гусева. О чём там говорить? Симонов, конечно, номер один. И после всего того, что он пережил, ему не очень-то и нужна Серова. Дело даже не в том, что она ему изменяла, вот здесь как раз очень точен апокриф, когда Поскрёбышев говорит: «Товарищ Рокоссовский живёт с женой товарища Симонова, что делать будем?», на что Сталин отвечает: «Завидовать». Что тут сделать, тут уже его власть не абсолютна, с товарищем Рокоссовским он не очень может сладить в этот момент.
Дело в том, что после войны очень сильно переменились самоощущения, самооценки. Симонов, конечно, чувствуя себя пусть и боевой единицей, но всё же народа-победителя, чувствуя себя первым поэтом эпохи, не так уж и нуждается в чьей бы то ни было любви. Лирическая струя в его лирике благополучно заканчивается 1945 годом. На всё, что Симонов пишет позже, во всяком случае в стихах, просто не взглянешь без слёз. Не поверишь, что одна и та же рука писала «Друзья и враги», чудовищный сборник 1947 года, и «С тобой и без тебя». Название, казалось бы, то же самое, тоже на дихотомию, на «и», «Друзья и враги», «С тобой и без тебя», но невозможно сравнить лирическую мощь первого сборника и вялый самоподзавод второго:
Мой друг Самед Вургун, Баку
Покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так – большевику
Вдруг надо съездить к лордам.
Дальше речь товарища Самеда Вургуна, и Сталин «улыбается – речь, очевидно, ему нравится». Нельзя себе представить, что это Симонов, автор «Хозяйки дома», «Открытого письма» («Не уважающие вас покойного однополчане») или «Если бог нас своим могуществом». Действительно, получается, что во время войны человек вырастал над собой на пять голов, а потом падал в бездну своего обычного тоталитарного ничтожества. Поэтому «С тобой и без тебя» – главный взлёт в биографии Симонова, единственный и совершенно неповторимый в своём роде.
Вообще его военные стихи очень хороши, прежде всего потому, что там есть эта самая тема женщины, которой надо добиться. Просто так о войне писать бессмысленно, потому что война есть война, она в нравственных терминах и моральных императивах не интерпретируется. А вот война и женщина – здесь что-то есть. Строго говоря, он и на войне геройствует только потому – вот парадокс лирического сюжета этой книги, – чтобы стать достойным этой девушки, чтобы ей наконец понравиться. Обратите внимание, что вообще в русской поэзии XX века есть две настоящие книги стихов, книги со сквозным сюжетом. Первая, конечно, «Сестра моя – жизнь», тоже про девушку с трагедией, похоронившую жениха, – это был Сергей Листопад, внебрачный сын Шестова. Пастернак добивается именно вдовы, вот в чём дело, женщины с судьбой, женщины, принадлежавшей другому и ещё хранящей память об этом другом, носящей траур по нему. Здесь та же самая тема: надо не просто победить героя, но победить мёртвого героя, а это заведомо нечестная конкуренция. Симонов умудряется это сделать, он побеждает. Героиня в обоих случаях одна и та же – роковая женщина с судьбой. Очень точную её характеристику Симонов даёт в стихотворении 1943 года:
Если бог нас своим могуществом
После смерти отправит в рай,
Что мне делать с земным имуществом,
Если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей,
Чтоб покорно за мною шла,
Я бы взял с собой в рай такую же,
Что на грешной земле жила, —
Злую, ветреную, колючую,
Хоть ненадолго, да мою!
Ту, что нас на земле помучила
И не даст нам скучать в раю.
Главный лирический сюжет – преодоление недоверия и, может быть, даже высокомерия со стороны этой злой, страшно своевольной, неотразимо прекрасной девочки. Это и есть тема. Надо сказать, что в замечательном фильме «Жди меня», который поставлен по симоновскому сценарию постоянным его режиссёром Столпером, свою лучшую роль Серова сыграла-таки, потому что ей там ничего играть не надо, потому что она такая и была. Когда мы видим, как она поёт: «Хороша я, хороша, плохо я одета, никто замуж не берёт девушку за это» – это нельзя придумать, она действительно девочка-хулиганка, в некотором смысле оторва, которая может быть и великосветской львицей, когда ей надо быть на приёме в правительстве, и образцовой хозяйкой, когда она принимает друзей мужа, и даже немного может быть куртизанкой, когда он её домогается или когда она с ним играет. Женщина, которая соединяет в себе все роли, навязанные актрисе в тоталитарном обществе, и все играет с одинаковой органикой. Но у Серовой большая конкуренция. Она не так много сыграла. В конце концов, там есть молодая Целиковская, актриса того же плана, есть Орлова, классическая советская звезда, есть Ладынина. Много кто есть, но на этом фоне она абсолютно не теряется, более того, выглядит самой яркой звездой. Она, эта блондинка с капризными губами и бешеным взглядом, абсолютно живая, из неё ничего не надо делать, она существует на экране, а не играет. И в неё такую был влюблён Симонов.
Что касается собственно стихотворения, оно очень голое и просто, я бы даже сказал, примитивное. Симонов в своей военной лирике использует два приёма: это анафора, когда строка начинается одинаково, и рефрен, гипнотизирующий повтор. На этих двух нехитрых приёмах у него сделаны два самых знаменитых стихотворения: «Жди меня» и «Убей его». Собственно говоря, это и есть два главных посыла, обращения к читателю.
«Жди меня», несмотря на эти гипнотизирующие повторы, пленяет другим. Странную вещь сейчас скажу. В советской поэзии существует культ матери, немножко блатной. Он и в блатной поэзии существует тоже. Мы можем определить совершенно чётко, архаик поэт или новатор. Для архаика, архаиста, Родина всегда мать, а для модерниста, новатора – жена. Блок, конечно, всё нам исправил, удивительным образом написав: «О Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь», исправил в том смысле, что вместо страшноватого облика грозной матери, которая всё время что-то требует, обвиняет, посылает на гибель, появился образ жены. Надо сказать, что в едином образе матери эти две составляющие плоховато уживаются. Об этом есть довольно откровенное стихотворение у Кушнера:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































