Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
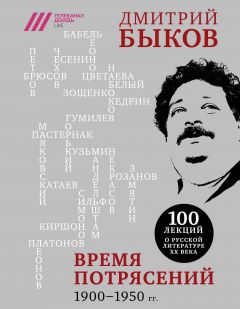
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
У Иртеньева, кстати, в недавнем, по-моему, гениальном стихотворении об отце сказано: «И сквозь дым тот победа видна. Только мне. Но едва ли ему». У Твардовского в его лучшем, на мой взгляд, стихотворении «Я убит подо Ржевом» эта пронзительная нота неопределённости тоже взята. Помните лучшие слова в этом стихотворении? «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец».
Самое страшное – это именно незнание, легла ли твоя жизнь в фундамент победы или провалилась в яму поражения. Мы понимаем, что моральная победа за нами, но мы не знаем, как всё обернулось в действительности. Именно поэтому, кстати, такая неопределённость во всей этой второй части, потому что ощущение победы придаёт сил. Помните, когда санитары несут раненого Тёркина? «Несём живого, мёртвый вдвое тяжелей». Ощущение, что несут живого, движутся к победе, этот магнит победы, который, начиная с 1943 года, тянет армию вперёд, проявляется только во второй части.
Лучшее же вообще, что написано в советской военной поэзии, – это, конечно, третья часть Тёркина, последняя его треть, когда армия уже идёт по чужой земле. И лучшая там глава, конечно, «По дороге на Берлин». Сколько я её детям читаю в школе, всегда не могу делать это вслух, потому что голос у меня начинает предательски дрожать. Чёрт знает почему, ведь Твардовский не самый сентиментальный поэт. Не знаю даже, с кем его сравнить, но, в общем, не Светлов, нет в нём пронзительной лирической ноты. Он поэт грубоватый, крестьянский, но как в одном из его прямых учителей Некрасове тоже есть дребезжащая слёзная нота, так она есть и у Твардовского. Почему это получается? Вероятно, потому что, когда после невероятного напряжения первых двух частей он поднимается на большую высоту, на гору победы и может с этой высоты обозреть и настоящее, и будущее, появляется ощущение выдоха, свободы. Кстати, речь его становится гораздо более разреженной. После страшной плотности первых частей «Тёркина», его повторов, каламбуров, невероятной плотности деталей, где ножа не всунешь, ритмических повторов:
На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки, какой угодно,
Из ручья, из-подо льда, —
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б – вода.
После всех этих забормотов и заговоров появляется нормальная, я бы даже сказал, напевная, свободная певучая поэтическая речь, песенная интонация. На этом свободном выдохе сделана лучшая глава. «По дороге на Берлин вьётся серый пух перин». Выпотрошенный немецкий мир, где бегут немецкие беженцы, при этом возвращаются угнанные пленные россияне. Возвращение одних и бегство других, хрустящая под ногами черепица красных немецких крыш, «скучный край краснокирпичный», это ощущение чужой жизни, рухнувшей вокруг, необходимости возвращения к своей, которую предстоит поднимать из руин, – всё это создаёт какое-то ощущение и невыносимой потери, и близкого счастья, и при этом совершенно страшное чувство, что по-прежнему ничего не будет, что вернуться никуда невозможно.
Вот здесь, среди чужой земли, – а эта земля становится ещё и метафорой чужой, другой жизни, в которую они попадут после войны, непонятно, как теперь жить, всё другое, – им встречается абсолютный кусок Родины. Им встречается угнанная старуха, которая возвращается в Россию. Тёркин её снабжает всем. Бойцы ей дают лошадь, подводу, «волокут часы стенные и ведут велосипед» – хотя какой ей велосипед! Хотя она не старуха, конечно, всякая русская женщина после известного возраста иронически называет себя старухой. Ясно, что ей чуть за пятьдесят. И вот они несут этой старухе трофеи, ненужные, бессмысленные, просто символ победы. И она говорит им: «Ни записки, ни расписки не имею на коня». Это типичная советская колхозница, которая знает, что на всё нужна бумажка. Тёркин отвечает ей:
А случится что-нибудь,
То скажи, не позабудь:
Мол, снабдил Василий Тёркин, —
И тебе свободен путь.
Будем живы, в Заднепровье
Завернём на пироги.
– Дай господь тебе здоровья
И от пули сбереги…
Далеко, должно быть, где-то
Едет нынче бабка эта,
Правит, щурится от слёз.
И с боков дороги узкой,
На земле ещё не русской —
Белый цвет родных берёз.
Ах, как радостно и больно
Видеть их в краю ином!..
Пограничный пост контрольный,
Пропусти её с конем!
Трудно мне определить интонацию. Это интонация какого-то всепрощения, преодоления, почти посмертного. Старуха, которая едет домой через чужую страну среди берёз, – это лучший символ победы. Не победоносная армия, не грозные танки, не разбитые дома, а эта старуха, которая возвращается. Это русская душа, которая возвращается на Родину.
Надо сказать, что Твардовский продолжает в «Тёркине» почти забытую пушкинскую интонацию из «Песни западных славян», пушкинского завещания поэзии, его последнего текста, из которого вырос весь русский дольник. Там есть несколько замечательных примеров, я считаю, что одно из лучших пушкинских стихотворений – это «Похоронная песня Иакинфа Маглановича». Он отошёл очень далеко от оригинала Мериме, создал практически собственный текст.
С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдёшь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.
Твардовский напрямую цитирует последние две строчки.
Что там происходит? Недавно умершему даётся наказ, что передать другим дальним родственникам, которые там живут:
Деду в честь он назван Яном;
Умный мальчик у меня;
Уж владеет атаганом
И стреляет из ружья.
Интонация посмертного свидания, посмертного разговора удивительным образом поймана и перенята Твардовским.
Как Твардовский воспринимал победу? У него есть замечательный поэтический текст:
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счёт салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
Что же это за минута? Когда павшие окончательно отделяются от живых. Пока воюешь, он всё-таки ещё с тобой рядом, а кончилась война – и он окончательно отошёл, перестал существовать. Да и ты прежний существовать перестал. Интонация окончательного прощания с мёртвыми есть в финале «Тёркина». Это и интонация прощания с Тёркиным тоже. После войны Тёркин не нужен, потому что это будет другой сюжет.
Кто такой Тёркин? Солдат, который способен ко всякой работе, всегда каламбурит, умудряется пошутить. А что ещё мы можем делать? Единственная задача людей на земле – как-то перемигиваться перед казнью, перешучиваться, потому что всех это ждёт в конце концов. Тёркин – это солдат, который в любой момент способен поднять настроение окружающим, внушить им, что жить ещё можно. После войны он просто не нужен, после войны опять нужен винтик. Он вернётся в прежнюю жизнь, где не будет требоваться подвиг. И кем он там станет? Колхозным трудягой, бухгалтером ли, учителем – совершенно неважно. Он перестанет существовать.
Твардовскому удалось поймать то особое, специальное состояние народа, которое и следует, наверно, называть русским характером. Алексей Толстой при всём его таланте в рассказе «Русский характер» всё-таки этого не поймал. Что такое русский характер? Русский характер – это шутка на краю могилы, каламбур во время боя, перемигивание перед смертью. Это самый чёрный юмор в самых безвыходных обстоятельствах, и это побеждает всегда.
Во время войны народ превращается в какую-то плазму, в четвёртое состояние вещества. В этом состоянии он пробыл четыре года, а сейчас ему предстоит вернуться в норму. Каким будет это возвращение, мы не знаем, поэтому, прощаясь с Тёркиным, мы прощаемся с самым страшным, что было в жизни, но и с самым лучшим, что было в нашей жизни. Кстати говоря, поэтому население России всегда так стремится впасть в это состояние по любому поводу, устроить себе аврал из чего угодно, будь то строительство и сдача объекта к сроку или поиск войны, неважно. Это страшная тоска по Тёркину, который и есть, наверно, то лучшее, что мы можем в себе обнаружить.
Вера Панова
«Спутники», 1946
Веры Пановой 1946 года «Спутники». Вера Панова – одна из самых удивительных карьер в советской литературе. Она была хорошим журналистом в родном Ростове-на-Дону, об этом она написала прекрасную книгу «Сентиментальный роман», где есть живая горячая ностальгия по временам безумной и радостной атеистической молодости. Вера Панова получила прекрасное образование, очень хорошо выучилась писать коротко, лаконично, ясно. Пережила почти всё то, что выпало на долю советской женщины её поколения, муж её попал в лагеря, любимый Борис Вахтин, человек, о котором она всю жизнь вспоминала, как о солнечной вспышке в своей жизни. Она так его любила, что умудрилась добиться двух свиданий с ним, ездила дважды к нему, а потом его убили в лагере.
Потом она оказалась под оккупацией в 1941 году, пробиралась из-под осаждённого Ленинграда на осаждённую же Украину, чудом пробилась. Там у неё просто было любимейшее место, село Шишаки, она надеялась там пересидеть как-то войну. Потом, когда освободили Полтавщину, она работала год в санитарном поезде, и, собственно, вот этот материал стал основой «Спутников», первого её большого романа. Хотя она стала ещё до войны популярна как драматург, её первая пьеса на Всесоюзном конкурсе была отмечена.
Но по большому счёту «Спутники» – её первое художественное произведение, и самое удивительное здесь то, что женщина эта, никогда прежде не писавшая художественной прозы, в 1944 году начала работать над романом и вдруг написала такой совершенный текст.
«Спутники» – это проза, которую можно сравнить, пожалуй, ну разве что с прозой Павла Нилина, такого тоже замечательного советского прозаика и сценариста. Всё помнят его рассказ «Дурь», из которого получился фильм «Единственная», или рассказ «Впервые замужем», из которого тоже сделана знаменитая картина. Они с Пановой вообще похожи. Оба начинали как довольно ортодоксальные романтики коммунистического мировоззрения, довольно быстро они потом всё поняли, потом горький скепсис появился в их сочинениях. Они были с виду образцовые советские классики, а вместе с тем брали достаточно серьёзные и глубокие темы, и главной их чертой было стилистическое, вы не поверите, изящество, почерк, вот эта отточенность, то, что само по себе уже заявляет высокую ценность человечности, культуры и так далее.
Почерк Пановой (а у неё вообще был почерк безупречный, каллиграфический), почерк Пановой в прозе – это сухость, точность, острота, короткие фразы, наотмашь бьющие детали. «Спутники» написаны очень лаконично, и на фоне пресного, пышного теста советской прозы, блинного и рыхлого, они смотрятся просто как какая-то точная стальная конструкция, как часовой механизм прелестный.
Ну и, конечно, герои Пановой – вот что особенно ценно. Там же, собственно, и сюжета-то никакого нет, но главная прелесть – это эволюция героев, переход их в то самое четвёртое состояние вещества, о котором шла речь.
Персонажи Пановой из самых разных сфер. Это врач, главный врач этого санитарного поезда, из бывших ещё, дореволюционных, но при этом такой кремневый доктор из советской литературы, да и из дореволюционной литературы тоже, немножко похожий принципиальностью своей на чеховских врачей. Конечно, не на тупого и самодовольного доктора Львова, а, скорее, на доктора Дымова. Он, с одной стороны, человек чрезвычайно жёсткий, сложный, с ним работать невероятно, он требователен дико. С другой – он очень милосерден и хорошо разбирается в людях, и чужд вот этой мании советской подозрительности. Он такой образцовый воинский начальник, классический военврач.
Есть там медсестра, вечно озорующая, вечно обдумывающая, как мальчик, очередную шалость, иногда довольно рискованную. Есть там, разумеется, и свой завхоз, простой, очень советский типаж, но тем не менее, когда нужно, способен он на абсолютные чудеса «доставания», как это называлось на советском жаргоне. Есть раненые, довольно широкая галерея этих типов. Там не так много героев, вещь-то довольно камерная. Но есть раненые, иногда совсем мальчишки, иногда пожившие, битые жизнью солдаты.
Но главная-то тема в чём, почему они, собственно, спутники, почему вещь так называется? Главная история всё та же, пожалуй, та же, что и в «Тёркине», – превращение народа в плазму, в новое состояние вещества. Когда во время войны, странствуя рядом, эти люди, вполне заурядные и иногда, может быть, в быту совершенно невыносимые, открывают в себе какой-то невероятный источник внутренней силы. Вот это странная штука. Почему эта вещь, которая, казалось бы, не должна была Сталину понравиться и которая была и напечатана с большим скрипом, потому что, ну как, автор был под оккупацией. У Пановой не самая безупречная биография – жена репрессированного, была на оккупированных территориях. Кстати говоря, Панова там же, под оккупацией, ещё под Ленинградом, умудрилась написать роман-сказку «Который час», сказку, которую она рассказывала дочери, наверное, самое смешное и злобное советское антифашистское произведение, которое она так и не сумела напечатать при жизни. Даже в 1962 году это выкинули из её собрания сочинений, и только в 1982-м в «Новом мире» эта вещь увидела свет, когда самой Пановой уже десять лет как не было на свете.
Но Панова, писатель, в общем, далеко не ортодоксальный, совсем не советский по многим параметрам, умудрилась эту вещь мало того что напечатать, правдивую, честную, временами натуралистичную, но больше того, она умудрилась Сталинскую премию получить. Что же, собственно говоря, так Сталину в этой вещи понравилось? Вот два есть текста в русской литературе, которые парадоксальным, непонятным образом получили Сталинскую премию. Это «В окопах Сталинграда», о которой мы будем говорить применительно к 1947 году, когда она вышла впервые отдельной книгой, и пановские «Спутники», напечатанные в 1946 году.
Почему, что Сталину могло там понравиться? Ну, помимо того, что у него был хотя и узкий, но всё-таки кое-какой художественный вкус: Заболоцкий говорил, что Сталин при всём своём зверстве всё-таки ещё человек старой культуры, он кое-что читал. Мало того что ему понравилась хорошо написанная вещь, ему понравилась главная для него тема – тема, что есть преимущество народа, что народ наш, он лучше, чем всё остальные народы, в этой войне участвовавшие. А лучше он потому, что у него есть три главных качества, эти три главных качества в повести Пановой отражены.
Во-первых, её главные герои прошли революцию и Гражданскую войну, они люди немолодые. И мы понимаем, что революция и Гражданская война, полный крах мира, пережитый в юности, действительно дал им небывалую, невероятную закалку. И у Европы такого закала нет. Всё-таки Первая мировая война не была для Европы столь масштабной катастрофой, как революция для России. Эти люди не прошли крещение огнём, чувство полного крушения и пересоздания мира: упадок – да, обновление – нет.
Вторая черта, очень важная. Эти люди привыкли жить в лишениях, и потому, когда им надо чем-то жертвовать, они с лёгкостью к этому относятся. Там же один герой говорит, что способность к подвигу, к жертве – это русская черта. Это Сталину очень нравилось, вероятно. Во всяком случае, это было воспринято всей пропагандой и критикой, это было воспринято как норма, наш человек привык жертвовать. Сталин же поднял в своё время тост за терпение. Да, наши люди жертвуют и наши люди готовы, а может быть, им и умирать не страшно, потому что они жизнь видели в основном такую, с которой не жалко расставаться.
И третий момент, который для Сталина, я думаю, и для всех читателей этой вещи был подсознательно особенно важен. Советское общество бессословно, в нём есть бывшие дворяне, а есть бывшие беспризорники. А кстати говоря, многие беспризорники – это тоже бывшие дворяне. Есть обыватели, есть колхозники, есть интеллигенция, и все они смешаны в один конгломерат. Вот эта абсолютная бессословность, это отсутствие родовых, имущественных, образовательных границ, эта перемешанность всего общества – это залог его стойкости и монолитности. Да, мы все разные, но мы все равны, и выходит дело, что унификация советской жизни помогла выстоять в войне.
Вот тут вопрос неоднозначный на самом деле – помогла она или нет. Наверное, помогла, потому что, если бы не колоссальные горизонтальные связи этого общества, вертикальная жесточайшая диктатура давно бы его убила. Но в России, в результате ли революций, в результате ли общины, эти горизонтальные связи существуют. Мы все спутники в одном санитарном поезде, и мы все с поразительной лёгкостью возвращаемся в это состояние. То есть русский человек всегда внутренне готов отказаться от всего, пожертвовать всем и, сорванный с места, поехать куда-то в санитарном поезде. Эта страшная готовность расстаться со своим статусом и объединиться с миллионами таких же, как ты, она подсознательно в русской душе живёт. И вот об этом – Панова.
А я не знаю, хорошо это или плохо. Очень может быть, что это плохо, потому что, в конце концов, для войны такая ситуация прекрасна, но не всё же время воевать. Понимаете, надо же когда-то и жить. А для жизни такая монотонность и перемешанность общества совсем не хороша. Для жизни она, может быть, даже и рискованна, когда всё общество – как колбаса. Но как бы мы ни относились к этой перемешанности, она нас тем не менее спасает, потому что именно своими горизонтальными, простроенными своими связями мы и спасаемся от истребления. Если бы не вот эти странные землячества, соседства, одноклассничества, сетевые сообщества, если бы не это, мы бы давно просто не вынесли русской жизни.
А «Спутники», как ни странно, это повесть о сетевой структуре, о том, как немедленно она выстраивается, и о том, как быстро мы встраиваемся в неё, отбросив всё индивидуальное. Вот это, наверное, было воспринято. Больше вам скажу, этот роман получил вторую жизнь, когда в 1972 году вышел фильм знаменитый, «На всю оставшуюся жизнь» он назывался, и песенку эту знаменитую:
На всю оставшуюся жизнь
Запомним братство фронтовое,
Как завещание святое
На всю оставшуюся жизнь, —
эту песенку написал режиссёр Пётр Фоменко вместе со сценаристом картины, сыном Пановой, носившим фамилию её мужа Вахтина. (Потом Вахтин прославился посмертно, когда тот же Фоменко в своём театре поставил его повесть «Одна абсолютно счастливая деревня».) И фильм этот, в котором играли Эрнст Романов, Алексей Эйбоженко, Валерий Золотухин, он регулярно показывается, вот эта чёрно-белая скромная пятисерийная картина стала напоминанием о войне и о том, вот об этой постоянной внутренней скрытой теплоте, по-толстовски говоря, которую испытать мы все время рвёмся. Мы все спутники, мы все в одном санитарном поезде, и, даже сойдя с него, мы будем вечно жалеть о времени, когда жили в этой огромной и странствующей, мучительной, неудобной, рискованной коммунальной квартире.
Тут вопрос о том, чем объяснить такие слабые тексты Пановой потом.
Я не думаю, что у неё были слабые тексты. Понимаете, для меня Панова как раз писатель очень сильный. И вот сейчас отмечали бурно пятидесятилетие фильма Файта «Мальчик и девочка», это ведь тоже её сценарий, с Бурляевым замечательная картина. «Серёжу» Чуковский назвал классической повестью. Она написала прекрасную повесть «Конспект романа». Действительно, я не думаю, что сейчас имеет смысл писать большие романы. Понимаете, жизнь рабочего простого обывательского Ленинграда, окраинного Ленинграда, она у неё изображена лучше, чем где-либо. Её проза очень кинематографична, очень зрима, и поэтому Данелия и Таланкин сделали такой сильный фильм «Серёжа», это был их дебют. Да из неё вообще много наделали, из её прозы. И её «Лики на заре. Историческая проза» очень хорошая, но я лично больше всего люблю её роман «Времена года», в особенности в редакции 1958 года, это сильная книга. Я не беру сейчас её детективный сюжет, он довольно иллюзорен, но вот тайные, страшные, тоже звериные тайны советского подсознания, страшная изнанка советского человека, она там показана довольно здорово. И всё это потому, что Панова умела изящно и точно писать. Почерк говорит о человеке больше, чем любая другая анкета.
Виктор Некрасов
«В окопах Сталинграда», 1947
Мы говорим о романе или, по некоторым жанровым определениям, повести Виктора Некрасова «Сталинград», которая при первой публикации в журнале «Знамя» в 8–10 номерах за 1946 год получила название «В окопах Сталинграда». А отдельной книгой вышла впервые в 1947 году. Она дала, пожалуй, название всей лейтенантской прозе. Потому что вот этими лейтенантскими записками, а Некрасов пишет не от собственного имени, а от имени другого лейтенанта, им специально выдуманного, Некрасов положил начало реалистической литературе о войне. В том же 1947 году вышел и тоже получил Сталинскую премию I степени – Некрасову дали II степени – роман Михаила Бубеннова «Белые берёзы», первый его том, второй он написал многие годы спустя. Пожалуй, более слабой книги, не только о войне, а вообще более слабой книги в послевоенной России не было. Это очень плохо, но тем не менее Бубеннов, как создатель такой военной прозы мифологической, где действуют идеальные герои и где солдаты говорят только о том, как они любят совершать подвиги и как хотят быть героями, этот роман стал до некоторой степени эталоном. Именно Бубеннов, как фигура самая, наверное, мрачная в тогдашней литературе – и антисемит известный, и борец с псевдонимами, зачинщик многих травель, – именно Бубеннов является таким своеобразным антиподом Некрасова.
Почему же Некрасов получил не только Сталинскую премию, почему вообще получил возможность эту абсолютно реалистическую вещь напечатать? Написана она, как многие хорошие книги, вся в настоящем времени, создаёт полный эффект присутствия. Некрасов не имел никакого литературного опыта. Когда он взялся за эту книгу, ему было уже хорошо за тридцать. Много профессий он сменил, он был и самодеятельным актёром, и художником, и архитектором, и театральным декоратором. Он был вообще человек разнообразно одарённый, особенно был одарён художественно, потому что вот художник он был замечательный. Его сохранившиеся работы, шаржи прежде всего, показывают замечательную остроту взгляда и твёрдость руки. Он принадлежал к удивительному числу людей, было в нём что-то и от сноба, и от эстета, была в нём и некоторая такая мушкетёрская самовлюблённость, и мушкетёрский же задор. И не зря Довлатов нарисовал шарж на него именно в таком д’артаньянском образе, элегантность такая своего рода. Но помимо этого он принадлежал к очень редкому числу людей, очень важному типу, Светлов, кстати, принадлежал к тому же. Это люди, у которых чувство страха в критических ситуациях отсутствует, которые просто ничего не боятся, бывает такое. Боятся только потерять лицо. Это не воспитуемо, это даётся от природы. Такие люди, как правило, не могут противостоять начальству, потому что они не умеют плести интриги, не умеют притворяться слабыми. Вот Шварц был той же породы, например. От Шварца сколько требовали сказать гадость про Олейникова? А он только говорил, Олейников был очень скрытен, наверное, поэтому я о нём ничего плохого сказать не могу, я ничего плохого не знал. Вот Шварц, он добился криком, чтобы его взяли в ополчение, потом, правда, всё равно не взяли, у него руки дрожали сильно, но он добился, что его, по крайней мере, послали на врачебное освидетельствование, хотя ему было хорошо за сорок лет и он был тяжело болен. Правда, потом он оказался в эвакуации, спасся и написал «Дракона». А вот Некрасов, он человек того же плана, он, может быть, и пасует перед начальством, потому что он не умеет хамить в лицо, но запугать его смертью совершенно невозможно.
И вот «В окопах Сталинграда» это роман о том, как интеллигентному человеку на войне хорошо. А почему ему на войне хорошо? А потому, что на войне надо бояться только врага и понятно, где враг, не надо бояться начальства. Больше того, там есть даже эпизод, когда солдаты сумели настоять на том, что начальство повело себя неправильно, оно придумало неправильный план наступления, а можно было сохранить этих людей. И они добились всё-таки морального осуждения и партийного взыскания тому командиру, который принял в бою неверное решение. Потому что солдат в бою начинает соображать лучше командира, по крайней мере не хуже. Как раз роман Некрасова о том, как люди на войне становятся профессионалами. И это роман о том, как они получают наслаждение от своей храбрости, своего профессионализма, своей выносливости. Да, это роман о превращении в сверхлюдей.
Там есть довольно горькие слова о 1941 годе, о 1942-м, там упомянуты годы поражений, упомянуты многие страшные военные эпизоды, то, о чём, в общем, говорить и писать было не принято. О кошмарах 1941 года, о 1942-м, катастрофе Керчи, например, крымской, и даже о 1943 годе, потому что ведь Сталинград не сразу привёл к окружению паулюсовской группировки. О многих кошмарах войны стало можно писать только после Сталина, и Симонов, например, о кошмаре июля 1941 года, катастрофе, в которую попал Синцов под Могилевом, смог написать только в шестидесятые годы, когда появляется его трилогия. А вот Некрасов свободно упоминает о том, что да, было дело, отступали, да, было дело, что и командиры плохо ориентировались, и солдаты были не готовы. Всё это он говорит прямым текстом.
Почему же ему разрешили это сказать? И главное, зачем ему это надо? Некрасову важно показать, что эти военные неудачи были необходимы для того, чтобы людям в буквальном смысле стало отступать некуда. Пожалуй, «В окопах Сталинграда» – это самая наглядная иллюстрация к приказу «Ни шагу назад», знаменитому приказу 227. И хотя в этом приказе конституировались и легально закреплялись заградотряды, разрешалось, по сути, любыми средствами воздействия загонять бойцов в бой, этот приказ тем не менее остался в российской пропаганде до сих пор символом славы. Почему так получилось? Да потому, что согласно советской военной мифологии, в которой поучаствовал и Некрасов, когда человеку становится некуда отступать, из него получается сверхчеловек, бог войны. Вот об этих богах войны написан роман «В окопах Сталинграда».
И сам герой, лейтенант Постышев, и его адъютант Валега, и все его товарищи по окопам, которые сидят буквально с немцами по соседству, глаза в глаза, выдерживают этот невероятный сплошной железный вал, в городе, где живого места не осталось. Это действительно люди, которые перестали бояться смерти, потому что стали выше любого страха. Больше того, он с удовольствием описывает, например, профессионализм разведчиков, профессионализм сапёров. Нет героизма, есть будничная спокойная работа. Вот этот спокойный профессионализм человека, который знает, что в руках у него безупречный навык (ну, там сапёр у него такой ворчливый есть, который всё время на всех ворчит, что кабеля не хватает или что работать не дают), это всё нормальное ворчание профессионала, уверенного в своих силах. Он показывает людей, которые обустроились на войне. Кстати, этот же момент обустройства в аду очень хорошо подчёркнут и у Гроссмана в «За правое дело» и особенно, конечно, во второй части «Жизнь и судьба», где уже и рыбу начинают какую-то из Волги ловить и приготовлять, уже и начинаются какие-то романы, и всё это жизнь в аду. Там мало того, что ежесекундно убить могут, мало того, что условий нет никаких, но просто это шквал огня и железа, земля распахана, дома не выдерживают, а человек живёт. И более того, он чувствует себя на высшей точке своей жизненной карьеры, потому что у него никогда не было такой ответственности и такой свободы. Вот этот роман о свободе на войне, о том, с каким наслаждением человек после многих лет советских унижений становится равен себе и перерастает себя, вот об этом написал Некрасов.
Надо сказать, что, хотя там есть и убийства, и смерть, и раны, и ежесекундный риск, всё это есть, там потрясающее описание боя, но в бою, вот что удивительно, героем движет не жажда отдать жизнь за Родину, никакие идеологические соображения не движут им, и не мысль о доме, а азарт! Невероятный азарт войны, который описан у Некрасова: как я перестаю что-либо понимать, я просто знаю, что вот там враг, я ничего не помню, а только я знаю, куда мне стрелять. Он действительно не осознаёт себя. Это немножко похоже на описание первого боя Андрея Старцева в «Городах и годах», когда он бежит, как бы голый, сбросив с себя всё, забыв обо всём, вот голый человек на голой земле. И вот этот восторг и азарт боя нигде больше в советской литературе так не описан. Везде война – трагедия. А у Некрасова война – это героическое дело железных людей. Может быть, именно это вдохновило Бондарчука поставить свой «Сталинград» как страшную героическую оперу, в которой действительно на первое место выходит эта железность этих людей, их абсолютная несгибаемость, их полная внутренняя свобода. Как-то это у него получилось. Я считаю, что это неплохая картина. Я думаю, что он вдохновлялся в огромной степени Некрасовым.
Нужно сказать, что, невзирая на все попытки советской власти ограничить творческую жизнь Некрасова этой повестью, он написал много чего другого, что для советской власти было уже далеко не так приятно. Он написал замечательную повесть «Кира Георгиевна», о том, как возвращается заключённый к жене своей, преуспевающему скульптору, а и у него другая жизнь, и у неё другая жизнь, и непонятно ещё, кто лучше сохранился. Она ли на воле, или он в заключении. Там, конечно, показано, чем он заплатил за это своё сохранение, он такой немножечко цыган, типа Домбровского, такой совершенно без царя в голове, раздолбай абсолютный, алкоголик, но он спасся, он сохранился. А она, наоборот, очень многого лишилась, стала такой сухой, железной женщиной. Мухина, конечно, в ней угадывается.
Он написал и несколько замечательных текстов, за которые потом особенно жестоко его ругали, несколько путевых записок, туристических. Вышла такая памфлетная, абсолютно клеветническая статья «Турист с тросточкой», где Некрасова костерили за отсутствие идеологии. Написал он и прекрасную повесть «В родном городе», написал прекрасную повесть «Саперлипопет», воспоминания о начале своего литературного пути. А закончил он автобиографическим романом «Маленькая печальная повесть», книгой об эмиграции, таким небольшим, очень компактным, тоже сухо написанным романом о переезде своём в Париж.
Некрасов удивительнейшая, на самом деле, фигура в русской литературе именно потому, что эту храбрость свою, эту свою неготовность соглашаться и постоянный свой внутренний стержень он умудрился сохранить. И он, пожалуй, самый наглядный пример в русской литературе того, как этот сверхчеловек, как этот героический фронтовик не нужен больше своей стране. Об этом же потом был великий фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Сверхлюдьми они не нужны, они нужны винтиками, когда они возвращаются, им приходится этот стержень прятать. Некрасов, невзирая на свое героическое прошлое, на то, что всё тело его было перепахано ранами, вспоминает Георгий Гулиа, как страшно было на него смотреть на пляже – весь он был в шрамах. Но несмотря на весь этот героизм и на Сталинскую премию, Некрасов был вытеснен из Советского Союза. Ему пришлось уехать вскоре после того, как он громко вслух сказал о замалчивании трагедии Бабьего Яра, он был киевлянин. Потом за ним началась постоянная слежка, потом началась травля, потом исключение из партии. В конце концов Некрасову пришлось в 1972 году эмигрировать в Париж.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































