Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
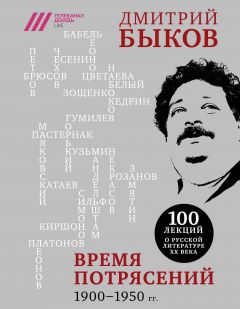
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Что касается Зинаиды Николаевны, то она талантлива в одном: она честна очень. Она по-розановски честна и даже честнее Розанова, потому что Розанов всё-таки старается хорошо выглядеть, а она не старается. Поэтому её честность и злоба важней таланта, они иногда на грани гения.
Евгений Замятин
«Мы», 1920
Нам предстоит очень трудный разговор, потому что и судьба этой книги трудна, и смысл её парадоксален, и суть самого замятинского предсказания, в общем, совсем не совпадает с тем будущим, которое разразилось в России. Но это показательная история, потому что большинство утопий и антиутопий начала XX века при всей точности угаданного вектора, при всем страхе перед тоталитаризмом, который объединяет всех, попали в молоко. Замятинский роман, который очень многое угадал точно, стал культовым на Западе, достаточно популярным в России, но всё-таки промахнулся мимо главной мишени. Почему это произошло, мы сейчас попробуем подумать.
Пара слов о Евгении Ивановиче Замятине, который, так уж случилось, является какой-то странной копией, странным двойником Булгакова. Они и родились почти одновременно, и умерли в один день, правда, с небольшим интервалом в два года, и удивительным образом сходны в этапах своего развития. В своё время Корней Иванович Чуковский, человек, может быть, слишком откровенный, в письме Алексею Николаевичу Толстому писал (Толстой был тогда за границей): «Ну да, в России есть Замятин, но ведь это такой благообразный джентльмен, такой приличный человек, которому никогда ничего не будет». Алексей Николаевич Толстой, человек вообще не отягощённый моральными правилами, возьми да и напечатай это письмо в газете «Накануне». Замятин, с которым Чуковскому пришлось очень тяжёло выяснять отношения, написал очень показательное письмо. Он сказал: «Я обижаюсь не на то, что вы за глаза обо мне отозвались, не за то, что общаетесь со мной, а про меня пишете дурное. Нет, это всё меня не обижает. Меня обижает то, что вы не увидели во мне главного: я и есть главный еретик, я и есть человек, стоящий под ударом. А вам я кажусь благополучным, замкнутым образцовым англичанином».
И действительно, Замятин всем казался англичанином. И его вечная, знаменитая ироническая полуулыбочка, о которой вспоминает Юрий Анненков, его трубочка, его розовый цвет лица, сдержанность, спокойные остроты – всё это заставляло думать, что он неуязвимый человек. А между тем какие бури клокотали под этой оболочкой, мы можем догадываться только по очень немногим его публицистическим выступлениям да по страшной революции языка, которую он произвел, по языку кричащему, вздыбленному, пожалуй, даже ещё более экспрессивному, чем у Ремизова, другого великого прозаика той же эпохи. Весьма любопытно, что Солженицын, говоря об источниках своего стиля, в числе своих главных литературных учителей называл Замятина и Цветаеву. Замятин, пожалуй, с его сквозными тире, с его лаконизмом, тоже взрывчатым, с его невероятной концентрацией смысла очень сильно помог Солженицыну, особенно в «ГУЛАГе».
Роман Замятина «Мы» – центральное, безусловно, его произведение, в России при его жизни так и не был напечатан. Он появился в Чехии, потом во множестве других переводов. Это роман, который отражает его опасения 1920 года. Роман очень тесно привязан к 1920 году. Вообще надо заметить, что то время было, как ни странно, расцветом фантастики (хотя что здесь странного?). И самый убедительный портрет Ленина, который содержится в «Гиперболоиде инженера Гарина», о нём мы ещё будем говорить, и самая интересная картина будущих войн, намеченная у Шкловского и Иванова, намеченная в совместном романе «Иприт», и удивительные приключения космической науки в романах Александра Беляева – всё это понятно. Возник новый футуристический проект – естественно, что гадания о будущем становятся главными занятиями не только в России, в Англии и Америке тоже.
Очень интересно, что в это же время уэллсовские пророчества начинают осмысляться по-новому, и главное из этих пророчеств – это вовсе не социальная фантастика Уэллса, не «Машина времени» с делением мира на элоев и морлоков, а прежде всего страшное пророчество в «Острове доктора Моро», история о том, как зверей заставили быть людьми. По большому счёту роман Замятина, англомана, долгие годы жившего в Англии, работавшего там инженером, это диалог с Уэллсом, потому что, по мысли Уэллса, зверь в человеке непобедим, и в этом заключается главная трагедия. А по мысли Замятина главная трагедия как раз в том, что человек может победить в себе зверя, уйти в чистое царство рациональности, которое окажется губительно для человечества.
Об этом роман, в этом главная проблема и главная причина того, что он не сбылся. Вот здесь я вынужден сказать страшную вещь, очень печальную: большинство антиутопий XX века предупреждали о царстве ума, рациональности, о разуме, который отвергнет человеческое, гуманное и победит. Самая наглядная такая антиутопия – это, конечно, «Гадкие лебеди» Стругацких, история о том, как эволюционно скакнувшие люди нового типа – мокрецы овладели невероятными технологиями и силой, но утратили главное – иронию и милосердие. Поэтому, попав в мир этих могущественных людей, главный герой, Виктор Банев, думает: «Не забыть бы мне вернуться в человеческий мир». Обратите внимание, когда картина «Гадкие лебеди» снималась тридцать лет спустя после романа, когда экранизацию делали Лопушанский и сценарист Рыбаков, вечно бунтующий ученик Стругацких, смысл вещи поменялся на прямо противоположный. Там старый мир победил мокрецов, они оказались заперты в психиатрическую больницу. Не мокрецы рисуют в небе квадрат, демонстрируя свою мощь, а девочка рисует на оконном стекле квадратик, сквозь который смотрит звезда.
Победила торжествующая дикость, и это главный итог XX века. Если бы сбылась антиутопия Замятина, это было бы полбеды, это было даже счастьем. Именно такой мир рисует Маяковский во второй части «Клопа», это тем удивительнее, что Маяковский, конечно, не читал романа «Мы», потому что не читал по-чешски. Маяковскому эту книгу пересказал Роман Якобсон, который жил в это время в Чехии и уж как-нибудь по-чешски понимал. У Маяковского то же самое: прозрачные стены, абсолютно рациональное мироустройство, благая диктатура (во главе государства у Замятина стоит Благодетель). В общем, многим этот мир представлялся раем. Замятин боялся совсем не того.
Я в общих чертах напомню вам, что происходит в романе «Мы». Там образцовое тоталитарное государство, построенное на абсолютном разуме и логике. Это немножко напоминает, кстати, фантастику Ивана Ефремова, в особенности «Туманность Андромеды», там тоже мир, построенный на разуме и навязчивом тоталитарном добре. Вспомните, что в мире Ефремова тоже всем управляет мировой суд, мировой процесс. У Замятина всем управляет Часовая Скрижаль, строжайший распорядок дня, есть Благодетель и Машина Благодетеля, такой инструмент казни, который человека распыляет, превращает его в лужу химически чистой воды. Главное занятие – наука, люди строят ИНТЕГРАЛ, космический аппарат для полёта на другие планеты. Иногда у них есть час или два на занятия любовью, на это время можно опустить занавески, всё остальное время мир тотально прозрачен. Всегда есть один постоянный партнёр, которого вам тоже назначают. Вы можете его выбрать, но, разумеется, с верховного одобрения. На общение с этим Номером выдаются розовые билеты. Что касается номеров, всё граждане Единого Государства имеют номера, имена упразднены. Номер – это гораздо рациональнее. В этом смысле, кстати говоря, Замятин предугадал появление знаменитого солженицынского «Щ-851», как сначала назывался «Один день Ивана Денисовича», предсказал номерную систему лагерей, вытатуированные номера в Заксенхаузене и так далее.
Но, конечно, Замятин не имеет в виду, что этот мир похож на концлагерь. Это очень комфортный мир, вот что главное, мир очень управляемый, и в этом смысле Замятин как раз совпадает с большинством западных антиутопий, например, с «О дивный новый мир» Хаксли, эти книги издавали под одной обложкой во время перестройки. Очень комфортный мир, в нём, в сущности, нет проблем. Проблема там одна – отсутствие свободной воли, которая заменена коллективным рацио. Нет больше индивидуальности, есть одно великое «мы». Не случайно в своих записках, из которых и состоит роман, главный герой Д-503 говорит: «“МЫ” – от Бога, а “Я” – от диавола». Очень распространённый тоталитарный подход.
Плюс ко всему в этом романе есть ещё одна достаточно существенная деталь: мир огорожен Великой Стеной. Это нормальное условие всякого тоталитарного сообщества, за этой стеной живут дикие. Кто такие дикие, в общем, не очень понятно. Во всяком случае, тут тоже прослеживается уэллсовское разделение на элоев и морлоков. Весь мир поделился, в большинстве антитоталитарных книг всегда указывалось – это очень тонкая интуиция, очень глубокая, – что развитие человечества пойдёт не единым потоком, а по рогатке двух вероятностей. Это довольно точно почувствовали Стругацкие в своё время в «Волны гасят ветер», это наблюдаем мы сегодня, когда эволюционное разделение стало просто очевидным. Мы пытаемся договориться в рамках одной цивилизационной парадигмы, но уже понятно, что мы договориться не можем. Конечно, любой разговор об этом разделении тут же встречает упреки в фашизме: вы одних считаете недочеловеками, а других – людьми. Ничего подобного! В конце концов, то, что в мире существуют разные национальности и расы, почему-то никого не оскорбляет. Здесь, видимо, пойдёт некое эволюционное разделение.
По Замятину, это эволюционное разделение идёт так. Есть люди, у которых, как говорит главная героиня, «солнечная кровь». Вот эта солнечная, густая, лесная, звериная кровь заставляет этих бородатых гигантов быть независимыми. Они живут в своих лесах, окружающих уникальный город, где-то отдельно, здесь тоже предугаданы Стругацкие с разделением на лес и институт, на дикую жизнь и жизнь заумно-выморочную, очень точная догадка. Они не пытаются проникнуть в город, они сопротивляются колонизации. Между ними существует даже не вражда, а бесконечное отчуждение.
А дальше развивается типичная любовная история – типичная потому, что в большинстве антиутопий любовь и является той силой, которая ломает стены и порядок. Вместо того чтобы любить свою тихую О-90, главный герой встречает женщину I. Не случайно это I, потому что вся она тонкая и стройная, как I, лицо у неё иксом, потому что брови сходятся к переносице, а углы рта опущены, в результате всё лицо как бы перечеркнуто. Между ними начинается страстная любовь, потом выясняется, что она не любит этого Д, конечно. Она его соблазняет. Он – один из строителей ИНТЕГРАЛА, и её задача вместе с лесными людьми, с которыми она находится в контакте, разрушить Стену, направив на неё ИНТЕГРАЛ.
Им действительно удаётся разрушить Стену, люди начинают лихорадочно совокупляться – это первое, что они делают. В Городе появляются птицы, – что самое поразительное, до этого их не было, он был огорожен куполом. В Город врывается дикая жизнь, но потом распорядок берет своё, начинается строительство электроволновой стены, как рисуется инженеру Замятину, надёжней построить стену из волн. А дальше казнят, естественно, I, а над Д-503 производят мучительную операцию: ему ампутируют душу, и он уже без этой случайно отросшей души опять становится абсолютно прежним и радостно пишет: «Мы победим. Потому что разум должен победить».
Это вообще сюжетно очень наивная книжка. Я вам не очень приятную вещь скажу: дело в том, что Замятин, как и Булгаков, в рассказах сильнее, чем в романах. Романы у него всегда либо очень предсказуемые, либо немного дурновкусные. Лучший свой роман «Бич Божий» про Аттилу, роман о судьбах Европы, роман о прафашизме, как он его понимал, он не закончил, есть только первый том, эпос остался недописанным. В принципе, Замятин не романист. Он замечательный новеллист. Такие его новеллы, как «Пещера» или «Наводнение», – на мой взгляд, его лучший рассказ, действительно одна из самых страшных, криминальных, кровавых и при этом тонко написанных историй в русской литературе, замечательный рассказ о любви, ревности, убийстве, или замечательная маленькая повесть «На куличках» – это, безусловно, шедевры.
Что касается «Мы», то в этой книге ощущается ужасное скрещение, несовпадение. Это очень хорошо написанный, очень ярко придуманный мир, в котором происходит древнейший наивный и в общем абсолютно ходульный сюжет. По большому счёту сюжет этот неважен, хотя он потом повторился у Оруэлла. Он, безусловно, знал Замятина, и любовь, взрывающая тоталитарный социум, и конечное поражение этой любви – всё у него расписано. Проблема-то в другом. Замятин очень точно, очень убедительно описал утопию разума, замкнутого в самом себе, обречённого на одиночество, лишённого контакта с внешним миром. Но трагедия на самом деле произошла совсем от другого, и это показано в картине Лопушанского «Гадкие лебеди»: от того, что разум лишился всех своих прав, от того, что восторжествовала дикость, был взят курс на упразднение системы. Будущее выглядело не таким стерильным, как оно рисовалось Маяковскому, не таким экономным и стремительным, как оно рисовалось Замятину в записках Д-503. Лаконичная фраза будущего, всё конспективно, всё разумно – этого всего не сбылось, хотя этого больше всего боялись.
Сбылось другое. Сбылся триумф диких лесных людей, которые по-настоящему и захватили власть, они были объявлены подлинными гражданами. Чем дичее, тем лучше. Курс на дикость, установка на грубость, примитив, на животное, толпу – этот инстинкт победил. Страшно себе представить, хотя очень хорошо было бы, конечно, представить какого-нибудь автора, который бы написал «Они», условно говоря, своеобразное «Анти-Мы», утопию о жизни лесных людей. Вот этой утопией оказался тоталитаризм, потому что лесные люди, когда захватывают власть, гораздо более жестоки, нерациональны, пыточны и страшны, чем люди разума. Да, светлое, стерильное будущее, которое пытались, как кажется Замятину, построить большевики, рациональное будущее, в котором нет места душе, наверно, весьма опасно. Но нельзя сказать, что в мире лесных людей тоже есть место душе.
А I, которая воспользовалась своим несчастным любовником, чтобы захватить ИНТЕГРАЛ, – это сильно духовное существо, может быть? Замятин сам прекрасно понимает, что от неё исходит тонкий яд, и то, как она героически выдерживает пытку под колоколом, когда из-под неё откачивают воздух, не делает её ближе или милее. Да, это мужественное существо, действительно, замечательная героическая женщина, но ведь на самом деле это женщина, для которой нет ничего святого, которая воспользовалась влюблённостью наивного дурака, почуяв в нём какую-то каплю солнечной крови. У него очень волосатые руки, от чего он жестоко страдает. Она воспользовалась им с цинизмом, который достоин Благодетеля. В этом и весь ужас. Конечно, утопия разума – это вред, но утопия без разума, которая построена отчасти в советской России и уж полностью в нынешней России, – это ничуть не альтернатива. Главный страх Замятина перед дисциплиной, нормой, триумфом расчёта – оказался, к сожалению, мимо денег.
Интересно, что Замятин в последние свои годы, уже уехав в Париж, но сохраняя советское гражданство, даже присутствуя на советских конгрессах и вступив в Союз писателей, ничего не писал, кроме «Аттилы». Связано это было, наверно, отчасти с тем, что свои корни он утратил, он жил в языковой стихии, язык чувствовал, как никто. Достаточно прочитать «Блоху», его гениальную переделку Лескова, чтобы понять, как он чувствовал стихию языка. Вообще Замятин очень русский, невероятно русское явление сочетания русского таланта, русской шири с русской же великолепной самодисциплиной. Он, конечно, менее англичанин, чем классический среднерусский инженер-самоучка. Он ничего не писал, потому что утратил связь со средой, но ещё и потому, что мир, с которым он столкнулся, был для него совершенно незнакомым и непредсказуемым. Фашизм, который стал главной опасностью и триумф которого в Европе он застал, исходил вовсе не из разума. Фашизм – это иррациональная стихия, эклектическое учение, учение Гербигера о мировом льде, о титанах, мистические и магические ритуалы. Замятин увидел лицо главной чумы XX века и понял, что, пожалуй, мир Благодетеля на этом фоне ещё очень и очень ничего себе, ведь фашизм и был по-настоящему триумфом дикости, апофеозом невежества. Когда Замятин увидел сожжение книг, он, кажется, понял, что, точно почувствовав запах эпохи, он не различил причин этого запаха. Он молчал от разочарования.
У очень многих русских писателей вторая дата – 1937 год, но не всем им повезло умереть своей смертью. Замятину повезло умереть от инфаркта в 1937 году, вдобавок он страдал от астмы. Он не увидел самого главного – как XX век рухнул в бездну из-за диких людей. Тем не менее он, хотя и не успел напечатать свой роман в России, успел увидеть дичайшую проработку 1928 года, когда его и Пильняка люто травили за книги, напечатанные за рубежом. Замятина – за то, что он там напечатал «Мы», правда, в переводе, а Пильняка – за «Красное дерево», из которого он потом сделал роман «Волга впадает в Каспийское море». Криминал был не в романе, а в том, что он был напечатан за рубежом. Это тогда всех взорвало, Маяковский их тогда сильно травил. Но вот что интересно: про Пильняка он говорил много гадостей, а про Замятина – ни одной, видимо, он как-то почувствовал, что многим обязан ему как художник. А может быть, просто в Замятине было что-то, что заставляло его уважать.
Это же заставляет нас уважать и эту книгу, безусловно, великую, неумелую, спорную, книгу, которая в конечном итоге промахнулась, но книгу, которая верно почувствовала главное – то, что главной интенцией XX века будет исчезновение личности. Замятин об этом предупредил, а сделать с этим ничего не смог.
С чем связано эволюционное разделение?
Всякий раз, как я заговариваю об этом разделении, я иногда натыкаюсь на восторг, иногда – на неприятие. Равнодушным оно никого не оставляет. Видимо, потому, что это самая тонкая, глубокая интуиция, которая вообще может посетить человека. Мы появляемся из белых шаров, а белые шары появляются из нас. Понимаете, в чём ужас? Любая структура, любое существо на известном эволюционном этапе – это может касаться компьютеров, людей, растений – переживает какое-то дуальное разделение. Я не знаю, почему так происходит, Бог так устроил, но в известный период жизни всё делится на Apple и Microsoft. Объяснить это я не могу.
Мне не очень понятно, по какому критерию произошло это разделение. Это не разделение на умных и глупых, на диких и цивилизованных, как предсказывал Замятин, на элоев и морлоков, как предсказывал Уэллс. Там одни утонченные и бессильные, другие сильные и грубые. Даже Ланг с его «Метрополисом», где одни живут наверху, а другие работают внизу, тоже не угадал. Я рискну предположить очень осторожно, что это разделение идёт по трудно объяснимому критерию. Одни люди более эффективны, когда они работают в массе, а другие – когда в одиночку. То есть это люди массы и одиночки. Поэтому и разделение пойдёт на массу, такой «человейник», и на одиночек, которые могут работать вне его, условно говоря, на мир Благодетеля и на мир диких людей, которые живут в диких лесах поодиночке, которые не объединяются ни во что. Кто будет эффективнее, я не знаю. Мое предчувствие – эффективнее будут одиночки. Поэтому сегодня социальный аутизм – болезнь, широко распространившаяся. Это люди, которые жалуются на то, что они не хотят общаться, что им никто не нужен. А другие всё время общаются, чатятся, пишут что-то в этих гаджетах, всё время вливаются в социальную сеть. Мир разделится на тех, кто онлайн, и тех, кто оффлайн. Победят те, кто оффлайн, так мне видится.
Николай Гумилёв
«Шатёр», «Огненный столп», 1921
Так получилось, что 1921 год – одновременно год смерти Гумилёва и его наивысшего творческого взлета. Я рискну сказать, что Гумилёв вообще единственный русский поэт, кроме Лермонтова, убитый на взлёте, и это наводит на мысль то ли о каком-то страшном сбое божественной программы, что тоже возможно, то ли о каком-то божественном умысле, который мне пока непонятен.
Есть одна важная закономерность: автора не убивают, пока он пишет главную книгу. Господь – читатель, ему нужна эта книга. Поэтому пока вы заняты делом, вас оберегают. Единственный раз, на мой взгляд, Господь вмешался, убрав Диккенса в момент работы над его лучшим романом «Тайна Эдвина Друда», потому что в несовершённом и несовершенном виде этот роман оказался гениальнее, лучше, чем если бы Диккенс его дописал и тайна бы объяснилась. А так тайна осталась навеки нераскрытой, по крайней мере для живущих.
Что касается Гумилёва, то он погиб как Лермонтов, он очень много общего имеет с Лермонтовым. В обоих случаях это глупая смерть, смерть в результате личного вызова, немного похожая на самоубийство. И Гумилёва, в общем, не должны были арестовывать по несуществующему «Таганцевскому заговору», и Лермонтова не должны были убивать на дуэли, которую он сам инспирировал, которая не имела реального повода. Её можно было замирить, в общем. Но в обоих случаях эта случайная смерть наступила после создания лучших текстов и циклов. Лермонтов всё своё лучшее написал в 1841 году, Гумилёв, хотя у него были и шедевры до этого, всё своё лучшее написал в 1920–1921 годах. То ли действительно после этого наступил бы предсказуемый спад, то ли здесь случился какой-то странный сбой программы, потому что Господь действительно не за всем может уследить.
Судьба его очень похожа на лермонтовскую, для этого достаточно сравнить поэмы «Миг» и «Мцыри», тем же четырёхстопным ямбом с мужской рифмой, на тот же сюжет. Тот же интерес к Востоку, общий интерес к исламу, фатализму, ницшеанство, у Лермонтова ещё не осознанное, у Гумилёва вполне сознательное. В общем, много общего у них: героизм, участие в войне, даже внешнее сходство есть. То, что оба были так некрасивы и так притягательны для женщин, и то, что взгляд их было так трудно вынести. Конечно, Гумилёв и Лермонтов – самый прямой случай инкарнации. Как есть духовидение Лермонтова, его изумительные пророчества, его сладкозвучнейшие в русской поэзии стихи, которые, я думаю, во многих отношениях даже не равны пушкинским, а идут впереди, точно так же и Гумилёв, которого Ахматова называла поэтом-духовидцем, глубочайший, сложнейший поэт XX века, увидел перед смертью что-то, что не дано увидеть обычным смертным. Именно поэтому большинство его поздних стихов – вдохновенные импровизации. Почти всегда эти тексты сочинялись мгновенно, он сам с изумлением признавался, что «Заблудившийся трамвай» ему кто-то как будто продиктовал. И действительно, непонятно, откуда этот «Трамвай» взялся. Такое стихотворение может прийти только в результате внезапного озарения. Я думаю, Гумилёв его сам не понимал. Он всё время говорил, что это стихотворение гениально, но ему не ясно, про что оно.
Очень многие стихи, тексты апеллируют не к загробному, а к какому-то дочеловеческому опыту, опыту мистическому. Например, самое знаменитое стихотворение «Память»:
Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведёшь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребёнок,
Словом останавливавший дождь.
Дерево да рыжая собака —
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.
Здесь, кстати, довольно интересная штука, потому что когда Гумилёв был в Англии перед возвращением в Россию (он был командирован Генеральным штабом в Европу в 1917 году, когда армия уже рушилась), там он познакомился с Честертоном. Честертон сильно впечатлился и сказал: «Именно общаясь с русским поэтом, я понял, что для русского одинаково естественно выйти в дверь или в окно. Не нужно особенно удивляться их эксцентричности». Гумилёв втирал ему про то, что миром должны управлять поэты, потому что поэт всё время делает самый эвфонический выбор, выбирает из миллиона комбинаций одну самую сладкозвучную, поэтому уж принять государственное решение он как-нибудь сможет. Он рассказал о своих детских экспериментах в Царском Селе, о том, что он выходил во двор, приказывал не быть дождю – и дождь прекращался. Честертон этим воспользовался: у него в рассказе «Преступление Габриэла Гейла» герой, очень самовлюблённый малый, приказывает одной из двух дождевых капель, соревнующихся на стекле, течь быстрее. И она повинуется его приказаниям. На этом основании он считает себя Богом. И только когда его сумели пригвоздить к дереву вилами, он понял, что не всемогущ. Ему эти вилы не принесли никакого вреда, это была такая рогулька, но он убедился, что он не Бог, и это вернуло его в здравый ум. Это очень здорово у Честертона написано, но Гумилёв действительно был уверен в каких-то своих оккультных способностях с детства. Может быть, чем чёрт не шутит, он что-то такое и умел.
И второй… Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь – его подруга,
Коврик под его ногами – мир.
Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царём,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.
Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.
Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.
Кстати, Блок тоже измывался над этим, хотя любил Гумилёва как поэта. Он говорил: «Всё-таки Гумилёв удивительный человек. Все ездят в Париж, а он в Африку. Все ходят в шляпе, а он в цилиндре. Вот и стихи такие, в цилиндре». Между прочим, это не мешало Блоку делать ему вполне уважительные инскрипты вроде «Николаю Гумилёву, чьи стихи я читаю не только днём, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю». Вот это очень символическое признание.
Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променял весёлую свободу
На священный долгожданный бой.
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.
Я – угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
И тогда повеет ветер странный —
И прольётся с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвёл нежданно
Садом ослепительных планет.
И вот здесь у него какое-то очень странное пророчество, смысла которого мы не понимаем до сих пор. Оно аукнется у него и в «Заблудившемся трамвае»:
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
Что он имеет в виду? Это то же самое, что в таком же пророческом делириуме увидел его младший друг и воспитанник Мандельштам, который был членом «Цеха поэтов», любимым гумилёвским учеником. Именно Осип Мандельштам, которого Гумилёв так ценил, увидел в своей оратории «Стихи о неизвестном солдате» эти же «золотые созвездий жиры», увиденный снизу суп, в котором плавают эти жиры созвездий. Что означают эти звёзды, которые ему виделись, звёзды, которые внезапно раскрываются как соцветия: «Млечный Путь расцвёл нежданно садом ослепительных планет»?
Вообще есть две основные трактовки этого предвидения. Первое – это космическая война, война, идущая из космоса. «Стихи о неизвестном солдате Мандельштама – это пророчество о мировой войне, не обязательно Второй. Это пророчество об апокалипсисе. Действительно, эти два пророческих текста, два «Апокалипсиса» XX века – «Огненный столп» Гумилёва и мандельштамовские «Стихи о неизвестном солдате». Видимо, только эти два человека, один в силу своей невероятной дисциплины, другой в силу невероятной поэтической чуткости, два акмеиста смогли увидеть страшное будущее человечества. Не случайно одна из главных поэм Гумилёва называется «Звёздный ужас». То, что они увидели там, по одному толкованию, это космическая война. По другому объяснению, это, наоборот, космическое будущее человечества, космическая утопия, бегство человечества с Земли. То, что сад планет расцветает, значит, что люди приближаются к этим планетам, потому что покинули Землю. Колыбель человечества стала им тесна. Но как бы то ни было, Гумилёв провидит в стихотворении «Память» этот странный, взрывающийся, расцветающий космос, в котором люди, видимо, поселятся.
Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но всё пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.
Крикну я… но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.
С этим немножечко искусственным повтором стихотворение закольцовано на пороге главного признания, открытия. Он так и не договорил, что же это было, почему душа умерла. Душа ведь по определению бессмертна. Почему ему кажется, что в этом новом мире, которого он дождётся, душа должна умереть?
Ещё одно важное пророчество Гумилёва, содержащееся в «Огненном столпе», показывает эволюцию человечества в сторону появления нового чувства, которое будет, условно говоря, некоторым аналогом телепатии. Шестое чувство – это тот же третий глаз, о котором он много пишет и говорит, способность понимать невидимое, видеть скрытое, коммуницировать на расстоянии. Ему это рисовалось как неизбежный венец эволюции:
Прекрасно в нас влюблённое вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.
Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем…
Здесь, конечно, грандиозный взлёт интонации, это очень здорово поддержано скрежещущим звуком, уже почти футуристическим:
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Ещё не появившиеся крылья;
Так век за веком – скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Вот это, кстати говоря, «под скальпелем кричит наш дух» – тоже немножко отсылает, конечно, к «Острову доктора Моро», в котором, под скальпелем крича, зверь становился человеком. Уэллс – один из любимых писателей русских символистов, акмеистов, далее везде. Очень не случайно здесь совпадение Гумилёва и Замятина.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































